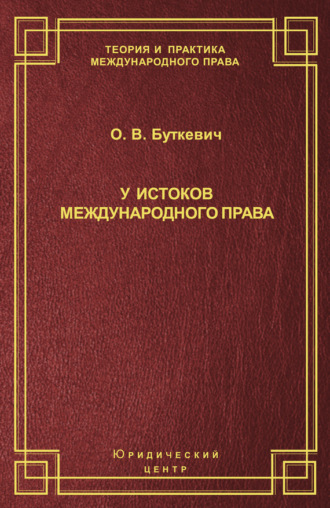
Полная версия
У истоков международного права
Ряд авторов считали, что для появления международного права необходим определенный уровень культуры государств и наличие общих культурных ценностей. Такой подход был особенно характерен для представителей российской дореволюционной науки международного права. Поэтому они приходили к выводу, что «ни этого права, ни культурного общества государств, как они окончательно являются в новый период истории, начинаемый обыкновенно с XVI в., не существовало в древности, когда государства были изолированными и враждебными друг к другу»[27]. Важнейшим условием возникновения международного права Ф. Мартенс называл «осознание народами своих потребностей, духовных и материальных, удовлетворения которых они не находят собственными способами, в пределах своих территорий»[28].
Лишь некоторые исследователи предпринимали попытки классифицировать факторы, необходимые для возникновения международного права. Предложенный наукой фактор его появления, а именно – наличие нескольких независимых государств, связанных между собой общностью культуры, Л. Камаровский назвал лишь предварительным условием появления международного права[29]. К «объективным, фактическим основам международного права» он относил те, которые не зависят от чьей-либо воли, а являются изначально свойственными народам, у которых появилось международное право. Среди них он называл: «1) физические особенности Европы; 2) племенное родство европейских народов; 3) их родство духовное; 4) параллельность всего их исторического роста и развития»[30].
М. Таубе предложил более широкий перечень условий, соблюдение которых позволяет говорить о возникновении международного права, хотя их можно назвать обобщением всего того, что было сказано прежде. «Для существования международного права необходима наличность нескольких государств (как суверенных его субъектов), связанных и одушевленных тремя основными кардинальными идеями, совокупность которых и образует из себя великую идею международного общения: а) идея культурного единства, то есть сознание государствами своей принадлежности к одной культурной группе; b) идея равенства, то есть признание государствами друг за другом одинаковой право– и дееспособности, сознание ими общей равноправности, юридического равенства в семье народов; с) идея права, то есть сознание государствами необходимости известного правопорядка во взаимных отношениях»[31].
На таких позициях оставались европейские ученые и впоследствии. Л. Оппенгейм, определяя необходимые для появления международного права условия, практически повторял рассуждения своих предшественников: «Необходимость в международном праве не возникала до тех пор, пока окончательно не образовалось множество государств, совершенно друг от друга независимых…Прогресс международного права самым тесным образом связан повсюду с победой конституционного правительства над неограниченным, или, что то же самое, – с победой демократии над автократией… Прогрессивное развитие международного права зависит главным образом от уровня общественной нравственности»[32]. Практически повторял исследователей XIX – начала XX в. Дж. Браерли, считая предпосылкой появления международного права систему современных европейских государств с их атрибутами (суверенитет, территория, гражданство) и осознание ими необходимости мирных отношений, подчиненных праву[33]. Подобные, довольно общие, взгляды высказывал П. Гуггенгейм, рассматривая «существование независимых государств как условие формирования международного права»[34].
Некоторые приверженцы данной теории появления международного права (X. Лаутерпахт, Э. Нис и др.) основывали свою позицию на том, что именно в Средние века появляется доктрина, или наука международного права (итальянская и испанская школы), основополагающие теоретические труды Ф. Витториа, Ф. Менчаги, Д. Сотто, Б. Айалы, А. Джентили, Ф. Суареса, Г. Гроция, С. Пуффендорфа и др. Исходя из этого, появление международного права стали датировать разными этапами Средневековья. Началом зарождения международного права согласно этому воззрению предлагалось признать становление испанской, итальянской, нидерландской, английской или немецкой школ права и т. п. Приверженность исследователей такой позиции опять же заставляла их рассматривать международное право как продукт европейской цивилизации. Подтверждение этому они находили в авторитетных источниках. Так, Г. Гроций разделял международное право на простое право народов и право лучших народов: «И таково положение позднейшего права народов, – писал он о гуманизации войны, – но не всех, но самых лучших из них»[35].
О недостатках такого подхода свидетельствует то, что его приверженцы в основу возникновения и становления целой правовой системы полагали лишь один из его вспомогательных источников – доктрину.
Принимая за основу возникновения международного права (или как его свидетельство) появление классических теоретических работ науки международного права, исследователи, во-первых, достаточно произвольно избирали авторов и произведения, а во-вторых, недооценивали соответствующую международно-правовую мысль в предыдущие эпохи и периоды. Констатация появления международного права в рамках этого подхода в основном сводилась к упоминаниям о трудах Г. Гроция, Э. де Ваттеля и некоторых других классиков. Практически не упоминались произведения Св. Августина Блаженного, Фомы Аквинского, других ведущих деятелей церкви, в которых главное место отводилось вопросам международного права, не говоря уже о более ранних свидетельствах зарождения международно-правовой науки или существования его предпосылок. Это воззрение привело к тому, что появление науки международного права да и просто международно-правовой мысли стали датировать периодом европейского Средневековья. Затем, оно обусловило невнимание к предыдущим этапам и эпохам формирования международно-правовых взглядов, исследование которого надлежит начинать еще с древнего периода[36].
Правда, это основание для датировки возникновения международного права нельзя считать вполне самостоятельным. Оно зародилось в рамках соответствующего направления и призвано лишь послужить еще одним аргументом в пользу общей концепции датирования.
Однако, даже обосновывая возникновение международного права в Средневековье, авторы указывают на факторы, характерные и для древнего периода. Так, в целом условия появления международного права сводятся у них к следующим: 1) наличие определенного количества суверенных государств; 2) приблизительно одинаковый уровень культурного развития государств, который их объединяет, и осознание ими этого культурного единства; 3) существование у этих государств общих международных интересов; 4) осознание государствами необходимости урегулирования своих взаимоотношений нормами права.
Рассмотрев эти факторы, можно прийти к следующим выводам: во-первых, не все они характерны для развития государств и межгосударственных отношений именно периода Средневековья, во-вторых, не все они являются необходимыми условиями для возникновения международного права. Само существование нескольких независимых друг от друга государств является характерным и для древнего периода, причем для констатации факта существования между ними международного права не обязательно, чтобы эти государства имели все черты, свойственные современным государствам[37].
Приблизительно одинаковое культурное развитие государств также не является решающим фактором возникновения международных отношений. По мнению О. Ниппольда, «нет никаких оснований рассматривать равенство цивилизаций как необходимое условие для того, чтобы государства вступали в международно-правовые отношения»[38]. На их появление влияют прежде всего факторы политического, военного, экономического характера. Многие факты свидетельствуют о существовании в древнем мире международно-правовых норм, неуклонное соблюдение которых государствами с различным культурным уровнем сделало возможной реализацию ими своих международных интересов. Хотя относительно государств древности нельзя полностью отрицать, что они находились на приблизительно одном этапе цивилизационного развития.
Что же касается наличия у государств общих интересов, то непоследовательной представляется идея Л. Оппенгейма о том, что «в древности не возникало международных интересов, обладавших достаточной силой для того, чтобы связать воедино все цивилизованные государства, приблизить их друг к другу, объединить их в общество народов», поскольку сам автор далее вынужден признать, что «с другой стороны, ни один народ не мог избежать соприкосновения с другими народами», а это больше отвечает историческим фактам[39]. О том, что в древности все же существовали общие интересы, способные объединить государства, свидетельствует широкая практика заключения межгосударственных не только двусторонних, но и многосторонних союзов по политическим, экономическим, религиозным вопросам, которые, кстати, обязательно оформлялись международным договором. Можно назвать лишь некоторые из многочисленных тому примеров: образованный с целью ослабления военного могущества Ассирии южносирийский союз во главе с Дамаском (50-е гг. IX в. до н. э.); северосирийский союз Арпада (743–740 гг. до н. э.); союз Арпада, Дамаска, Самарии, Гаци и Египта (720 г. до н. э.), антиассирийские коалиции, созданные Урарту (719–717 гг. до н. э.); конгрессы древнекитайских государств Чен-Ту (632 г. до н. э.), Вен (632 г. до н. э.), Шу-Тай (655 г. до н. э.); союз китайских государств под эгидой царства Чжоу в середине VI в. до н. э. и др. Греческие полисы создавали военные и религиозные союзы, наиболее важными среди них были Первая и Вторая Афинские лиги и Пелопонесская конфедерация во главе со Спартой, Первая (478 г. до н. э.) и Вторая (377 г. до н. э.) морские лиги, Коринфская симмахия (395 г. до н. э.), Эллинское (481 г. до н. э.) и Коринфское (338–337 гг. до н. э.) мирные объединения и др.). Подобные же союзы между государствами древней Индии (например, союз североиндийских государств во главе с Магадхой VI–IV вв. до н. э.), Мессопотамии свидетельствуют о существовании у них общих интересов. Некоторые авторы, ссылаясь на заключенные такими объединениями между собой или с третьими государствами договоры, считали их субъектами международного права того времени[40].
Относительно непосредственно а) правового урегулирования международных отношений государств Древнего мира и б) осознания ими необходимости такого урегулирования, существует много доказательств, которые следует рассмотреть детальнее. Во-первых, практически все вопросы международных отношений того времени подлежали договорному урегулированию, договорная база древних Египта, Мессопотамии, Хеттского государства, Ассирии, содержащаяся только в уже выявленных на сегодня источниках, охватывает таких вопросов сотни. Во-вторых, лишь осознанием необходимости правового урегулирования своих отношений можно объяснить принятие древними государствами принципа неуклонного и добросовестного соблюдения международных договоров. Мысль о существовании уже в древности осознания необходимости правового регулирования международных отношений высказывал, в частности, академик Л. Алексидзе: «Очевидно, что попытки обосновать обязательность правопорядка, установленного внутри того или иного общества или между государствами, имели место и на более ранних этапах мировой истории, начиная с древности»[41].
Еще одним фактором, который якобы свидетельствует об отсутствии международного права в древние времена, считали гастые войны, состояние постоянной вражды между народами и т. п.[42] В свое время Г. Мен вынес четкий приговор международному праву: «Никаких сомнений не может быть в том, что это утверждение отвечает действительности. Не мир, а именно война была естественным, первобытным и древним состоянием. Война является настолько же старым понятием, как и само человечество, а вот мир является современным изобретением»[43]. Эту идею автор пытается доказать на примере института военнопленных и отношения к раненным в древний период. Зачастую существование войн связывали с тезисом об отсутствии у древних народов культурного и цивилизационного взаимодействия[44].
Однако и этот аргумент не выдерживает критики. Во-первых, существование войн между государствами, насилие и агрессия в международных отношениях еще не дают основания говорить об отсутствии международного права (или хотя бы о его неэффективности). Утверждение, будто международное право не существует постольку, поскольку существуют войны, является чуть ли не тем же самым, что и отрицание национального права государства на основании фактов нарушения в нем закона. Современные же исследования (со второй половины XX в.) доказывают, что постоянное состояние войны и враждебности между народами невозможно как в результате физической, материальной, финансовой, экономической и др. невозможности вести постоянные войны из-за их большой затратности, так и в результате необходимости сотрудничества между государствами (прежде всего в экономической сфере). В частности, в регионе Древнего Египта, по мнению Д. Прусакова, военная сила не могла быть единственным способом разрешения конфликтов хотя бы потому, что в то время, в условиях материально-технической и административно-хозяйственной незрелости египетского общества и экологических проблем, военная гегемония априори не имела перспектив, а основой создания взаимовыгодных отношений становился международный договор[45].
Во-вторых, правовое урегулирование вопросов ведения войны, статуса военнопленных, оккупированной территории и ее гражданского населения в Древней Индии, Египте, Хеттском государстве, Греции, Риме свидетельствуют о высоком уровне развития этих институтов. Исследователю истории международного права важен уже сам факт правового урегулирования вопросов войны, а не то, какая мера гуманности его характеризовала. Хотя и формирование понятия гуманизации войны также, как будет показано, относится к древнему периоду. Поэтому, если одних исследователей анализ древних военных отношений приводил к выводу об отсутствии международного права в тот период, то для других они были чуть ли не главным аргументом в пользу существования эффективного международно-правового регулирования[46].
Согласно выводам многих исследователей, например, Ф. Лорана, как раз вокруг войн завязывались отношения между государствами Древнего мира. Война, по мнению Ф. Мартенса, служила могущественным средством для сближения народов… Кроме того, война являлась орудием, при помощи которого народы знакомились друг с другом. По заключении мира эти народы завязывали мирные сношения и распространяли плоды своей образованности в чужих землях[47]. Войны способствовали развитию торговли, международных отношений, с одной стороны, и развитию международного права, соответствующих его институтов и принципов – с другой. Следует отметить, что подобные взгляды были свойственны и древним мыслителям. Так, по мнению Гераклита, «следует знать, что война является общей. Война – “отец всех” и “царь всех”. Одних она делает богами, других – людьми, одних делает рабами, других – свободными».
Положение же о «постоянстве» войн в Древнем мире не отвечает историческим фактам.
Определенное преувеличение отрицательного значения войн в древний период отмечалось еще в XIX в. профессором В. Незабитовским, утверждавшим, что в древности и в Средние века воевали холодным оружием и врукопашную, а потому войны были преимущественно кратковременны и некровопролитны[48]. В XX в. этот тезис продолжил П. Сорокин, предложив свою теорию флуктуаций. По его мнению, «революции и войны являются не чем другим, как логическими и фактическими последствиями возникновения дезинтеграции постоянной системы отношений»[49] (если система стабильна, то войне должен предшествовать длительный период мирного формирования, становления и развития). Таким образом, война объективно не может быть постоянной. Далее П. Сорокин предлагает на основе анализа и сопоставления продолжительности войны, численности населения стран, численности их армий, интенсивности военных действий и т. п. сравнить войны Античности, Средневековья и Новейшего периода. Сравнение войны 1914–1918 гг. с войнами Средних веков, которые продолжались столетиями, но заключались в нескольких битвах, и с войнами Древней Греции VI–II вв. до н. э., сопровождавшимися резким всплеском в развитии научной и философской мысли античности, – не в пользу современности. Следовательно, «простое число военных и мирных лет является неадекватным показателем динамики войны и мира»[50], а именно на нем основываются исследователи, когда настаивают на преобладании войн в древних международных отношениях и на этом основании отрицают существование древнего международного права. Относительно Древнего Рима исследователь на основе аналогичного анализа вообще делает вывод о том, что «способность римлян поддерживать Pax Romana с помощью небольших военных операций поражает. Pax Romana в пределах огромной Римской империи был, безусловно, прекрасно организованным мирным сосуществованием»[51]. Теория флуктуаций, выражая саму сущность, или природу международно-правовых отношений, которые развиваются часто по кругу, отражает и особенности чередования военных и мирных периодов древней истории.
Само понятие войны находилось в древний период под эгидой естественного права. Отсюда – определенные особенности, отличия права войны в древности, с одной стороны, и его непонимание специалистами-позитивистами – с другой. Поэтому роль и место войны в древнем обществе ими неоправданно преувеличивались[52]. По мнению современных исследователей возникновения международного права, «наличие мирных межгосударственных отношений само по себе нельзя считать обязательной основой возникновения международного права…Мера “мирности”, “гуманизма” международных отношений в разные эпохи различна. Связывать возникновение международного права лишь с той из этих эпох, в которую эта мера достаточно велика, необоснованно»[53]. Мы уж не будем говорить о распространенной теории (воспринятой советской доктриной) войны как следствия усложнения военной организации общества и как средства укрепления власти вождей племен, превращения племени в единый народ, усиления процессов стратификации общества.
Таким образом, большинство аргументов, предложенных для доказательства появления международного права именно в средневековой Европе, не согласуется с научными фактами. Впрочем, продолжительность существования и авторитетность данной позиции можно объяснить долговременным отсутствием в международно-правовой науке исторических свидетельств (в том числе документальных) древнего периода. Точки зрения сторонников возникновения международного права в Средние века наиболее точно изложил Г. Еллинек. Называя международное право самой поздней по времени возникновения отраслью права, он утверждал, что «древние восточные и античные государства развили некоторые, вызванные потребностями международного оборота, правовые положения, но не создали международного права, хотя само слово и понятие были известны римлянам. Возможность правопорядка для самих государств осталась чуждой сознанию Древнего мира… Лишь в среде христианских государств, связанных между собой многими культурными элементами, объединенных в Средние века единой церковью, к началу Нового времени зарождаются идеи и сознание международного права»[54]. Выраженная в начале прошлого века, эта мысль еще и до сих пор не теряет своего авторитета, несмотря на новые научные открытия в сфере как международного права, так и международных отношений, а также истории международных отношений, антропологии, правовой и общей истории, социологии и др.
2. Датирование возникновения международного права древним периодом
Следующее направление, которое изучает возникновение международного права, появилось несколько позже, и на него повлияли в частности археологические, этнографические и исторические открытия второй половины XIX в. Они показали, что в древний период существовала развитая система международного общения, и подтвердили это разнообразными правовыми источниками (дипломатическими письмами, договорами, правовыми сделками). Данное направление в датировке появления международного права исходило из того, что еще в Древнем мире государства в своих взаимоотношениях руководствовались правовыми нормами и институтами, а, следовательно, ученые, которые этого направления придерживались, стояли на позициях существования международного права в древний период. Профессор П. Казанский считал, что историю международного права «можно начинать с тех пор, когда начинается история человеческих обществ… Никак нельзя согласиться с теми исследователями, которые вообще отрицают существование международного права в древности»[55]. Для подтверждения своего взгляда он приводил в пример институты и принципы международного права, которые существовали в международных отношениях Древнего мира.
Как правило, существование международного права в древности признавали те ученые, которые специально занимались исследованием истории этого периода. Основываясь на глубоком изучении истории международного права, академик В. Э. Грабарь сделал вывод, что следует «прежде всего отрешиться от предвзятого мнения, что в древности не существовало международного права»[56]. В западной науке идея существования международного права в древний период находила больше сторонников. Так, например, Т. Уолкер в работе «История права народов» писал: «Международное право, будучи воплощением практики государств, со всей очевидностью может начинаться с появлением государств или со времени, когда государства начали осознавать свое совместное, взаимосвязанное сосуществование и ощутили для себя необходимость международных взаимосвязей, а потому добровольно признали его в таком качестве в отношениях между собой»[57]. Подобную мысль, что «история права народов охватывает всю историю человечества», выразил Э. Нис, рассматривая уже само существование нескольких государств как достаточную предпосылку образования международного права[58]. (Однако этого ученого с трудом можно отнести к абсолютным сторонникам существования международного права в древности, поскольку его появление он связывал скорее с деятельностью по изучению древнеримского jus gentium ученых-юристов и пробуждением научного интереса к наследию римского права; основным критерием возникновения международного права для Э. Ниса было появление международно-правовой доктрины).
Приверженцы существования международного права в древний период основывали свои аргументы на существовании международных обычаев, распространенной практике заключения международных договоров и т. п., указывали они также и на наличие тех или иных институтов международного права[59]. Исследователь международного права Древнего Китая В. Мартин считал, что группа государств, постоянно поддерживающих между собой отношения войны и мира, не может не создать на практике систему норм для их урегулирования. «Мы находим 1) политические и торговые отношения между государствами; связи, которые нельзя поддерживать без общих принципов; 2) обмен посольствами с церемониалом, свойственным достаточно развитым цивилизациям;
3) международные договоры формально в письменном виде заключенные, торжественно подписанные и сохранявшиеся в священном месте;
4) политическое равновесие сил, хорошо осознанное и позволяющее осуществлять такие комбинации, которые поддерживают силу сильных и защищают право слабых; 5) признание и уважение прав нейтральных; 6) создание класса профессиональных дипломатов»[60].
И в самом деле, тщательный анализ международных отношений в Древнем мире показывает, что у государств существовали постоянные взаимные интересы, которые не только объединяли их и содействовали развитию межгосударственных отношений, но и вызывали к жизни необходимые для их урегулирования институты международного права (такие, как статус послов, статус иностранцев, ответственность за нарушение соглашений, выдача преступников другому государству, институты права войны, дипломатического, торгового права и пр.). Сходство подобных институтов в разных регионах Древнего мира дало основание С. А. Корфу считать, что «эти институты создала не наша цивилизация, а каждая цивилизация имела целую их систему; они являются необходимым продуктом социальной жизни, и… они везде отличаются общностью черт и не принадлежат исключительно Европе»[61]. Предлагая не социальную, а биологическую характеристику права, Дж. Ссель делал тот же вывод относительно появления международного права, отмечая его биологические истоки[62]. Исходя из этого, он считал, что «всегда существовало международное право, или межгрупповое право, в котором обычные или конвенциональные нормы имели целью урегулировать коллективные отношения между человеческими сообществами и отношения между отдельными индивидами»[63]. Близко к этой позиции находятся те, кто рассматривает право как один из основных признаков человечества («саморегуляция как признак человечества»[64]); следовательно, и появление права является естественным следствием появления человека.

