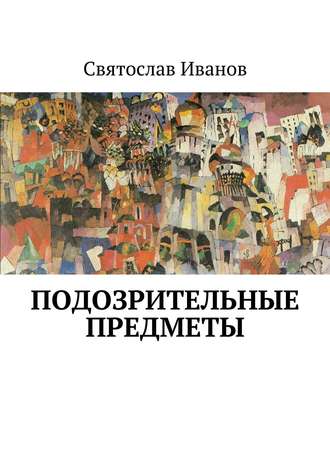
Полная версия
Подозрительные предметы
Миша похож на игрушечного медведя или медведя из иллюстраций в книжках. Настоящего в зоопарке мы тогда так и не дождались – он прятался в берлоге. Ну и хорошо, раз похож на своё имя. Миша неожиданно ловко подцепляет где-то в траве червяка, кидает его на светлое место изучаемой нами бежевой почвы. Он аккуратно заносит над червём свою рабочую ветку и делит живое существо на две части. Расчлененный червь корчится в предсмертных муках, я смотрю на товарища с недоумением. Миша триумфально поднимает вверх веточку и кричит: «Два червяка!». Если быть точным, «р» он не выговорил, мы оба ещё этому толком не научились, но мне это уже режет ухо.
Умирать-то, говорю, как страшно, к слову сказать! Слёзы, моря, чайные ложки, а потом – тссс! – тишина и больше ничего. Слышал про такое, Миш? Однажды была у нас в квартире, как говорили, утечка газа – и кто-то из родных спичкой чиркнул, его и опалило. Криков-то было, ты бы видел, скорая приезжала, я только разглядеть не успел, кого она забрала, всё носился беспорядочно по квартире и мешался под ногами в коридоре, на меня прикрикивали и чуть не наступали. Ну ничего, вроде все живы остались, а то как подумаю, жутко становится – все бы, вшестером в трёхкомнатной квартире, все бы на воздух взлетели, если бы чуть больше газу утекло – ты себе представляешь? И сестра, и родители, и дедушка-бабушка – все чуть не умерли! Я сам чуть не умер!
Миша лупит глаза и неуверенно вопрошает: «И… ты не умер?» и внимательно ко мне присматривается. Я сам не свой от непонимания: кажется, этот медведеподобный человек ещё не знает, что такое смерть. Конечно же не умер, ты не видишь что ли? Миша жмёт плечами или что-то в этом роде.
Вот в чём дело, вот почему все такие весёлые, а я такой угрюмый: они ещё не знают. А может и вообще не узнают, проживут себе всю жизнь радостными и глупенькими (по возможности смягчим слово, хотя всё равно довольно грубо, однажды я маме сказал: «Ты что, глупенькая?» – и она очень расстроилась). А я знаю, я знаю, что такое смерть! Вот так удача!
Я начал бегать вокруг веранды, размахивая руками вокруг головы и крича несуразицу. Не знаю, зачем. Прибежал кто-то ещё из товарищей по несчастью: они крутили пальцами у виска, а я подбегал к ним и кричал: «Я знаю! Я знаю!» и продолжал бег. Когда подошла какая-то из злых тёток, я с разбегу наскочил на ствол дерева и с небывалой ловкостью взобрался на какую-то ветку, до которой никто не мог дотянуться.
Я знаю! Я знаю! На весь мир я смотрел сверху вниз, впервые в жизни осознавая свою значимость, обособленность, мощь. Казалось, на меня смотрят не только человек тридцать товарищей и несколько слишком добрых женщин, но и соседствующие «веранды», деревья, кусты и клетчатые девятиэтажные дома.
Озадаченные, работницы детского сада (все как одна, с ярко накрашенными губами и голубыми глазами) находили себя слишком солидными, чтобы карабкаться на дерево. Пришлось вызывать электрика из близлежащего ЖЭКа, который поставил под моей веткой стремянку и спустил меня с небес на землю. Но сколько бы они не отпаивали меня чаем и не измеряли температуру, им было не понять моего чудного открытия, о котором я не мог объясниться.
Сумерки, заснеженный склон горы. Уставший лыжник стоит и любуется на пейзаж, отпивая из термоса. Звучит крайне умиротворяющая музыка, и турист то ли видит на самом деле, то ли ему мерещится – зеленоватая в ярко-жёлтый фрактал бабочка парит среди ветвей близлежащей ели, увешанной, кстати, ещё и рождественскими украшениями. Вдали виднеются огни деревенских домиков и шикарной гостиницы.
Вдруг турист оборачивается, услышав подозрительный шум. Приняв приближающуюся фигуру за своего знакомого, он радостно окликает его, но когда ему удаётся разглядеть, кто перед ним, он оборачивается и пускается в бегство.
Наутро – яркий солнечный свет – хладный труп лыжника обнаруживают в какой-то паре сотен метров от гостиницы, где царило праздничное веселье. Мертвеца обнаруживает одна из постоялиц отеля – широко известная в узких кругах певица кабаре, по совместительству пышная блондинка и хрупкая любительница приключений. Несмотря на свой бойкий характер, молодая дама кричит и закрывает лицо руками. Лыжник изуродован до неузнаваемости. Другой турист – статный и статусный красавец в меховой шапке – определяет на глаз, что убитого изощрённо истыкали лыжной палкой, причём понадобилась для этого нечеловеческая сила. Кроме того, в определённых местах туристу нанесены рваные раны другим острым предметом, который без надлежащей экспертизы установить невозможно. У собравшихся туристов сильно испорчено настроение и аппетит.
В гостинице глинтвейн течёт рекой, люди играют в азартные игры за бархатными столами, дамы кутаются в лисьи меха. За одним из столов собралась интеллигентная компания: та певица, тот статный господин, старенький доктор с трубкой, а также скептически настроенный ко всему аристократ, которого все называют просто бароном. Они ведут возвышенные беседы, пытаясь отвлечься от неприятной утренней находки, восхищаются игрой местного пианиста, etc. Между статным господином и певицей возникает заметная взаимная симпатия, однако её же берётся окручивать барон: водит её восхищаться пейзажем в зимний сад, рассказывает какую-то дребедень о ходе звёзд и древнеегипетской астрологии.
Их милую беседу прерывает пренеприятнейшее известие: из города сообщают, что экипаж с родственниками погибшего, а также врачами, следователями и прочими необходимыми в таких ситуациях людьми и предметами – попал в снежную бурю и был вынужден вернуться. Телеграфировали и из соседней деревни: единственную дорогу в большой мир завалило лавиной, и расчистка пути займёт добрую неделю.
Статный господин берёт на себя функции детектива: он говорит о том, что у него имеется соответствующий опыт, но раскрывать подробностей не спешит, да и вообще довольно скрытен, что естественным образом вызывает у окружающих некоторые подозрения в тёмном прошлом. Особенно на этот вариант напирает уязвлённый барон, который не мог не заметить, что симпатии певицы склоняются в сторону сыщика.
На следующий день неподалёку от отеля обнаруживают новую жертву – это тот самый прекрасный пианист. Он убит аналогичным образом – лыжная палка. При помощи следов от собственно лыж найти убийцу невозможно: они прерываются на одном из обрывов: будто бы убийца сорвался со скалы вниз. Однакож внизу не наблюдается никакого трупа злодея, только опалённые ветви елей, по чьим стволам неуклонно выстукивают свои ускоренные марши зимние дятлы.
Противоречивые улики, обнаруживаемые статным господином и всюду следующей за ним певицею, указывают на то, что убийца, скорее всего, живёт не в гостинице, а где-то в другом месте: в деревне или вообще прячется в горах. Люди потихоньку начинают паниковать: не выходят из здания гостиницы, запираются в своих номерах и выпивают. Вечером в общем зале барон рассказывает местную легенду о страшном чудище, которое приходит раз в сто лет и забирает по четыре крепких мужчины из тех, кого оно встречает в горах. Тут гонец приносит новую тревожную весть: кто-то обрушил телеграфные столбы, и восстановление коммуникации потребует добрый месяц.
В отсутствие пианиста певица вынуждена восполнять образовавшуюся дыру в музыкальной программе – и справляется с этим с блеском, вызвав сентиментальные слёзы на глазах товарищей по несчастью. После выступления уже сыщик выводит её в зимний сад, где без лишнего трёпа овладевает ею под почти уже полной луной.
Свидетелем этому становится несчастный барон. Опрокинув пару лишних стаканов, он выходит на улицу и кричит: ну, лютый зверь, кто на меня? Поговорим с глазу на глаз! Он карабкается на гору по глубокому снегу и кричит всё громче, чудом не сбивая новую лавину.
И является зверь: огромная фигура в тёмно-оранжевом костюме на лыжах. У него гордая орлиная голова, а лыжные палки он держит в огромных когтистых лапах с перепонками. Барон смело шагает ему навстречу, просит поведать ему свой секрет, но птицеголовый безжалостен: он наносит ему ряд разящих ударов лыжной палкой. Потом, уже почти бездыханного он клюёт в несколько сакральных точек – барон кончается.
Лёгкой и быстрой поступью птицеголовый восходит на один из склонов, а потом резко съезжает по запретному пути мимо соответствующей таблички. Он соскакивает с обрыва и, не долетев до земли, сгорает, чтобы материализоваться снова в следующий вечер – и довести своё священное дело до конца, когда взойдёт полная луна.
Глядя на иллюстрацию в учебнике, 11-летний я вспомнил, как в раннем детстве наелся каких-то таблеток из шкафа, и мне было так плохо, что я был уверен – умру. В учебнике был изображён птицеголовый Ра – в таком виде предстал передо мной завораживающий ужас, когда из меня всё уже вытошнили, и я ворочаясь, засыпал в полубредовом состоянии. В этом видении – не стану называть это сном, потому что ничего настолько подробного и символичного мне потом не снилось – я был скорее не сыщиком, которому, как логично вытекает из сюжета, предстояло на следующий день побороть демона, а бароном, который шёл к ужасу с открытым забралом и, вопреки всесильной лыжной палке, оставался моральным победителем.
Лыжная палка была и в руке Ра на иллюстрации – правда, почему-то одна, да и лыж никаких не наблюдалось. Но сами законы древнеегипетского изобразительного искусства показывали богов и людей так, что они никогда не отрывали ног от поверхности: то есть, явно не могли передвигаться иначе как скользя, как на лыжах. Ну а то, что они не знали снега – так это их, египтян, проблема.
Отложив учебник, я встал с дивана и подошёл к распахнутому окну. Был жаркий сентябрь, но мне совсем не хотелось идти гулять, хотя меня кто-то и звал. Внизу копошились какие-то люди: двое пьяниц на скамейке, городская сумасшедшая, качающаяся на качелях и говорящая сама с собой, играющие в футбол парни постарше, среднеазиаты, устанавливающие новую ограду, девочки, прыгающие по меловой разметке на асфальте. Меня охватило уныние: зачем мне это всё? Зачем я им всем? Трудно представить, что меня кто-то когда-нибудь полюбит. И совсем уж невозможно, чтобы меня полюбил этот мир.
Как это просто – перекинуть ногу через подоконник, потом вторую, посидеть немного на парапете, а затем легко соскользнуть вниз, как в бассейн, попробовав воду. Просто соскользнуть, ни о чём не думая, не пронося перед глазами своей жизни – упасть на зелёную траву с какими-то ещё остатками цветов, расколошматиться до неузнаваемости, глухо смяться в угловатую лепёшку.
Нет, подумал я. Своей собственной волей это сделать – это слишком просто. Оно должно случиться как-то само, как предначертано, и это уже где-то начертано. А пока моё дело – искать эту возможность, поднять забрало и улыбаться ей в лицо.
Нужно было делать математику, но она никак не делалась. Прямо в тетрадке я вдруг начал писать карандашом: «Удивительным образом пересекается египетская мифология с поверьем одного из горных селений в Альпах. Местные жители с незапамятных времён верят в мистического горного монстра с головой орла, передвигающегося на лыжах и являющегося раз в сто лет в канун Рождества, чтобы забрать души троих сильных мужчин и три раза совершить ритуальное самоубийство в форме прыжка со скалы и сгорания в воздухе. По легенде, этот монстр – бывший человек, искупающий таким нетривиальным образом грех самоубийства, совершённого им из гордыни в расцвете жизненной силы. Однако согласно расхожей гипотезе, такое толкование навязано христианскими проповедниками, которые не могли извести диковатые легенды местных жителей. Учёные считают, что орлоголовый монстр – некое воплощение божества, собственноручно забирающее самых сильных с тех самых пор, когда люди обленились и перестали приносить ему жертвы. Как утверждают местные жители, единственный способ избежать смерти от наметившего жертву зверя – убедить его в том, что человек сам наложил на себя руки в его честь. Что самое интересное, существование этого монстра имеет некоторые доказательства. В 1938 году…»
Я взрослел. У меня были ключи от чердака, и я часто ходил туда: наблюдал за голубями и воронами, сам вместе с ними сидел на краю – а чего мне было бояться? Птицы спали, и я сам не отказывал себе в удовольствии вздремнуть.
Мне нравилось это общество, но всё-таки я находил птичий быт довольно печальным: каждое утро они просыпались – и без всяких размышлений принимались за единственное возможное занятие, поиск еды. Было их жалко: никакой возможности выбора, никакой интриги, никакого досуга, в конце концов.
Я, хоть и держался по большей части одиночкой, жил, как мне казалось, весело и разнообразно. Заложенный с детства интерес к смерти стал приносить свои плоды – как минимум, я её не боялся. Я громко включал музыку в наушниках и гонял на велосипеде, нарочно не обращая внимания на автомобили, дорожные знаки и светофоры. Однажды меня даже сбила машина, но дело было на узкой дворовой улочке, скорости были никакие, и я ограничился досадными ушибами. Водитель попытался задобрить меня, всучить мне деньги и увезти в травмпункт, но я спокойно поправил цепь и поехал дальше – что ещё этот человек мог сделать для меня лучшее, чем сбить?
Ночью я ходил по тем районам города, что считались опасными, вёл себя вызывающе, переходил дорогу на красный. Опробовал все виды экстремального спорта, впечатлял окружающих рискованными кульбитами и прогулками по самому краю. Время от времени оказываясь на пьянках, я по примеру киногероя утверждал, что водка меня «не берёт» и требовал налить чего-нибудь парфюмерного.
Наблюдая за людьми, я потихоньку выяснил, что их устремления не так уж далеко ушли от птичьих. Просыпаясь утром, они без всяких раздумий двигались на многочасовые поиски еды, а освободившись от этой необходимости, просто бездумно растрачивали излишки. Люди стали производить на меня впечатление сытых и скучных животных, которые благодаря некоторым физическим особенностям размножились так, что им больше не грозила никакая угроза исчезновения.
Я собрался было идти в орнитологи, но подкачала химия, и в последний момент руки опустились. Наплевав на родительские горькие подвывания, я отправился в армию. Коль скоро все основные способы умереть перепробованы, стоит обратиться к самому мужественному, подкреплённому богатой традицией.
Однако никаких военных действий поблизости не шло, а несчастные случаи происходили какие-то мелкие да били мимо цели. Банду кавказцев, которая собралась меня бить за оскорбительное замечание, остановили офицеры. Склад неподалёку от моей казармы загорелся ночью, и я даже не узнал об этом, пока не загудела сирена пожарной машины.
Год в армии помог мне осознать важную вещь: моё прежнее суждение было неверным – люди не так же нелепы, как птицы, а ещё больше. Каждый день много часов уходило на действия, которые никому никакой еды не приносили. Нужно было бегать, прыгать, ползти, стоять, таскать одни и те же предметы из одного места в другое и обратно, обмениваться символическими репликами и жестами, не несущими и оттенка осмысленности. Один из немногих разов, когда мне-солдату удалось подняться на уровень чуть выше – а именно, на тот самый птичий уровень добычи еды – это когда мы с сослуживцем копали червей для рыбалки. Рыбачить любил какой-то высокий генеральский начальник, и руководство нашей части решило сделать ему приятное – позволить ему поймать несколько рыбин в близлежащей реке.
Стояла тягомотная скучная жара, мы с парнишкой, которого прислали значительно позже, чем меня, возились в грязи и доставали оттуда червяков. Чтобы развлечься, я обратился к товарищу:
– Знаешь, кто мы?
– Кто?
– Мы птицы.
– Почему? – он удивлённо посмотрел на меня.
– В данный момент мы добываем еду для наших детей. В разжёванном виде её доставят им. Наше отличие от птиц лишь в том, что доставит им еду кто-то другой. А так бы мы доставляли. Я предполагаю, это потому что мы обеспечиваем своих детей, а они – своих. То есть мы – старшее поколение птиц.
– Что ты несёшь, какие нахер птицы? – парень был возмущён.
– Вот такие. Товарищ генерал – наш главный птенец и он же – наше божество. Добывая этих червей, мы кладём их в ведро, которое является как бы сосудом для нашего жертвоприношения – символического кормления Птенца. На таких кормлениях и функционирует любое начальство.
– А-а-а, понял, – сказал парень. – Ну и шутки у тебя.
Принеся жертву генералу, я вернулся домой, где выяснилось, что моя мама совсем тяжело больна. Степень тяжести я понял, когда осенним утром в нашу квартиру вломился отец, не приезжавший уже несколько лет. Мама была в больнице, поэтому дверь открыл я, сонный и несколько потерянный. Отец привёз какую-то еду, кормил меня, расспрашивал об армии, но в нём чувствовалась определённая тревога – возможно, в тяжёлой ситуации он понял, что по-настоящему любил свою бывшую жену? Не знаю. Он был с нами обоими очень заботлив и обходителен, но когда мама умерла, он как-то быстро похолодел, перестал со мной разговаривать, а сразу же в день похорон уехал. После этого я его не видел.
Я распродал все мамины вещи и всякую ненужную мебель – вышло, что я один в неплохой трёхкомнатной квартире, и у меня масса денег, так что больше не придётся думать ни о каком поиске червей.
Я закупился книгами о древних культурах, учебниками, научными журналами и сборниками мифов. Я закопался в это. Дни и ночи напролёт я читал, анализировал, перечитывал, делал пометки, выписывал, что-то для себя формулировал.
День за днём на древних страницах я видел одно: культ, культ, культ. В этом слове для них была бесконечная, самодостаточная осмысленность. Прочие нужды только служат культу. Всё служит культу. Служит красиво и причудливо, без той пуританской строгости или варварской воинственности, которых полны нынешние земные религии.
А всё лишь потому, что эти культы не были связаны с постижением земных добродетелей – будь то джихад или милосердие. Они были устремлены к одному: к проникновению в загадку смерти. На вопрос, который человек рано или поздно всё равно себе задаёт – «Зачем я рождён?» – культ отвечал ему с первых дней жизни: чтобы умереть. И вопрос не в том, когда и почему это случится, а в том, что произойдёт потом. И посему вовсе не важно, будешь ты сыт или голоден, милосерден или жесток, красив или ужасен – важно, чтобы твоя гробница была правильно обставлена, а под языком лежала монета, необходимая для переправы через вечную реку.
Нейтральное, ничего не значащее лицо, короткая причёска с выбритым затылком и косыми висками. Серое пальто, какой-то платочек в цветочек. Ей уже, пожалуй, прилично за тридцать, но держится бодро, хранит шарм и необходимую для привлечения внимания таинственность.
Она ехала напротив меня по кольцевой линии, потом пересела на какую-то из радиальных, и я – за ней. Не думаю, что я смог бы с ней познакомиться, но наблюдать за ней было интересно – мелкие движения лица, какой-то внутренний монолог, походка. Влечение говорило во мне холодно и сдержанно, я и не собирался никаких поползновений предпринимать, просто – пройтись, проследить, узнать какую-нибудь мелочь. Знакомство с женщиной вело бы к неминуемому разочарованию, проникнуть к кому-то в душу так или иначе означает заглянуть в зеркало своей же бессмысленности. А так – интересно пронаблюдать за человеком как за телом, просто движущимся и не утерявшим своего сакрального смысла.
Работает, наверняка, в конторе. На часах – пол одиннадцатого, значит на работу она приходит, когда ей вздумается, но всё-таки работает кропотливо, раз не заявляется туда после полудня. Следовательно, она не рядовой работник, не цеховик, а приставленный к какой-либо организации специалист – ну, юрист или бухгалтер.
Она явно не замужем, да и любовников имела мало – желающих много, но она знает себе цену. С неприглядной реальностью смирилась, но не ищет ни в чём высокого смысла, сделав ставку на простые удовольствия. Что ж, выбор хоть и тривиальный, но по-своему справедливый. Во всяком случае, позволяющий ей сохранять как человеческое лицо, так и в целом опрятный вид.
Мы поравнялись на пешеходном переходе. Вокруг высились заводские трубы, под ногами текла какая-то слизь. Я заглянул ей в лицо: на нём была написана едва заметная тревога. Не по поводу чего-то конкретного, а насчёт бытия в целом. Она беспокоилась за всех людей как мать за детей, которых у неё, впрочем, и нету у самой. Однако по ней явно чувствовалось, что за какие-то души она ответственна, не знаю, почему.
Зажёгся зелёный цвет, и эта птичка выпорхнула на проезжую часть. Я остановился, глядя ей вслед, чтобы потом случайно не обогнать её. Неторопливо двинулся вперёд через несколько секунд.
Из-за угла вылетел автомобиль – пузатый крупнокалиберный джип – и, визжа тормозами, наехал на женщину. Я оторопело попятился. Из кузова вылез толстый мужчина с короткими волосами, который, матерясь, стал осматривать помятый бампер, из-под которого торчало смятое тело. На дороге рядом лежал платочек в цветочек.
Никаких сомнений, она мертва. Я склонился над трупом и сунул ей в рот монету – на всякий случай, – а потом бросился бежать. Ещё давать свидетельские показания… – что может быть хуже?
Весь день я бродил по городу, следя за птицами и людьми. В конце концов я вернулся в свой район, но домой идти не хотелось. Я улёгся на холодную землю у какого-то куста, думал: так умру, чёрт с ним с героизмом. Ещё не вполне потеплело после зимы, и к утру я наверняка окоченею.
Ко мне подходили какие-то люди и пытались меня поднять, но я старался не реагировать. Кто-то даже просидел со мной долгое время, что-то рассказывая и объясняя, но я не слушал, а всё думал и думал, перебирая факты и воспоминания. В конце концов я задремал.
Фуникулёр поднимает сыщика на пустынную площадку между двумя отвесными спусками. Горы, ёлки, снег. Будто бы прогуливаясь, он некоторое время описывает круги вокруг станции фуникулёра. Для пущей красоты и беззаботности он насвистывает незамысловатую мелодийку, но внутри он напряжён как струна, холоден и расчётлив.
И вот, рассекая склон, нисходит птицеголовый. Он деловито подъезжает к сыщику, тот разворачивается к нему лицом и изрекает:
– Постой. Я могу сам. Я думаю, тебя это спасёт.
Зверь стоит, оторопелый и подозрительный. Уткнув лыжные палки в наст, сыщик ловко достаёт кинжал из сапога и показывает птицеголовому.
– Вот, смотри. Настоящее лезвие, никакого обмана.
Чтобы показать, что нож по-настоящему остр, сыщик лёгким движением взрезает себе палец, на снег капает кровинка. Птицеголовый почтительно кланяется, поверив в эту милость.
Сыщик уверенно бьёт себя ножом в грудь – туда, где сердце. Жадно захватывая воздух ртом, он валится на снег, из-под него течёт бурая жижа. Из последних сил он колет себя в сакральные точки, обязательные для этого жертвоприношения. Зверь смотрит на это, но дотронуться до человека не имеет права, иначе он становится жертвой, и его самоубийство бессмысленно. Если предполагаемая жертва зверя убивает себя сама, то следующее сгорание птицеголового становится последним – и он освобождается от своего многолетнего труда.
Но надо спешить: и, не проверяя, мертв ли человек, зверь стремится на ту точку, с которой он триумфально съедет вниз. Высота взята – и вот он уже берёт старт, не отрывая взгляда от сыщика, истекшего кровью. Зверь на лыжах несётся вниз и вдруг видит, что жертва приподняла голову, а из здания станции выбежала какая-то женщина. Зверь пытается затормозить, но ему вослед уже пущена лёгкая лавина, и он продолжает движение вместе с идущим под ногами оползнем.
Р-р-раз! – и птицеголовый срывается с обрыва, несётся вниз, колошматится о камни – и только там вспыхивает, биясь в жутких муках. Очевидно, скажет потом старый врач – а по совместительству специалист по мифологии – инцидент будет трактован как попытка обмана в сговоре с человеком, и напортачивший Ра будет направлен на новую многовековую пытку, ещё более изощрённую, чем горные жертвоприношения.
Огромный червь ползёт по рельсам, закапываясь глубже и глубже в Нечерноземье. Внутри червя – своя жизнь, своё микро– и макро-, свои социальные слои, распределённые по годовым кольцам, свой спрос и предложение: маркитантки ходят туда-сюда по пищевому тракту, торгуя преимущественно хлебом и зрелищами.
Я останавливаюсь посреди дороги и давлю червя, аккуратно, носком ботинка, на две половины: ползите теперь в противоположных направлениях: «На Москву» и «От Москвы». Тяжело, конечно, второму, без какой-то конкретной координаты, но это каждому суждено либо всегда идти к заветной цели, либо куда угодно – но только от неё.
Отпочковав зёрна от плевел, иду дальше. Мой путь обрамляет галерея деревьев, которые вот-вот оперятся, из каждого заветного дупла торчит по богу-птице. Дятлы трудятся, опять же. На одноэтажных домиках с чердаками – нарядные раскрашенные наличники, вот только окна заколочены. Не разворовали чтоб добро, которое и так никому не нужно. Я так погляжу, невостребованное добро злом и зовётся.


