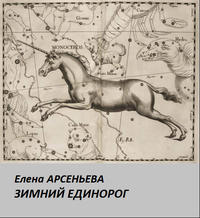Полная версия
Страсть Северной Мессалины

Елена Арсеньева
Страсть Северной Мессалины
Счастье – это такая вещь, которой не существует, но она может исчезнуть в любое мгновение.
Маркиз де ГуленИмператрица лежала в постели и ждала свинопаса.
Ну да, давным-давно в той стране, где она родилась, она слышала такую сказку – про королеву, которая полюбила свинопаса и захотела сделать его королем. Поправ все обычаи предков (предки с ужасом взирали на нее с фамильных портретов и, чудилось, укоризненно качали головами в коронах), она обвенчалась со свинопасом, назвала его властелином своего королевства и вот теперь ждала его в своей опочивальне, как и положено покорной жене. Однако муж все не шел. Королева ждала-ждала, ворочалась с боку на бок… Наконец она забеспокоилась, не случилось ли чего, и послала фрейлину посмотреть, куда запропал король. Фрейлина сделала книксен, покорно сунула ноги в туфли, вышла на крыльцо и внимательно оглядела королевство (сказочное королевство было крошечное, игрушечное… а впрочем, настоящее, то, в котором некогда жила императрица, было ненамного больше!). Луна ярко светила, и фрейлина мигом разглядела пропавшего короля. Он спал на лужайке, посреди стада свиней, подложив под голову корону. Фрейлина опрометью ринулась на лужайку и растолкала короля:
– Ваше величество! Что вы здесь делаете?! Ведь вас ждет ее величество в своей опочивальне!
– А чего я там не видел? – зевнул король. – Мне здесь больше нравится. Иди, не мешай, а то моих свинок разбудишь. Да, и передай ее величеству эту штуку, на ней ужасно неудобно спать!
С этими словами свинопас вынул из-под головы корону, сунул ее фрейлине, а сам положил голову на толстую ляжку свиньи – и мгновенно заснул. Фрейлина, держа одной рукой корону, а второй поднимая юбки, чтобы не испачкать их в навозе, побрела к королеве – сообщить, что ждет она своего свинопаса попусту…
– Donnerwetter! – вспомнив эту историю, пробормотала императрица на том языке, который некогда был ей родным, и прибавила на другом языке, который стал родным воистину (не зря же ее называли более русской, чем сами русские): – Кажется, я жду этого дурня попусту…
Она повернулась на бок и уткнулась в подушку, проклиная все на свете, и прежде всего себя и свою неуемную натуру, мучительно призывая сон, гоня прочь тягостные мысли. Но мысли не уходили, а влекли за собой воспоминания о том, что однажды, давным-давно, сорок три года тому назад, когда она была еще совсем не императрица всероссийская Екатерина, а просто маленькая, глупенькая, испуганная Золушка, она вот точно так же лежала в постели и ждала… Но тогда она ждала принца!
…Простыни ее постели были толстые, жаркие, колючие. Ткань, из которой они были сделаны, называлась каммердук, и в самом звучании этого слова было что-то колючее, жаркое и толстое. Такие простыни были бы уместны зимой, но совершенно не подходили к душной августовской ночи, наступившей вслед за днем ее свадьбы. Золушка вся извертелась в ожидании принца, с которым она нынче обвенчалась. Ей было неудобно, ей было страшно. А принц все не шел да не шел.
Золушка не знала, что ей делать, как вести себя в брачную ночь.
Встать? Оставаться в постели? Ее никто не просветил на сей счет, даже матушка, которая казалась чем-то недовольной. Впрочем, она была недовольна всегда, если внимание оказывали Золушке, а не ей. А поскольку здесь, при петербургском императорском дворе, главной персоной была все-таки Золушка, а отнюдь не матушка, значит, та была недовольна постоянно. Вот и сейчас: простилась с Золушкой как с чужой, глубоким реверансом – и ушла вместе с придворными дамами.
Вдруг раздался стук в дверь. Золушка испуганно приподнялась, попыталась изобразить счастливую улыбку. Но это был не принц, а ее новая камер-фрау по фамилии Крузе. Камер-фрау очень весело объявила, что принц скоро придет. Вот только дождется, когда ему подадут ужин.
Золушка вдруг почувствовала, что тоже очень хочет есть. За весь день она и крошки проглотить не могла, пила только воду – и от волнения, и потому, что неловко чувствовала себя в страшно тяжелом платье из серебристого глазета, расшитого серебром. Платье стояло колом, мешало двигаться и немилосердно щипало кожу даже сквозь корсет. А как мучил Золушку надетый на нее венец! Голова болела так, что пришлось упросить императрицу позволить снять тесное и тяжелое украшение. Конечно, ей было не до еды. Но почему никто не подумал подать ей поесть потом?
Она хотела попросить камер-фрау принести хоть что-нибудь, например, куриную ножку или кусочек сыру, однако промолчала: ничего она не дождется от Крузе, та и шагу не сделает без позволения императрицы. А императрица уже спит. Все нормальные люди давно спят! Ведь у них же не брачная ночь. Счастливые…
За стенкой послышались шаги, и камер-фрау испуганно выскочила в другую дверь.
Вошел принц. Он снял шлафрок и остался в длинной ночной рубахе. Осторожно прилег рядом с Золушкой и чинно вытянул руки поверх атласного подбитого пухом одеяла.
Невзначай коснулся ногой ее ноги и сердито сказал:
– Какие холодные у вас ступни, сударыня!
Золушка торопливо поджала колени и спрятала под себя ладони, потому что у нее и руки заледенели от волнения.
Принц покосился на распущенные волосы Золушки, на ее грудь, которая быстро поднималась и опускалась, и хмыкнул:
– Ах, кабы здесь вдруг оказался ваш сынок! Каково было бы ему увидеть нас вдвоем в постели?
Золушка повернулась к нему недоуменно: какой еще сынок, да нет у нее никакого сынка, у шестнадцатилетней-то девушки! И тотчас жарко покраснела, поняв, кого принц имеет в виду. Сынком она шутливо называла камер-лакея принца, молодого красавца по имени Андрей Чернышев. А он называл ее матушкой, как и положено по ее статусу. Принц всегда очень смеялся над этим. Он любил этого камер-лакея за его веселый нрав и удивительную красоту. Но с чего вдруг заговорил о нем сейчас? Разве это прилично? Между мужем и женой третий лишний, тем паче в первую брачную ночь!
Увидев, что Золушка смутилась, принц довольно захихикал. А потом вдруг широко зевнул и сказал:
– Ну, я спать теперь буду. Спите и вы!
Повернулся на другой бок и немедленно заснул, так и не коснувшись молодой жены. А Золушка не знала, смеяться ей или плакать.
Вот так брачная ночь!
Она вспомнила, как совсем малое время тому назад они c фрейлинами спорили о различии полов. Самой Золушке было шестнадцать лет, фрейлины недалеко от нее ушли по возрасту и опыту, поэтому ничего толкового так и не придумали. Золушка решила на другой день узнать у матери, в чем же это самое различие состоит. Вспыльчивая матушка немедленно изругала ее на чем свет стоит за этот вопрос, но под конец пробормотала что-то вроде: «Вот как повенчаетесь с принцем, так узнаете все у него!»
Ничего себе узнала!
Золушка невесело усмехнулась. Похоже, она недалеко ушла в знании жизни от той смешной десятилетней девчонки, какой она впервые увидела принца. Это случилось… где же это случилось? Ну конечно, в Эйтинге, резиденции епископа Любекского, правителя Голштинии. Епископ привез из Киля своего питомца, герцога Карла-Петера-Ульриха, которому тогда было одиннадцать лет. Принц показался ей каким-то тщедушным, а самое главное, склонным к спиртному. Впрочем, Золушка (кстати сказать, в те далекие деньки ее обычно называли Фике – уменьшительным именем от София-Фредерика-Августа) тогда мало обратила внимания на Карла-Петера-Ульриха: гораздо больше ее волновали сласти и фрукты, которые подали на десерт.
Конечно, она и представить себе не могла, что когда-нибудь станет его невестой, а потом и женой! Прежде всего потому, что твердо усвоила: она некрасива. Мать и отец, которые весьма заботились о ее добродетели, не уставали твердить это, и потому Золушка-Фике гораздо больше времени отдавала учебе, чем заботам о своей наружности. Сказать по правде, до тех пор пока она не переехала в Санкт-Петербург, город своего принца, она знать не знала о каких-то женских уловках вроде кокетства – слышала такое слово, ну и все, – и не подозревала, что способна нравиться красивым мужчинам.
А еще она потому не могла даже мечтать сделаться женой принца, что и в самом деле была Золушкой – единственной дочкой наследного германского герцога Христиана-Августа Ангальт-Цербстского и его жены Иоганны-Елизаветы, урожденной Голштин-Готторнской. Золушка привыкла играть на улице с детьми горожан: сначала они с родителями жили в обыкновенном городском доме и только потом переехали в Штеттин, в некое подобие замка, лишенного даже намека на роскошь. Золушка рано поняла, что в ее отечестве, в Германии, отцовский титул ровно ничего не значит: таких, с позволения сказать, герцогов там имелось множество, вся страна была расчерчена вдоль и поперек на игрушечные герцогства, так что с крыльца одного замка можно запросто увидеть башни другого. Отец вообще должен был сам зарабатывать на хлеб и поступил служить в прусскую армию. Золушкина матушка всегда считала, что судьба ей недодала заслуженных благ, а потому тратила массу времени на интриги, чтобы убедить окружающих в собственной незаурядности.
А принц… о, принц! Он был не кто-нибудь, а внук великого русского императора Петра. Мать принца, Анна Петровна, некогда была замужем за герцогом Карлом Голштинским.
Внук русского царя… это звучало ошеломляюще, загадочно! Впрочем… впрочем, Фике откуда-то знала, что и в ее происхождении есть нечто загадочное. Например, она отлично помнила, как ее возили в Брауншвейг и показали королю Фридриху-Вильгельму. Золушку-Фике ввели в комнату, где находился король; сделав ему реверанс, Золушка пошла прямо к матери и спросила:
– Почему у короля такой короткий камзол? Он ведь достаточно богат, чтобы иметь подлиннее!
Хоть король и посмеялся над милой детской наивностью, ему не понравились ни эти слова, ни сама маленькая девочка. А ведь он смотрел на нее очень внимательно. Потом, через много лет Фике поняла почему. Ходили слухи, что настоящим отцом ее был вовсе не скромный Христиан-Август, а королевский сын, принц Фридрих, впоследствии известный как Фридрих Великий. Правда это или нет, знала одна только матушка Фике, однако Иоганна, как известно, была великой интриганкой. Совершенно невозможно было понять, когда она врет, а когда говорит правду. «Нет, нет, что вы, я честная женщина, отец моей дочери – мой супруг, Христиан-Август! Но, может быть, это Фридрих, а может, и кто-то другой…» Например, один из чиновников русского посольства в Париже, незаконный сын князя Трубецкого и баронессы Вреде, Иван Бецкий, с которым была коротко знакома искательница приключений Иоганна, некогда оказавшаяся во французской столице.
То есть было не исключено, что и в Золушке текла капля либо королевской, либо русской крови. Она от всех это скрывала, но сама мысль о русской крови ей страшно нравилась. Куда больше, чем мысль о крови Фридриха! Она немножко русская – как бы поднимало Золушку над привычным миром германского захолустья, над всеми ее родственницами, этими унылыми, благовоспитанными кузинами и сумасшедшими тетушками, у которых всей радостью в жизни были их певчие птички, рассаженные по унылым клеткам (как-то раз Золушка пожалела птиц и выпустила их на волю, так тетушек едва удар не хватил!), над горожанками, которые с важным видом приходили в замок в гости, а матушка заставляла Фике в знак уважения целовать полы их платьев… А еще ей внушало веру в себя одно воспоминание. Однажды – она была еще совсем малышкой! – в Брауншвейге какой-то заезжий каноник, занимавшийся предсказаниями, изрек, что видит на ее ладони линии аж трех корон…
Может быть, это была шутка. Даже наверное шутка. Но какова она была!
Шло время, а короны оставались лишь на ладони Фике. Зато пришла весть, что судьба вознесла принца на небывалую высоту. Императрицей в России сделалась Елизавета Петровна, родная сестра его матери – значит, его тетка. У Елизаветы не имелось детей, да и замужем она не была. И она не нашла ничего лучшего, как сделать тщедушного Петера-Ульриха своим наследником!
Штеттин наполнился таинственными шепотками и намеками. Все знали, что матушка Золушки находилась в отличных отношениях с нынешней русской императрицей. Елизавета Петровна некогда, давным-давно, была невестой ее брата, принца Карла-Августа Голштинского. Незадолго до свадьбы принц внезапно умер, но трогательные романтические воспоминания о нем Елизавета сохранила на всю жизнь. И, когда Иоганна поздравила ее со вступлением на престол, императрица ответила ей весьма живо и нежно. Более того, она попросила прислать портреты Иоганны и ее дочери!
Зачем?
Эта весть произвела такое впечатление в Германии, что отцу Золушки (имеется в виду почтеннейший Христиан-Август) было присвоено звание фельдмаршала. Как бы на всякий случай.
Портреты, написанные придворным художником, отослали. А в ответ из России было прислано великолепное изображение императрицы, осыпанное еще более великолепными брильянтами. Штеттин и Берлин снова начали шушукаться, высказывая на сей счет самые смелые предположения.
И эти предположения оправдались! Елизавета написала своей несостоявшейся родственнице Иоганне Ангальт-Цербстской письмо с просьбой незамедлительно прибыть в Россию. И не одной – а с дочерью.
То есть с Золушкой.
* * *– Помни, помни же, Дарьюшка, кому ты счастием своим обязана! Помни и не забывай!
– Да разве мыслимо такое позабыть, тетушка! Вы мой добрый ангел, я за вас там, в Москве, всегда молилась, потому что мы с вами тезки, у нас с вами одна святая покровительница, и верила я отчего-то, что вы меня своим покровительством не оставите.
– Да и я о тебе частенько думала, но ты же знаешь, каковы твои тетушки московские… Да и дядюшка не лучше, а уж дедушка, царство ему небесное. Ладно, не станем о мертвых злословить. Теперь вся жизнь твоя переменится.
– Тетушка, скажите, неужто я у вас жить стану? Но ваши дочки, кузины мои…
– Дашенька, ты меня хочешь суди, хочешь не суди, но у нас ты не заживешься. Мне девок моих надобно замуж выдавать, а тобой заниматься не с руки. Ты уж, прости за такое слово, свой невестин век отжила, а потому решила я пристроить тебя к должности, на которой девушек пожилых очень жалуют.
– Господи, тетушка! Да неужто вы меня в монастырь прочите?! Да ведь даже дедушке покойному, каков он ни был ко мне равнодушен и холоден, такая мысль и в голову не всходила! Господи, да за что ты меня наградил моей несчастливой звездой?! Да лучше бы мне не жить на свете!
Дашеньке Щербатовой иногда чудилось, что под несчастливой звездой рождались все ее предки и несчастья были фамильными сокровищами ее семейства. Кому-то из поколения в поколение переходит слава. Кому-то – баснословные богатства. Кому-то – обреченность на неудачи. В ее семье они и переходили – от отца к сыну, от матери к дочери. С неудачами венчались, с ними рожали детей, с ними отходили в мир иной, храня горькое недоумение и обиду на судьбу – за что так сурово распорядилась? За что столь немилостива?!
Вот взять, к примеру, Дашенькиного отца – Федора Федоровича Щербатова. Уж казалось бы, все складывалось великолепно! Отличился во время Семилетней войны, дослужился до генерал-майора. Был назначен присутствовать в Военной коллегии, участвовал в составлении Нового Уложения, отстаивал привилегии высшего дворянства. Во время начавшейся вскоре войны с Турцией проявил чудеса храбрости и распорядительности и был за эту кампанию награжден орденом Святой Анны, пожалован чином генерал-поручика. Правда, заразился свирепствовавшей в войсках моровой язвой, но в своей вотчине вскоре излечился и воротился в Крым, удерживал в покорности весь полуостров после отъезда главнокомандующего, князя Долгорукова. Наконец отпущен был на поправку расстроенного здоровья, но едва успел приехать к семье, как был отозван в распоряжение генерала Бибикова, посланного для усмирения пугачевского бунта. После смерти Бибикова был назначен главнокомандующим. Однако ушел в Оренбург, оставив в Казани воинские команды, о которых знал отзывы Бибикова: они-де срамцы, скареды, негодники. Отзывы оправдались: Пугачев мигом «скаредов» разбил – и мятеж охватил все Поволжье. Все усилия князя Щербатова спасти положение оказались обречены, и императрица отрешила его от командования войсками, удалила от двора и отставила от службы – с запрещением жить в столицах.
Раньше Дашенька видела отца урывками и скучала по нему в его отсутствие, но теперь, когда семья воссоединилась в подмосковной вотчине, поняла, что прежде-то было у них с матушкой настоящее счастье! Князь, без конца жевавший и пережевывавший свою неудачу и свою бесспорную вину, в коей, впрочем, он не желал признаться даже себе самому, сделался невыносим. Жену свою, княгиню Марью Александровну, сперва поколачивал, а потом и всерьез принялся бить, обвиняя во всех смертных грехах, свершенных во время его отсутствия. Ну, может, что где и случалось – бес силен на уловление душ в сети греховные! – однако прежде, в бытность свою баловнем судьбы, Федор Федорович на все это охотно закрывал глаза, превыше всего ценя покровительство своего тестя, князя Бековича-Черкасского. Однако тот занемог, переехал в Москву, не снеся петербургской сырости, для подагрических его костей невыносимой, перестал бывать при дворе и влияние свое там порастерял. Да и не желал князь протежировать зятю, коего тоже полагал виновным в потере всех достижений Бибикова в Поволжье. Марья Александровна сделалась для мужа крайней и за холодность отца своего к зятю, и за свою к супругу холодность, и за пугачевскую горячность. Перепадало и Дашеньке отцовского кулака, когда она решалась за маменьку вступиться, и кончилось все тем, что княгиня от супруга сбежала, прихватив дочку. Поехала она к отцу, однако через знакомцев и родичей своих князь Федор распустил слух: он-де сам выгнал жену за ее многочисленные измены. Общество от соломенной вдовы отвернулось, отец был слишком слаб, чтобы за нее вступиться, – Марья Александровна не снесла горя и вскоре умерла, оставив Дашеньку сиротой.
Девушка уже давно заневестилась, ей бы партию сыскать, однако никто ее судьбой не занимался. А ведь жил князь Бекович-Черкасский в Москве, где в Дворянском собрании цвела пышным цветом знаменитая на всю Россию ярмарка невест!
Конечно, для петербургской столичной дамы все это было ужасно провинциально и ретроградно. Все осмеивали в Северной столице обычай раз в год свозить девиц-невест и выставлять их в Дворянском собрании, словно живой товар! Коли на домашних или придворных балах девицы танцуют – это прилично. А по стеночкам стоять, ожидая, когда на тебя упадет благосклонный взор… Однако Дашенька от своего одиночества так мучилась, что уж готова была и в Дворянское. Однако беда: не имелось у нее никакой взрослой родственницы в Москве, которая бы ее в собрание вывезла – не деду же, на краю жизни стоявшему, этим заниматься! Сын его, Владимир Александрович, неотлучно находился в армии, да и какой из военного покровитель в сватовстве? Тетки, старые девицы Анна и Елизавета, погоню за женихами презирали – видимо, оттого, что невыносимо зелен был этот виноград. Тетка же петербургская, матушкина сестра Дарья Александровна, бывшая в счастливом замужестве за их родственником князем Черкасским, о племяннице знать ничего не хотела, а может, и хотела, да не могла, потому что московские Бековичи-Черкасские с петербургскими Черкасскими состояли в ссоре, почитали их выскочками, мотами и щеголями-петиметрами, а потому держались от них подальше. Дарья Александровна даже на похороны сестры допущена не была, чего ж ждать от нее, какого покровительства племяннице?
Вот так проходил год за годом, немногочисленные московские знакомые Дашеньки все давно повыходили замуж, нашли себе супругов и провинциальные барышни, толпами наезжавшие в столицу в поисках женихов… Дашенька же мерила шагами пыльные, холодные комнаты дедова дома, украдкой читала романы, за которыми, тоже украдкой, бегала в лавку ее преданная, как левретка, горничная Пашенька, и думала, что унаследовала не только несчастливую судьбу князя Щербатова, но и судьбу прадеда своего по материнской линии, князя Девлет-Кизден-Мурзы, во крещении святом – Александра Бековича-Черкасского, капитана гвардии Преображенского полка. Князь сей был известен своей несчастной экспедицией в Хиву, совершенной еще в петровские времена. Было у него повеление от государя-императора пойти к хану с посольством, однако хивинский хан мирным намерениям русских не верил, а пуще того – верить не желал и порешил их извести. Прикинулся доброжелательным союзником и уговорил Бековича-Черкасского разбить войско на пять отрядов и развести по пяти хивинским городам. Но лишь только отряды разошлись, хивинцы напали на них и перебили вместе с полководцем. Лишь немногим удалось спастись и добраться до России, принеся туда печальную весть. Дети и внуки Бековича-Черкасского, несмотря на провал миссии, всегда были в чести при дворе, однако Дашеньку несчастливая судьба ее предка настигла-таки, взошла над ней его злополучная звезда!
Зима сменялась весной, потом летом, потом начиналась осень, и Дашенька все чаще чудилась себе деревцем, которое обречено на вечное увядание. Предстоящая ей доля старой девы – подобия tantes[1] Анны и Елизаветы – доля, которая сначала казалась невероятной и ужасной, теперь мнилась вполне возможной… правда, менее постыдной, мучительной и нежеланной от этого не становилась. С ненавистью смотрела девушка в зеркало, с ненавистью вглядывалась в многочисленные прыщи, которые усеивали ее тонкое, с правильными чертами, лицо. Она могла быть красавицей, когда б не эти прыщи! А с чего они на роже высыпали, как не с девьей плотской тоски?! И сеточка преждевременных морщинок, чудилось – а может, и не чудилось! – уже расползалась под глазами, и Дашенька все чаще снилась себе одиноким засохшим деревцем… Это были самые страшные сны. Однажды ей приснились собственные похороны, но даже и той ночью не испытала Дашенька такого ужаса, как от снов, где снова и снова являлась ей закручинившаяся березка с горестно поникшими ветвями, сухая, безлистная, гнущаяся на юру под ледяным ветром одиночества. Дашенька не хотела остаться одна, не хотела заживо засохнуть. Она хотела любви, она хотела мужской любви, она хотела быть женой… уже все равно чьей, но быть женой!
А потом дед умер.
Дашенька встретила его смерть равнодушно. Что теперь могло для нее измениться? Да ничего. Как жила она в затворе, так и будет век доживать. Вот разве что тетка из Петербурга приедет… начнет небось с братом, с сестрами из-за имущества тягаться…
Дарья Александровна приехала, однако спорить с семьей из-за наследства не стала. В свое время, когда еще мать была жива, она получила хорошее приданое, муж ее был богат, поэтому портить репутацию избыточной меркантильностью она не захотела. Единственное, о чем попросила, – это чтобы отпустили Дашеньку с нею в Санкт-Петербург. Московские родственники рады были развязаться с докукой. Дашенька тоже была счастлива уехать. Но об участи, уготовленной племяннице, тетушка не сказала.
* * *Императрица повернулась на другой бок. Может быть, удастся заснуть? Воспоминания отвлекали. Она не любила предаваться этому занятию, предпочитала на ночь либо читать, либо обнимать какого-нибудь мужчину, но сейчас у нее не было ни того, ни другого.
Чертовщина! Ну почему, почему так сложилось?! И как могло это получиться?
Как, как… Жизнь очень напоминает долгое путешествие. Человек – неопытный путник. Он следует своей дорогой, мечтает о прибытии к цели, наслаждается красотами пути, как вдруг в сапог или башмак ему попадает малый камушек. Попадает, забивается под пальцы и лежит там, затаясь. Но нет, он не просто лежит. Он начинает тихонько натирать ногу. Сначала путник воспринимает это как досадную помеху, на которую можно не обращать внимания. Потом саднящая боль начинает его отвлекать и раздражать. И он пытается понять, что вообще произошло. Безотчетно шевелит пальцами, постанывает, кривится от боли. Наконец понимает, что нужно сесть и разуться. Он делает это и наконец обнаруживает под пальцами камушек. Смотрит на него с презрением, потом выбрасывает. Облегченно вздыхает, обувается снова и бодро встает на ноги, готовый продолжать путь. А нога болит все равно – камушек успел крепко ее натереть! Путник хромает, удовольствие от путешествия потеряно, он думает только о боли… Хорошо, если ранка заживет сама по себе. А если туда попала грязь? Нагноение, заражение… так и вовсе обезножеть можно!
И путник начинает думать: «Какой же я был дурак, что не обратил внимания на этот камушек с самого начала!» Он думает. Думает об этом крохотном камушке, которого сначала даже не замечал. Думает и не может понять: «Да как же так, такая малость, а из-за нее я не могу попасть туда, куда стремился!»
Камушек и не заслуживает его мыслей и страданий. Но их заслуживает боль, которую он причинил.