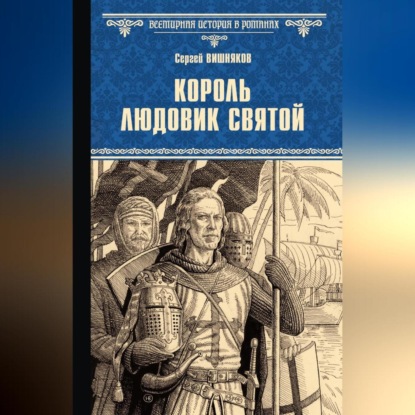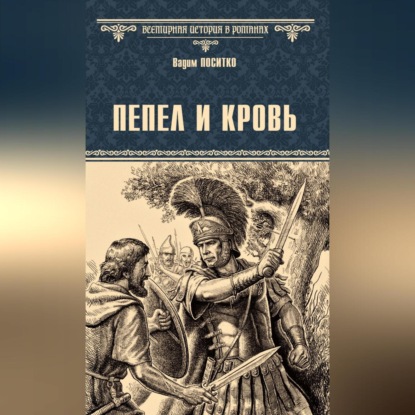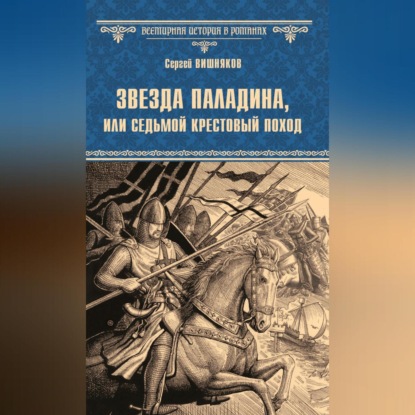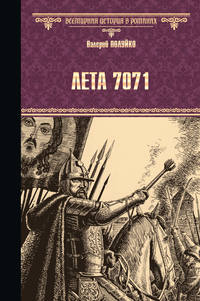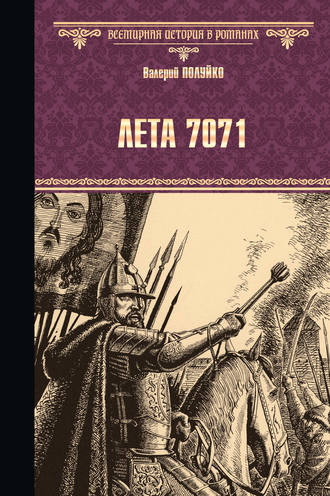
Полная версия
Лета 7071
Валялись на снегу затоптанные хоругви, разбитые иконы, билась в сугробе с поломанными ногами лошадь, из конюшни доносился негромкий, но хорошо слышимый в наступившей тишине зов: «Спасите! Спасите!»
Ни один человек не кинулся на помощь к взывающим, никто не пошевелился даже: люди или не слышали, или боялись теперь уже хотя бы малейшим движением отягчить свою вину. Они словно пристыли к земле, беспомощные и кроткие, всем своим видом, своей жалкостью, кротостью показывавшие свою покорность, свое смирение и этой покорностью, этим смирением старавшиеся заменить все те почести, которые они собирались оказать ему – так угрюмо и недружелюбно взирающему на них с высоты паперти.
Даже юродивые угомонились и сникло сидели на ступенях с раскрытыми ртами и выпученными глазами.
Иван вдруг спустился по ступеням к одному из них, присел на корточки, строго спросил:
– Скажи: будет мне удача?
Юродивый сжался, заскулил, как от щекотки, по синюшным губам потекли слюни.
– Скажи, – настойчиво потребовал Иван. – Будет мне удача?
– Дай гривну, – сказал плаксиво юродивый.
– Богатым станешь…
– Дай! – громко и грубо потребовал юродивый и толкнул Ивана в плечо.
Иван не рассердился, только отсел чуть подальше. Снял с пальца перстень, протянул его юродивому.
– Вот – вместо гривны…
Юродивый схватил перстень, зажал его в ладони, даже не взглянув на него, и долго сидел без движения, прижав к животу руку с перстнем.
Иван терпеливо ждал. Юродивый снова заскулил, затряс головой, разжал ладонь и выбросил перстень в снег.
– Дай гривну!
Нищие кинулись к перстню, учинили драку. Васька Грязной проворно сбежал с паперти, плетью, как собак, разогнал их. Нищие беззвучно расползлись в разные стороны – кто-то из них уполз вместе с перстнем.
– Васька! – нетерпеливо приказал Иван. – Сыщи гривну.
Васька Грязной крикнул в толпу:
– Эй, люди, кто одолжит царю гривну?
Из толпы вышел человек, расстегнул шубу, вынул из-под широкого пояса серебряную гривну, протянул Ваське.
– Кто будешь? – спросил Васька.
– Евлогий, купец.
– Год будешь беспошлинно торговать в сем городе, – сказал ему Васька и отнес гривну царю.
– Вот тебе гривна, – подал Иван юродивому серебро. – Скажи теперь: будет мне удача?
– Гы-гы!.. – засмеялся юродивый беззубым ртом, погладил гривну ладонью и спрятал ее куда-то в свои лохмотья.
– Скажи, – настойчиво допытывался Иван, – будет мне удача?
– Носи крест и вериги, – сказал юродивый.
Иван резко выпрямился, долгим, тяжелым взглядом посмотрел на юродивого, словно испытывал его, но юродивый уже отвернулся от Ивана, забыл о нем. Иван поднялся на паперть, подоспел к священнику, скромно стоявшему позади всех, решительно снял с него крест и повесил на себя.
– Коня, – сказал он глухо.
6Иван жил в простой деревянной избе, выстроенной на окраине Можайска еще прошлой весной, перед Ливонским походом. Жил скупо, строго… При нем были только Федька Басманов с Васькой Грязным да несколько слуг.
Изба была разделена на три части: в одной, самой маленькой, была царская спальня и молельня – Иван не любил по утрам ходить в церковь и молился в своей молельне; в другой жили Федька и Васька; третья, большая и просторная палата, служила трапезной, здесь же Иван выслушивал челобитчиков, сюда созывал на совет воевод.
Нынешний день утомил Ивана: долгий смотр войска, долгая обедня, которую он почти всю отстоял на коленях, да еще то странное, почти бессмысленное прорицание юродивого, в котором Ивану почудилось какое-то жуткое зловестие… До него словно донесся далекий и суровый глас судьбы. Вспомнил он свой разговор с митрополитом, вспомнил его слова: «Добро в твоей душе да восстанет надо злом…» Добро! Не к нему ли тянется его душа – вперекор разуму, вперекор воле, вперекор всему тому, мрачному и злому, чем наполнена его жизнь?
Сник Иван, призадумался… Приказал Федьке сказать воеводам, что говорить сегодня с ними не будет, а наутро чтоб готовились выступать. Всегда вгонявший коня в пену, теперь до самой своей избы ехал шагом. Обедал один, даже не позвал Федьку, обычно рассказывавшего ему за обедом сказки, притчи да разные небылицы.
Сумрачный, отяжелевший сидел Иван за столом… Мысли его ушли к тому времени, когда совсем еще юным, семнадцати лет от роду, венчался он на царство в Успенском соборе. Навсегда остался в его памяти этот день. До сих пор помнит он, как величественно – до жути! – пели певчие венчальную херувимскую песню, как надрывно стонали от их голосов гулкие своды собора, как пугающе дрожало тяжелое, слепящее марево свечей, как бесновались кадильницы вкруг него, как задыхался от их дыма… Помнит лица бояр, непроницаемые, холодные лица, помнит пронзительные, неотвязчивые глаза тетки своей Ефросиньи Старицкой, помнит боярынь ее – пустоглазых, как совы, в золоченых кокошниках, подносивших ему царскую цепь…
Тогда он еще был им по зубам, и знай они, что он не только обвенчается, но и станет царствовать, непременно извели бы его. Извели бы! В этом он уверился окончательно и накрепко в пору своей тяжкой хворобы, когда, ожидая смерти, призвал их присягать своему сыну и наследнику – царевичу Димитрию[14]. Вот когда он увидел их истинные лица и узнал истинную цену их преданности ему. Князь Владимир Старицкий не замедлил объявить свои права на престол – мимо Димитрия, и бояре встали за него. Крест целовать Димитрию воспротивились, засварились, выгоды себе выговаривая перед новым царем, которого уже видели на престоле, а ему, Ивану, еще живому, говорили прямо в глаза: «Нельзя нам крест целовать не перед государем. Перед кем нам целовать, коли государя тут нет?» Лишь увидев, что смерть отступила от него, и подошли к кресту. Князь Владимир в отчаянье поцеловал крест, а мать его, Ефросинья Старицкая, только с третьего присыла привесила к крестоцеловальной грамоте свои печати.
«Добро в твоей душе да восстанет надо злом…» – снова вспомнились ему слова Макария. – А пощадят ли меня, доброго, мои недобрые враги? Не пощадят! Пошто же мне уповать на Божий суд? Мне мало на них лише Божьего суда! Я сам хочу судить их! Сам! И я буду судить… Буду!»
Злоба, вскипевшая в нем, постепенно отступила – он мысленно выместил ее, – но легче не стало. Давило одиночество.
– Федька! Васька! – позвал он.
Федька и Васька мигом, будто стояли под дверью, появились в трапезной.
– Вина! – приказал Иван. Федьку задержал: – Садись, Басман, сказку будешь сказывать мне.
Васька Грязной принес кувшин вина, поставил его на стол перед Иваном, подал ему чашу из носорожьего рога, которую когда-то прислал в подарок его отцу крымский хан. Иван чаще всего пил из этой чаши, даже на пирах: рог носорога, по древнему поверью, охранял от яда. Отравленное питье должно было сразу почернеть в этой чаше.
Васька наполнил чашу, протянул ее Ивану.
– Ну, Басман, пошто молчишь? Сказывай сказку.
– Какую велишь – грустную иль веселую?
– Какую выдумал!
Иван отпил из чаши, ожидающе посмотрел на Федьку. Тот вымученно осклабился, сделал вид, что собирается с духом, но глаза его помимо воли тянулись к кувшину.
– Буде, хочешь пображничать?
– Ежели милость окажешь, пригублю за твое здравие.
– Ох, шельма! – усмехнулся Иван. Душа его стала отходить. – Тащи, Васька, ковши!
Грязной проворно притащил ковши, наполнил их. Федька подобострастно сказал, поднимая ковш:
– Здравие твое, цесарь!
– Здравие твое! – повторил Васька.
– За смерть врагов моих выпейте, – спокойно сказал Иван. – И за свою, ежели тоже врагами станете!
Васька беспечно улыбнулся, единым духом заглотил весь ковш. Федька побледнел, руки его дрогнули – вино пролилось на пол.
– Невесел ты что-то, Басман, – с издевкой, полной недоброй двусмысленности, сказал Иван.
– Невесел я оттого, что ты печален, цесарь.
Иван долгим, испытывающим взглядом посмотрел на него. Федька снова побледнел, но выдержал взгляд Ивана и твердо сказал:
– Пусть сгинут твои враги, цесарь!
– А теперь сказывай свою сказку, – приказал Иван.
– Жил-был на земле один мудрый и добрый царь, – начал Федька.
– Не стой, сядь, – сказал ему Иван. – И не подслащай… Добрых царей нет.
– А сей был добрый, – сдерзил Федька, ушел в угол и сел там на лавку.
– Сядь ближе, – раздосадовался Иван.
– Глупый место ищет, а разумного и в углу видно, – скороговоркой проговорил Федька, но пересел поближе. – Великое государство было у сего царя и премного всяческого богатства. Было у него також много разных слуг, и прислужников, и вельмож… Как у тебя! Все они пред ним пресмыкались и верность свою показывали, а за глаза думали про него недоброе и всяческое зло умышляли… Завидовали его мудрости и богатству. Был среди них один, который не пресмыкался пред ним, подобно остальным, не падал ниц, а токмо опускал глаза и учтиво кланялся. Царь был мудр и разумел – кто верен ему, а кто лише показывает верность. Приблизил он к себе того человека, сделал его самым первым своим слугой, ибо уверился, что тот николиже не изменит ему. Но завистники и царские недруги, которым тот человек поперек стал, учали всячески чернить его пред царем, измышлять на него пущие изменные дела… Хотели, чтоб царь прогнал его и снова остался без верного человека. Царь наветам не верил, ибо был мудр, как и ты, цесарь, но и в его душу закралось сомнение. Намерился он испытать своего слугу и измыслил для сего некую хитрость… Призвал он однажды его к себе и речет ему наедине: «Проведал я, что враги мои хотят меня убить!» Слуга спрашивает: «Коли они задумали сие сделать, и которым обычаем?» – «Про то я не ведаю, – речет ему царь, – ведаю токмо, что нападут они на меня средь ночи, в опочивальне. Потому я не буду отныне спать в своей опочивальне, но в одной тайной комнате. Опричь нас с тобой об той комнате никто ведать не должен. Вот тебе ключ, дабы ты при нужде мог зайти ко мне». Отдал ему царь ключ, а мысль у него была такая: ежели слуга не верен ему, ежели он враг его, то, соединившись с другими, непременно захочет помочь им убить его. Для того царь устроил ловушку. Спал он совсем не в той комнате, в которой сказал, а в той, в которой сказал, было сделано его подобие из воска и тряпок и положено на ложе, а в потаенных местах стража поставлена. Царь думал, что ежели тот слуга придет с иными недругами убивать его, то впотьмах не разберет – царь на ложе или токмо подобие, и поразит его ножом или мечом, а тут их всех стража и схватит.
Три ночи ждал так царь. Ждал и четвертую… И вот в четвертую-то ночь вдруг учинился во дворце великий сполошный шум. Царь посылает одного стражника проведать… Тот воротился и доносит царю, что по всему дворцу радостные вопли: «Царя убили! Царя убили!» Царь взял с собой стражу и поспешил в свою спальню. Тут и застал всех своих врагов, которые радостно потрясали мечами, а узревши живого царя, так и обмерли. Царь увидел на своем ложе окровавленный труп, облаченный в его царскую одежду, и заглянул ему в лицо и узнал своего слугу. Тут царь все понял и казнил всех своих врагов.
– К чему ты сие рассказал? – допытливо и хмуро спросил Иван после долгого молчания.
– К тому, что другое уж все высказал.
– А се пошто таил?
– Не таил…
– Пошто же ранее не рассказал?
– Ты ранее меня врагом своим не обзывал, – язвительно ответил Федька.
– Зело обидчив ты, Басман. Кто обидчив, тот изменчив! – тяжело проговорил Иван и перевел взгляд на Грязного. Тот стоял перед ним восторженный и уже хмельной, в блудливых цыганских глазах его светилась детская, глуповатая радость, и весь он был как ребенок, которому только что дали пряник или посулили забаву.
Ивана потешил глупый Васькин вид.
– Гляди ж ты!.. А говорят, в пустую башку и хмель не лезет!
– В пустую он токмо и лезет, – умильно пробормотал Васька.
– Ну а скажи мне, Васюшка, понравилась тебе сказка?
– Мудрена больно! Мало я уразумел в ней чего…
– Слышишь, Федька?! – засмеялся Иван. – Се тебе награда за твою сказку. А чтоб больше глупых сказок не говорил, я тебя другой обучу. Будешь ее моим боярам сказывать, коли они в добром веселье будут.
Иван вынес из спальни свиток и подал его Федьке:
– Чти!
Федька взял свиток, осторожно, даже со страхом развернул его, так же осторожно, запинаясь, стал читать неряшливую скоропись:
– Турецкий царь Махмет-салтан сам был философ мудрый по своим книгам, по турецким, а когда греческие книги прочел и слово в слово по-турецки переписал, то великой мудрости прибыло у царя. И рек он сеитам своим, и пашам, и муллам, и обызам: «Пишется великая мудрость о благоверном царе Константине в философских книгах…»
Федька облизал высохшие от волнения губы, стрельнул глазами в Ивана:
– Он от отца своего на царстве своем остался млад, трех лет от роду своего, – торопливо продолжил он, – и греки злоимством своим богатели от слез и от крови рода человеческого, и праведный суд порушали, да неповинно осуждали за мзду. Вельможи царевы до возраста царева богатели от нечистого своего собрания. Стал царь в возрасте и почал трезвитися от юности своей, почал приходить к великой мудрости воинской и к прирождению своему царскому…
Федька перевел дух, снова стрельнул в Ивана глазами, но уже посмелей и даже как бы понимающе.
– Подай ему вина, – приказал Иван Грязному.
Федька не осилил полного ковша, махнул остатки на пол, еще старательней забубнил:
– И вельможи его, видя, что царь приходит к великой мудрости, рекли так: «Будет нам от него суетное житье, а богатство наше будет с иными веселитися».
– Ишь, перепужались, окаянные! – сказал блаженно Грязной.
Федька запнулся, хмуро посмотрел на него.
– Видать, почуяли под задом жаровню, – добавил со смехом Грязной.
– Нравится тебе моя сказка, Василий?
– Как про тебя писано, государь, – сказал простодушно Грязной и доверчиво улыбнулся Ивану.
– Тыщу раз перечти, Басман, сказку сию, – сказал Иван. – Знай ее, как молитву! Коли б я тебе ни наказал, по памяти повторить должен слово в слово!
7Серебряный дождался сумерек и поехал на подворье князя Владимира Старицкого.
На подъезде к княжеской избе Серебряного встретили верховые казаки, учтиво попросили остановиться.
– К князю Володимеру – воевода князь Серебряный! – с достоинством сказал Серебряный и подал одному из казаков свой шестопер. Казак принял шестопер и, держа его в вытянутой руке, как факел, поскакал вперед, чтоб известить князя.
У крыльца тот же казак с поклоном возвратил Серебряному шестопер и почтительно сказал:
– Князь милости просит!
Такой прием понравился Серебряному, а то, что князь Владимир не заставил ждать и сразу позвал его, даже польстило ему: не всякий удостаивался такой чести у удельного князя.
В сенях Серебряного встретили княжеские воеводы, а сам князь встречал у дверей. Поприветствовал, справился о здоровье, просил садиться где удобно.
Серебряный сел, оглядел палату. Палата была богатая. Серебряный даже подивился, что князь и в походе живет в роскоши. Кругом – ковры: на полу, по стенам; на лавках – парчовые полавочники… В святом углу – широкий резной киот, отделанный серебром, жемчугом и костью, в нем – иконы, блестевшие золотыми окладами; на стенах – дорогое оружие; вдоль стен – большие сундуки из черного дуба, окованные чеканным серебром, на сундуках – массивные серебряные шандалы с ярко горящими свечами; на столе – золоченые кубки и кувшины с вином.
В палате народу было немного: несколько воевод из свиты князя, его оружничий, два боярина, парившиеся в рысьих шубах возле печи, княжеский духовник Патрикий и князь Пронский. Присутствие в палате Пронского больше всего смутило Серебряного. Он даже растерялся поначалу, не зная, как и приступить к делу, когда сам Пронский, причастный ко всему, будет сидеть и слушать, что о нем будет говориться.
– По царскому приказу иль по своей воле явился ты к нам, воевода? – спросил князь Владимир, видя замешательство Серебряного, хотя и не должен был начинать разговор первым.
Серебряный в душе перекрестился на князя – за то, что тот пришел к нему на помощь, пренебрегши обычаем, и, разом успокоившись, ответил:
– Царь не приказывал мне, да коли мы станем ждать его приказов – худо нам будет!
Князь Владимир, да и все, кто был в палате, почуяли тонкое двусмыслие в ответе Серебряного: замерли четки в руках Патрикия, сопнул недружелюбно Пронский…
– За самовольство також не милуют, – сказал князь Владимир.
– Самовольство самовольству рознь! – возразил Серебряный. – Ежели один самовольно порядку и ладу в деле добивается, а другой сие дело самовольно расстраивает – кому добром, кому худом воздать?
– За правое дело како не воздается – все лише добро будет, – тихо, мягко и словно бы самому себе сказал Патрикий.
Все с согласием посмотрели на него, будто он и вправду высказал за каждого их мысль. Да только знал Серебряный, что никто ничего подобного не думал. Каждый из них побежал бы от худого воздаяния, за какое бы дело оно ни воздавалось – за правое иль неправое… Он хотел было возразить Патрикию, да раздумал: не мудрствовать пришел он сюда.
– Во всяком деле ум нужен, – сказал он решительно. – Даже в правом!.. И мера. А что затеяли бояре и воеводы – неумно и неумеренно. Князь Пронский давно при полках и знает, какие невзгоды терпит войско через ту неумность и неумеренность.
Пронский опять сопнул, нахмурился, но не сказал ни слова.
– Нынче большой воевода говорил мне, что покрывает пред государем воеводские козни, дабы раздором пущего вреда не причинить, – продолжал Серебряный, прямо и смело глядя на князя Владимира, чтобы видеть, какие из его слов сильней всего затронут князя. – Первому воеводе твоей дружины, князь, надлежит сейчас ехать со мной к Басманову и говорить с ним по сему делу.
– Пошто моему воеводе? – капризно воскликнул Владимир.
«Знаешь – пошто! – подумал Серебряный, глядя в метушливые глаза князя, и порадовался, что верно поставил себя в разговоре с ним и оттого ведет дело в свою пользу. – Кабы не знал – выпер бы меня вон и слова бы не разменял со мной!»
– Оттого, князь, что твои люди больше всего козней творят!
– За такие слова, воевода, – в плети тебя! – вскинулся Владимир и крикнул слугам: – Взять его!
Слуги кинулись к Серебряному, скрутили по рукам.
– Опомнись, князь, – спокойно сказал Серебряный. – Твои плети подымут меня над тобой, коли Басманов пойдет к царю с доносом.
Владимир, по-бычьи наклонив голову, с ненавистью смотрел на Серебряного.
– Пристало ли нам, князь, меж собой свариться, коли надо всеми нами занесен топор?! – с укором и уже совсем иным тоном, мягким и дружеским, сказал Серебряный. – Согласного стада и волк не берет. А еще речется и так: собором и черта поборем.
– Отпустите его, – сказал Владимир и пристально вгляделся в Серебряного. – Дивный ты человек, воевода… А буде, просто лукав?
– Лукавство делу не помеха.
Владимир подступил к Серебряному:
– Речешь: собором и черта поборем? – Он осторожно, даже трусливо приблизил свое лицо к лицу Серебряного и ехидно спросил: – А буде, сам черт и наусткивает тебя, а?
– Полно, князь, – невозмутимо сказал Серебряный. – Мы не торговцы из Китай-города! Пошто нам торговать один у одного доверие? Скажи мне: едет со мной Пронский иль нет? И делу – конец!
– Обычая не знаешь, воевода? Своих людей я сам сужу!
– Обычай я знаю, князь, да уж давно у нас на Руси не по обычаю все ведется. Не на суд едет Пронский! Судить его можешь токмо ты или царь. Басманов с ним говорить будет.
– Басманов мне в осьмое колено… Кабы не в десятое! – глухо и зло бросил молчавший досель Пронский. – Отопком щи хлебал, да в воеводы попал твой Басманов!
– Слышал, воевода?! Невместно Пронскому ехать к Басманову. Пусть сам Басманов едет к нему.
– В походе мы все без мест, князь. Да и не поедет сюда Басманов. Он поедет к царю.
* * *Серебряный и Пронский ехали молча, отчужденно… Серебряный, ехавший на полконя впереди, не видел Пронского, но знал и так, какую великую тяжесть везет в душе воевода.
Пронский поехал сам, по своей воле, без княжеского принуждения. Да Владимир и не мог его принудить. Не было у князя такой власти над ним. Это Серебряный понял еще в разговоре, когда окончательно стал требовать ответа – едет с ним Пронский или нет? Владимир тогда совсем потерялся. Всю спесь с него как рукой сняло. Только что угрожавший Серебряному плетьми, он вдруг стал просить его отговорить Басманова, рассудился подарками…
«Нетверд князь, нетверд», – думал разочарованно Серебряный. Он впервые так серьезно столкнулся с Владимиром и неожиданно для себя самого разглядел под его напускной могущественностью и капризной гордыней слабую и нестойкую душу. Невеселые думы прихлынули к Серебряному. Человек, с которым он связывал свои самые тайные и самые дерзкие надежды, оказался совсем не таким, каким он его представлял, и уж совсем не годящимся для той роли, которую отводили ему бояре в своей борьбе против царя.
Велико было разочарование Серебряного. Многое, ранее прочно утвержденное в его сознании, вдруг поколебалось, и он почувствовал себя так, будто его жестоко и коварно предали. Сам не зная для чего и почему, он придержал коня и с досадой сказал Пронскому:
– Нетверд князь наш…
– Зато имя его твердо! – вызывающе ответил Пронский.
– Имя? – равнодушно переспросил Серебряный.
– Да, воевода! – еще с большим вызовом сказал Пронский. – Не забывай, он внук покойного великого князя Иоанна Васильевича, а отец его – Андрей Старицкий… Андрей Иоаннович! – имел такое же право на московский престол, как и отец нашего нынешнего государя. Ежели не большее!
Серебряный почувствовал, как все-таки ненавидит его сейчас Пронский, так ненавидит, что даже не скрывает от него своих самых крамольных мыслей. Он чувствовал, что Пронский торжествует в душе, показывая ему свое бесстрашие, и этим бесстрашием унижает его, Серебряного, лицемерно, по его мысли, служащего царю. В другое время это взбесило бы Серебряного, но теперь он отнесся к этому спокойно.
Весь оставшийся путь они снова молчали и не смотрели друг на друга, хотя и ехали теперь конь в конь.
8Басманов встретил Пронского более чем холодно. Серебряный сразу почувствовал, что разговор будет тяжелым. Почувствовал это и Пронский. Он важно сел на лавку, жестко, в упор стал смотреть на Басманова.
Долго, затаенно и выжидательно длилось молчание. Пронский и Басманов, как два стравленных пса, обнюхивались и присматривались – один, чтоб покрепче ухватить, другой, чтоб половче увернуться… Наконец Басманов, поняв, что Пронский хоть и покорился, и приехал, но первым все равно не заговорит, прервал молчание.
– Обещался я князю Петру не трогать твоей чести, воевода, – сказал он Пронскому, но это прозвучало не как уступка, а как угроза.
– Моей чести сам Господь Бог не затронет, – глухо обронил Пронский.
– Богу и ни к чему твоя честь, воевода. Пред Богом мы все лише душами закланы. В судный час призовет он всех нас не на пир, а к ответу за все дела наши земные.
– Рясу бы тебе носить, Басманов! – съязвил Пронский.
– О деле паче говорили бы, воеводы, – вмешался Серебряный.
– Коли есть оно, дело?! – опять съязвил Пронский. – Гляжу я, воеводе вельми нравится местом своим тешиться! Токмо к месту еще и честь потребна. А честь не утяжкой обретают. Не утянуть тебе нашей чести, Басманов: не под тобой мы, мы – под царем!
– Под царем – верно! – Басманов остался невозмутим. Он, должно быть, готов был и к худшему. – А хотели бы быть над ним! Посему и пакостите, и сычите, как змеи, яд свой изрыгая. Токмо своим же ядом и захлебнетесь. Кончилось ваше время! Отныне служба и раденье на первых местах, а не богатые кафтаны.
– Пошто же сам в богатый кафтан вырядился? Сермяжную худь прикрываешь?!
Басманов пропустил мимо ушей и эту издевку Пронского. Он снял с крюка железное кольцо, подошел к Пронскому, показал ему кольцо:
– Вот твоя честь! Сие кружало[15] ты послал ржевским кузнецам, чтобы они по нем ядра ковали. Они наковали триста дюжин, а ядра-то в пушки не лезут! Буде, ты новых пушек наделал? Так яви их! А буде, сие кружало не ты слал? Так вот клеймо старицкое!
– В нарядных делах у нас немчин голова. Он слал кружало.
– Допытывал я вашего немчина. Ты велел выковать кружало мера в меру устью пушечному, а исстари куют с убавкою. Ужли не знал ты сего, воевода?
– Не тебе допытывать меня! – надменно проговорил Пронский. – Ежели винен – пред царем отвечу!
– Царь не станет уж допытываться! Все ваши изворотки ему ведомы доподлинно. Оплели все своими паучьими кроснами… Порвет он их, порвет! А мы ему споможем!
– Кто ж такие – мы?
– Которые не о чести своей пекутся, а об отечестве… Много бед испытало оно через вас.
– Красно баешь, Басманов! Будто перед царем место выговариваешь! А того не разумеешь, что тем, кому не дорога честь, не дорого и отечество.