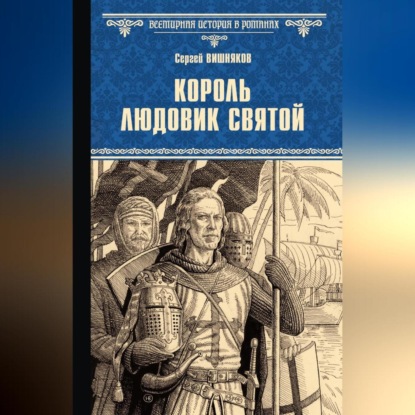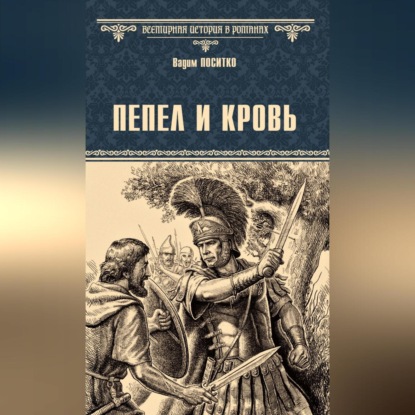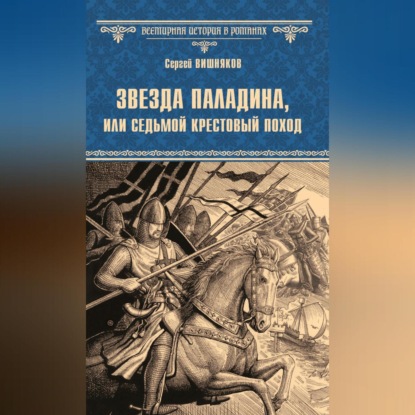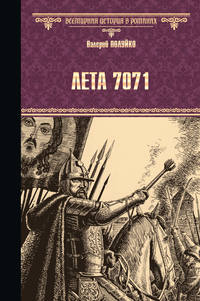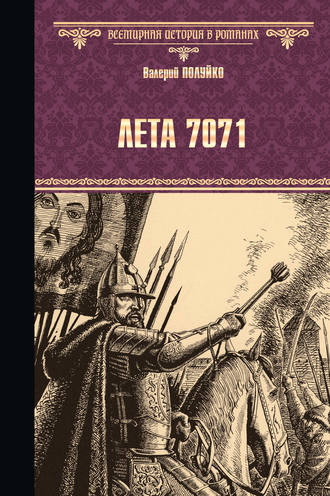
Полная версия
Лета 7071
Иван вошел легко и неслышно. Только тень от него метнулась по стене – хищная, настигающая… Курбскому почудилось, будто она впилась в него, навалилась и придавила к стулу. Он даже плечами повел, чтобы избавиться от этого чувства, и приподнялся…
Иван шагнул к нему, положил руку на плечо:
– Сиди, князь…
Курбский почувствовал, как кровь вдруг разом прихлынула к тому месту, где лежала рука царя.
– …Небось дивно тебе, – начал Иван и не договорил, словно мигом позабыл, что хотел сказать.
Прямо перед ним на столе лежало написанное, и Курбский услышал, как дрогнули царевы пальцы, лежавшие у него на плече. Курбский поднял на него глаза, не пряча дерзкой насмешливости: ему нестерпимо захотелось увидеть, как по-холопьи, бесстыдно и воровато, бегают по его эпистолии Ивановы глаза. Он впился взглядом в Ивана, готовый чем угодно заплатить за удовольствие видеть его позорную приниженность, но Иван, скосившись на него, перехватил его дерзкий взгляд и отстранился – устало и равнодушно. Курбский, ожидавший иного, разом сник, будто лопнула в нем та самая жила, на которой держались его дерзость и бесстрашие.
– Все монахам пишешь, – глухо, но беззлобно сказал Иван и отошел к стене, придавив собой свою тень. Он стоял рядом с маленькой, вжавшейся в стену тенью Курбского – громадный, сильный, грозный… – Душеспасители твои! – Он криво усмехнулся. – Не больно ль мы им доверяемся?! Злохитрством юродивым проникают они в наши души и вьют там гнезда змеиные. Нам, сильным от дедов наших, не пристало, князь, чернцам души свои вверять. Лишь Бог один и утешитель наш, и судия наш.
Курбский тихо проговорил:
– Они в непрестанных молитвах о душах наших. Все благолепное в мире оном – от них, государь.
– Чую, чую дух афонского мудреца, – не то с насмешкой, не то с завистью сказал Иван. – За то тебя и люблю! Знаю мысли твои, князь, душу твою знаю… Но люблю. За ум твой! А буде, и за то, что духом с тобой мы едины.
Он пристально посмотрел Курбскому в глаза, сел, откинул полы шубы, уперся рукой в колено, словно оберегаясь, чтоб не приклониться близко к князю, и высказал все, что думал:
– Ты вон жалуешься на меня монахам, о нерадении державы и кривине суда пишешь, а я к тебе с любовью пришел… Я, государь, которому ты крест целовал, пришел тебя просить, чтоб ты крестоцелование свое не преступал, чтоб верным остался мне… Понеже и ты в недруги уйдешь, кто еще останется?
Голос Ивана, грудной, надрывный, как приглушенный стон, заполнял всю келью и не исчезал, не растворялся, а все скапливался, скапливался, сгущаясь и тяжелея, как туча в грозу, и чем дольше говорил Иван, тем бесприютней становилось на душе у Курбского… Он чувствовал себя чужим в этих стенах, и все окружающее тоже казалось ему чужим, словно не Иван пришел к нему в дом, а он к Ивану. Иконы, книги, свитки, ковры, оружие – все, что всегда радовало глаза князя, что с любовью и старанием было собрано им, все вдруг стало никчемным и ненавистным. Уют, тишина, покой были разрушены, и князь с отчаяньем начал сознавать, что никогда уже в этом доме он не найдет той свободы и того радостного одиночества, которые всегда обретал в этих стенах.
А Иван говорил и говорил, настырно и зло, и совсем не как царь, а как простой мужик, и все в нем было мужичье: и большие жилистые руки, и неряшливая бороденка, и голос, и глаза – лупатые, как у торгаша с торгового ряда, – только злость была – царская. Она была с ним всегда, эта его злость, даже и тогда, когда он пребывал в благодушном настроении.
– Чую, Богом назначено мне Русь возвеличить и всем ее недругам воздать по заслугам! – Иван встал, снова отступил к стене. Он словно боялся пустоты за своей спиной. – Ради сего святого дела никого не пощажу – себя також! Ты супротив пойдешь – и тебя… Но лучше сему не быть! Хочу тебя другом иметь, как прежде!
– Я холоп твой, – стараясь не выдать дрожи голоса, ответил Курбский. – Дружба твоя мне в милость.
– К холопам царь не пойдет самолично… И милость моя тебе не в честь. Не искал ты ее лизоблюдством…
– Царская милость всегда в честь. А немилость – в беду.
– Упрек в твоей душе лежит, тяжелый упрек… Выскажи его! Но паче – смирись! Оставь упреки в себе. Знаю, ты с ними был… С Адашевым купно стояли во всяком деле… Старания ваши не дурны были… Но коли мне назначено Богом Русью править, како ж я могу по вашей мысли ходить?
– Мы того в намерениях не держали. Мы, как и ты, о Руси пеклись.
Иван снова приблизился к Курбскому, стал за его спиной, положил ему руки на плечи. Курбский услышал его прерывистое, взволнованное дыхание.
– Пусть им… Их уже нет! И они не стали бы стоять за тебя, как ты стоишь за них. Не озлобляйся, князь, не слушай наветчиков и злопыхателей! Нашепчут они тебе всякого… Да токмо я один знаю, как будет. Не в ссылку тебя ссылаю… Слава твоя и искусность военная будут врагов наших в тревоге держать – для того и едешь ты в Ливонию. Уцепиться нам надобно за землю немецкую… В крепостях повоеванных укрепиться, дабы не выбили нас оттуда, войско в исправе держать… Верная и искусная рука потребна для сего. Не будь тебя, князь, сам принужден был бы пойти!
«Не верю!» – хотел крикнуть Курбский, повернуться – чтоб лицом к лицу – и крикнуть прямо в глаза Ивану… Но вместо этого спокойно произнес:
– Я свой долг исполню, государь.
Иван снял руки с плеч Курбского, сопнул, как застоявшийся конь, тяжело отступил к двери:
– Пришел я тебе большее поведать, да, вижу, зря пришел. Прощай, князь!
Иван помедлил, ожидая, что Курбский в последний момент оставит свое упорство. Но Курбский молчал. Он не принял Ивановой искренности, не поверил в нее, и между ними уже навсегда разверзлась пропасть, которая разделила не только их – которая разделила Русь, разорвала ее уклад, которая через многие судьбы пролегла черной бедой, и никто из них – ни Иван, ни Курбский – не сознавал еще всей жестокости и всех последствий их разрыва.
– Прощай, князь, – совсем уже тихо повторил Иван. – Исполни свой долг… Не передо мной – перед отечеством.
5В то утро, когда князь Курбский отбыл в Ливонию, из Москвы, из Посольского приказа, отправлялось в Крым большое посольство. Думный дьяк, глава Посольского приказа, Иван Михайлович Висковатый еще раз перечел посольские грамоты, привесил к ним царские печати и приказал упаковать их в окованный железом сундук.
На возы были уложены подарки всем ханским мурзам, князьям, царевичам: шубы собольи, горностаевые, рысьи, панцири и кольчуги, разное оружие, седла, сбруя, серебряная утварь, кубки, блюда, ендовы, кумганы, а также жемчуг, парча, шелк – для ханских жен и царевен…
Самому хану царь слал полдюжины молодых, обученных охоте кречетов, пять сороков соболей, две тысячи белки, рыбий зуб, серебряные и золотые кубки… Все это было уложено на главный воз, на котором ехал сам большой посол Афанасий Нагой.
В Крыму любили подарки – и не только сам хан… Все его царевичи и царевны с каждым посольством слали Ивану великое множество грамот и поклонов, требуя подарков, и всех их надобно было одарить, чтоб не было обделенных и недовольных. Кроме родственников хана, его жен, царевичей и царевен, надобно было одаривать всех мурз, князей, уланов, чтобы и среди них не было недовольных, ибо от них больше всего зависело – удачно или неудачно будет правлено посольство. Стоило обделить какого-нибудь мурзу или князя, и он самовольно, со своим собственным войском, шел на промысел в Русскую землю. Хан отписывался тогда в грамотах, что воли его на тот промысел не было, но мурза или князь сам пошел добывать себе то, чего не дослал ему Иван.
Нынче везли богатые подарки, чтобы всех оделить и задобрить, ибо мир с Крымом был очень важен. Война за Ливонию оборачивалась не так, как хотелось бы Ивану… Не в силах в одиночку противостоять Москве, Ливония стала искать защиты у соседей: ревельцы отдались под власть шведского короля, эзельские земли купил датский король Фридрих, а остальная часть Ливонии отошла к Литве и Польше. С потерей Ревеля и эзельских земель Иван на время смирился и не поминал о них ни шведам, ни датчанам, заключив с ними мир, но уступать остальную, еще не завоеванную им часть Ливонии Польше и Литве он не собирался. Потому-то и был так нужен мир с Крымом. От этого мира зависело, будет ли Москва вести войну на две стороны, воюя с Литвой за Ливонию и отбиваясь от татар, или же можно будет обезопасить себя миром от Крыма и всеми силами выступить против Литвы.
Это хорошо понимали и в Польше, и в Литве… Сигизмунд-Август тоже слал большие подарки Девлет-Гирею, переманивая хана на свою сторону. Но если Сигизмунд хотел от хана союза в войне и требовал от него похода на Москву – Иван хотел только мира. Заключить с Москвой мир, получать большие подарки и сидеть в своих улусах, по мысли Ивана, хану было гораздо выгодней, чем ввязываться в войну и выступать в далекий и трудный поход через безводную степь, где хан всегда терял половину своей конницы. На это и рассчитывал Иван, посылая Нагого с посольством в Крым.
…Все было готово к отъезду. Ждали только Ивана.
Афанасий Нагой сидел на сундуке с грамотами, разодетый, в двух шубах, собольей и медвежьей поверх – для дороги. В большой избе приказа было жарко, но Нагой не снимал шуб, боясь, как бы царь не застал его не готовым к дороге.
Нагой был именит и знатен, но еще молод и с посольством отъезжал впервые. Висковатый опасался, как бы он не промахнулся в чем-нибудь… Изредка, сухо, но вразумительно, давал последние наставления:
– Ежели от других государей будут послы у хана, от турского иль от иных, – ни под которыми послами у хана не саживаться и остатков после них не брать. Королевским послам дорогу не уступать и, ежели в один день с ними будете званы к хану, идти первыми или идти на другой день.
– Како ж иначе, – раздумчиво отвечал Нагой. – Честь свою соблюдем.
– И на задирки не отвечать!
– Сие непременно…
Висковатый вновь задумался, перебирая в памяти, все ли оговорил Нагому? Понимал опытный и искусный в своем деле дьяк, не один уже год главенствующий над Посольским приказом, на какое трудное дело отправляется Нагой. Всего лишь несколько лет назад завоеваны были Казань и Астрахань, из-за которых сам турецкий султан не дает хану покоя, требуя во что бы то ни стало вернуть мусульманскому миру эти земли, и взять с хана шерть – присягу в верности – сейчас было настолько трудно, что даже Висковатый, знавший жадность хана и его готовность благосклонничать с тем, кто больше даст, мало верил в успех снаряжаемого посольства. Он подозревал, что и сам Иван не очень надеется на благоприятный исход…
Выговорить мир у хана можно было только уступкой Казани либо Астрахани. Но на это Иван не пошел бы никогда: слишком много значило для Руси завоевание этих татарских царств. Это были не просто земли, завоеванные ради прихоти или алчности царя, ради расширения владений и приобретения богатств. Завоевание этих царств было окончательным избавлением от татарской опасности, которая триста лет, как тяжелая туча, нависала над Русской землей. И Иван скорее отказался бы от Ливонии, чем допустил, чтоб над Русью вновь скопилась эта мрачная туча. К тому же покорение Казани и Астрахани было самой великой его гордостью: то, о чем мечтали и к чему вековечно стремились его пращуры, свершил он, и понимал Висковатый, что храм Покрова, воздвигнутый им у Кремля, на торговой площади, воздвигнут не столько в честь омофора Божьей Матери, который она простерла над Русской землей, чтоб навсегда избавить ее от ненавистной Орды, сколько в назидание Руси, ее нынешним и будущим поколениям, что это он, Иван, своим радением и мечом добыл это освобождение.
Правда, был еще один путь, которым можно было добыть от хана шерть… Для этого нужно было немедля вторгнуться в Литву, прямо во владения Сигизмунда-Августа, воевать против которого не решался и сам хан. Доказать хану этим вторжением свою силу и вынудить его заключить мир. Да и Сигизмунд на какое-то время оставил бы свои подстрекательства и заигрывания с ханом: решительные действия Москвы заставили бы его больше думать о безопасности своих владений, чем о союзе с ханом.
Но Висковатый понимал, как труден этот путь; стояла зима – самая неудобная пора для похода, к тому же вялая, с частыми оттепелями, которые сменялись резкими морозами и сильными гололедами, дороги были гиблы и непроходимы – тяжелый стенной наряд протащить по ним было почти невозможно, а без него к литовским крепостям и подступать было незачем. Да и риск был огромный: король мог уговорить, ублажить хана подарками и посулами и тот, несмотря на ненастье, безводицу и бескормицу в степи, мог выступить в поход на Москву.
6Иван приехал верхом, легко одетый. Дворня, подьячие, приставы, толпившиеся возле посольских возов, пригнулись к земле, только колпаки да островерхие папахи остались торчать за высокими стоячими воротниками, делая собравшихся схожими с чучелами. Обозники и конюхи вовсе бухнулись на колени – прямо в разжиженную снегом грязь, – посдирав треухи со своих косматых, потных голов, от которых валил сизый пар.
Федька Басманов, сопровождавший царя, с трудом отворил перед ним тяжелую, набухшую дверь приказа и люто глянул на остолбеневших стрельцов, стоящих при дверях.
Висковатый склонил голову, встречая Ивана, а Нагой только встал: по обычаю он не должен был кланяться царю… Отъезжающий с посольством большой посол удостаивался такой чести – не снимать шапки и не кланяться государю, дабы эта милость помогла ему вынести все беды и унижения, которые терпели послы у чужеземных государей. Обычай этот шел со времен Батыя, когда послы русских князей нередко уходили на верную смерть.
– Все готово, – спокойно сказал Висковатый. – Грамоты о печатях… Уложены в сундук. Поминки на возах.
– Кречетов как везете?
– В клетке, государь, обитой росомашьим мехом…
– Глядите, довезите… Хан больно любит кречетов.
– Сие непременно, государь!
– По твоему указу, государь, нынче в грамотах почтенья не блюли. Писано вольно: «Божиею милостью великого государя царя и великого князя всея Руси, московского, новогородского, казанского, астороханского, немецкого и оных – великой Орды великому царю, брату моему Девлет-Гирею с поклоном слово…» – прочитал Висковатый по черновому списку грамоты.
– Сносно писано, дьяк… Коли примет хан наши грамоты, отныне будем писать ему как равному. Непригоже нам, победителям Казани и Асторохани, челом хану бить. – Он повернулся к Нагому и наставительно прибавил: – Ежели станут спрашивать о Казани – отвечай: Казань во всей государской воле! Церкви в городе и по уездам многие поставлены, в городе и на посаде все русские люди живут… Скажи також, что зимой было на государевой службе в ливонской земле одних казанских людей с пятьдесят тысяч… Астороханских – тысячи с две… Оттого, скажи, астороханских людей в дальние походы не берем, что им ходить далеко, а ходят они на тамошние службы – в Юргенч, в Дербент и в иные места, куда их воеводы пошлют.
– Уразумел, государь… Еще и приукрашу, дабы не думал хан, что земли, тобой повоеванные, впусте стоят.
– Неуемно говорить оберегись, – недовольно обронил Иван. – И лишнее – також!.. Как бы не перезабыл похвальбы своей и хан не поймал тебя на слове.
– Слово в слово перескажу, государь…
– Станет хан казны требовать – отвечай: в пошлину никому ничего не даем и дружбы не покупаем. Станется меж нами доброе дело, так мы за поминки не постоим.
Иван смолк. Глаза его ушли глубоко в глазницы – он как бы отрешился на миг от всего, о чем только что говорил и думал. Что-то другое, более важное и волнующее, захватило его. Но тут же взор его вновь обострился, он ободряюще посмотрел на Нагого и приветливо сказал:
– Сядем! Пред дорогой.
Сел первый и перекрестился. Перекрестились Висковатый и Нагой. Нагой – дважды… Иван заметил это, мягко, с неожиданной теплотой сказал:
– Ободрись, Афанасий, и гораздо делай свое дело. Мы тебе споможем… – Он встал, твердо, уверенно повторил: – Споможем! Татары еще лебезить пред тобою станут.
Висковатого вдруг, как боль, пронизала догадка, и он с ужасом и восторгом подумал: «Пойдет в Литву…»
Иван вышел, не затворив за собой двери… Холод ворвался в избу, вместе с холодом – запах лошадей, навоза, талого снега… Нагой постоял немного, глядя на окаменевшего Висковатого и раздумывая над словами царя, и тоже вышел, не поняв ни Ивана, ни состояния дьяка. А Висковатый стоял посреди избы, овеваемый врывающимся холодом, и в радостном изнеможении думал: «Он пойдет в Литву… Он пойдет в Литву…»
Глава третья
1Шереметев спокойно воспринял заточение Бельского. Знал он и хитрость думного главы, и его изворотливость, знал, что все обойдется, – выйдет сухим из воды царский племянничек. Сам митрополит не преминет вступиться за него, и уж, конечно, ни пытать, ни гнать в ссылку его не станут. Все сойдет ему с рук, на то он и Бельский! Но опала Воротынского, которого царь повелел сослать на Белоозеро, растревожила Шереметева. Хоть и знал он загодя, что скопились над воеводой тучи, но не допускал мысли, что царь уступит царице и изгонит своего первого воеводу. Больно уж бездумна должна быть уступка, особенно теперь, когда со дня на день ждали набега крымцев. Не верил старый боярин, что царь в угоду строптивой царице и ее завистливым братьям убрал из войска самого искусного воеводу. Не верил, оттого и тревожился! Чуяло его сердце – не в царице тут дело… В самом Иване!
С какой тайной мыслью выезжал он тогда в объезд и брал с собой вместе с Воротынским и его, Шереметева? Уж не хотел ли проведать о мнящейся ему тайной связи между ними? Не подозревает ли он их в каком-нибудь сговоре?
Мучился этой мыслью Шереметев и, не в силах предугадать ничего наперед, готовился к самому худшему. Затворившись на своем подворье, что находилось в Кулишках, на Серпуховской улице, целую неделю не отпирал ворот, не выпускал слуг и челядь, не выезжал даже в думу. Присланному из думы от Мстиславского стряпчему было сказано, что боярин захворал сонной болезнью и спит без просыпу день и ночь.
По ночам Шереметев тайно прятал свое добро. Без огня, воровски, закапывал в землю золотые кубки, блюда, чаши, мешки с серебром и жемчугом, обернув в рогожи, зарывал дорогие иконы, кресты, лампады и все думал с замиранием сердца и гордым злорадством, как ответит он Ивану, когда тот станет допытываться о его богатстве, что оно руками праведных перенесено в небесное сокровище, ко Христу.
Шереметев не боялся смерти, даже самой мучительной… Подступившая старость отяготила его жизнь, забрала у него силу, напористость, притупила в нем страсти, и даже гордыня его стала смиренней, уемней… К своей судьбе он был равнодушен и не хотел прятаться и бежать от злобных царевых посягательств. Тревожила его только судьба своего рода. Знал он, скольких бы ни свел на плаху Иван, род устоит, ежели сохранит свое богатство. Богатство возвеличит его, поднимет из любой пропасти!
2Опала Воротынского встревожила не одного Шереметева. Когда Висковатый огласил в думе опальную грамоту на Воротынского, все переполошились… Один лишь Мстиславский остался спокойным. Во всяком случае, внешне. Но иначе и быть не могло: взяв после опалы Бельского все дела презираемой Иваном думы на себя, он стал отныне не только руководителем, но и охранителем этой боярской твердыни, а охранителю, как никому другому, нужны были спокойствие и ясный ум.
Мстиславский понимал, что царь давно уже ищет повод для окончательного разрыва с думой. Пока что он лишь вознегодовал, отстранился от нее, стал решать многие дела самостоятельно, но для того чтобы окончательно лишить думу власти, одних разногласий было недостаточно, нужны были более веские причины…
Мстиславский подозревал даже, что опалой Бельского, а особенно Воротынского, Иван рассчитывал вынудить думу к открытому протесту, который он мог расценить как бунт против него, и получить таким образом самый лучший повод для решительной расправы с думой. Потому-то и сам Мстиславский остался спокойным, и в других не дал разгуляться страстям. Серебряный, Немой, Кашин потрясали руками и призывали всех идти к митрополиту, чтобы вместе с ним урезонить разнуздавшегося царя. Особенно негодовал Серебряный. Он вопил на всю палату, взывал к Богу и проклинал тот день, когда в злосчастной Московии зачался его род.
Мстиславский знал, что и в самой думе много бояр и окольничих, которые тайно держат сторону царя и для собственной выгоды не преминут воспользоваться раздорами в думе, – донесут на недовольных и строптивых. Этого нельзя было допустить. Мстиславский решительно и твердо осадил Серебряного:
– Уймись, князь! Пошто волю дал словам, а ум под зад спрятал! Кто невинный в опале ходит? Ты иль я? Пошто в чужой вине правоту ищешь, а в царской правоте усомняешься?
Уняв Серебряного, Мстиславский начал говорить увещевательное слово ко всем боярам. Говорил спокойно, но как-то уж больно странно, явно с заведомой заумностью:
– Бояре! На том наша воля и воля царская, чтоб быть на земле нашей согласию во всем! И противлению никоторому не потакать! Пусть каждый помнит над собой Бога и поступает, как велит ему его совесть!
Немой в недоумении вытаращил глаза, силясь понять что-либо в словах Мстиславского, но суть ускользала от него, и он не знал, как повести себя: то ли оскорбиться и покинуть думу, то ли смолчать и остаться?
– …Бояре, сплотимся, оставим все наши раздоры, дабы беды не захватили нас и не нанесли урон нашему делу…
Только теперь Немой смутно уловил что-то, но сомнение не покинуло его. Он поглядел на Серебряного. Тот тоже хмурился и тоже, видать, не понимал Мстиславского.
– …Коль не приемлет государь наших встреч[6], мы повинимся пред ним и согласимся, дабы не терпеть лиха ни ему от нас, ни нам от него.
Серебряный усмехнулся при этих словах Мстиславского и глухо сказал:
– Согласимся, но правоты своей назад не заберем.
– Неужто без истинного согласия мы честно дело свое сделаем? – подал голос князь Горенский.
Он произнес это мягко, даже робко, и с искренним удивлением, но все повернулись к нему с таким видом, будто каждый получил удар в спину. Даже Мстиславский растерялся и не нашелся, что ответить.
Горенский, оглядев натянутые, встревоженные лица, прежним тоном сказал:
– Государю от такого нашего согласия хуже, нежели от противления. Коли души наши захвачены другим и мысли наши обращены к противному – не будет ладу ни в чем!
– Верно речет князь Горенский! – громко, с вызовом сказал окольничий Зайцев.
В палате наступила тяжелая, враждебная тишина. Каждый чувствовал себя обвиненным, и каждый боялся даже возразить на это, дабы не дать повода подумать остальным, что принимает сказанное Горенским на свой счет.
Мстиславский все же сказал:
– Знатно, то про себя речет князь Горенский? Так нам до него дела нет! Он своим умом живет и по своей мысли ходит.
– То он про вас, про всех, изрек, – сказал угрозливо Зайцев и зловеще удалился из палаты. За ним последовали несколько бояр и окольничих.
Во время этого переполоха Висковатый сообщил Мстиславскому о том, что уже незачем было скрывать:
– Поход в Литву будет. Басманов и Щенятев с Шуйским к войску посланы.
Мстиславский вынес и это, только про себя подумал: «В Литву – без Воротынского и Курбского?!»
Бояре стали разбегаться из думы, как мыши из горящего амбара. Мстиславский их уже и не удерживал.
Серебряный с Немым задержались… Но если Серебряный снова закипел негодованием, то Немой остался в думе только затем, чтоб своим поспешным уходом не навлечь на себя подозрения в трусости.
Серебряный был вне себя от царского произвола и думал только об одном: как принудить Ивана вернуть из ссылки Воротынского? Мстиславский думал о другом: о том, что сообщил ему Висковатый. Для него это было полной неожиданностью и озаботило сильней всего прочего, ибо он очень хорошо понимал, как ополчатся бояре против этого неожиданного похода. Открыто воспротивиться, конечно, никто не решится, и не об этом тревожился Мстиславский, но он знал, как хитро и ловко умеют они строить свои козни, особенно в войске, где у них у каждого свои люди… Родовые связи и круговая порука дают им возможность почти без риска противостоять царю в любых его делах и задумах, не угодных им. Предыдущий, Ливонский, поход, предпринятый Иваном весной прошлого года, закончился неудачно, и все из-за того, что бояре и воеводы тайно мешали ему: то где-то сбился с пути обоз, то неожиданно начался падеж лошадей, не поспел вовремя наряд… Виновных, как правило, сыскать почти невозможно: концы упрятывались умело и надежно, да и не до этого в походе.
Догадывался об этом тайном противлении бояр и Иван, недаром же чаще всего слал в походы их самих. Сами себе уж, конечно, они не вредили. Наоборот, тогда каждый старался все делать наилучшим образом, чтоб отличиться, чтоб заслужить царскую милость: до милостей охочи были все, даже самые строптивые и непокорные.