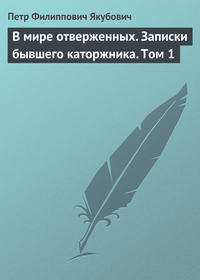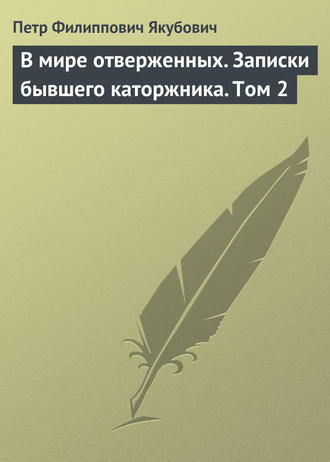 полная версия
полная версияВ мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
Ну, вот мои сегодняшние новости, – закончил Штейнгарт свой рассказ, – не очень-то приятные?
– Будем ждать событий, заранее ничего не придумаешь, – порешили мы, расходясь по своим местам. Я продолжал еще жить в больнице; Башуров и Штейнгарт находились теперь в одной камере.
События не заставили себя ждать. Однажды утром "шепелявый дьявол", он же старший надзиратель, принес в тюрьму пук печатных "Правил Шелаевской каторжной тюрьмы", под которыми красовалась крупно подписанная фамилия капитана Лучезарова, и торжественно стал прибивать их на передней стене каждой из девяти камер. Грамотные из кобылки с любопытством принялись читать. Собственно, чего-нибудь нового и неожиданного в этих правилах не было, но все то, что требовалось от арестантов и раньше, теперь подчеркивалось и подкреплялось какой-нибудь определенной угрозой, ссылкой на ту или иную грозную статью закона. Слова "розги", "плети", "суд", "наручни", "кандалы", "темный карцер", "телесное наказание", "лишение вольной команды" так и пестрели в глазах, так и скребли по сердцу, словно гвоздь по стеклу. Впрочем, на большинство арестантов чтение это не произвело ни малейшего впечатления.
– О, чтоб вас язвило!.. Я думал, что-нибудь насчет манафеста, а это-то мы, и без вашей бумаги знаем, – говорили они, еще не дочитав до конца правил и с презрением отходя прочь.
– Это что за полотенце тут вывесили? – спрашивали возвращавшиеся с работ и еще ничего не слыхавшие.
– А это, насчет, брат, штанов. Увидал начальник, что шибко измяты у нас, так вот обещает выгладить.
Острота встречалась общим смехом и спрашивавший не интересовался больше содержанием бумаги.
Но зато для нас троих содержание это было в высшей степени интересно, так как мы отлично понимали, что впечатление оно рассчитывало произвести, главным образом, на нас. "Ровно в 9 часов вечера, – читали мы, – при первом барабанном бое в казармах арестанты обязаны немедленно ложиться спать. Замеченные надзирателями в нарушении этого правила и в ослушании в первый раз подвергаются наказанию карцером, во второй – розгами". Правило это, за исключением последней угрозы, было известно и раньше; в первый год существования Шелаевской тюрьмы из-за несоблюдения его происходили иногда словесные стычки с надзирателями; раза два или три случалось даже, что арестантов отводили и в карцер, но теперь все это давным-давно уже было забыто, тем более что, утомленные дневной работой, арестанты сами засыпали не позже девяти часов вечера. Что касается меня с товарищами, то мы часто не ложились и еще часа полтора-два. Надзиратели отлично это видели, видал иногда и сам Шестиглазый, производя вечерние обходы тюрьмы, но замечаний никто нам не делал. Теперь же печатно объявлялась на этот, счет внушительная и многознаменательная угроза… "За отказ от работы под предлогом болезни, которой не признал врач или фельдшер (!), а также за невыполнение урока без достаточных (!) оснований" назначалось такое же наказание: сначала карцер, затем розги…
"За неснятие шапки перед начальством", "за дерзкие ответы надзирателям", "за невнимание к звонку и свистку" и за многое другое в том же роде – классическая лоза, казалось, так и свистела в воздухе, терроризируя и без того угнетенное и болезненно настроенное воображение. Точно перечислялось далее, кого из начальствующих лиц следовало называть "ваше превосходительство" и "ваше высокоблагородие" и в каких случаях полагалось сказать "здравия желаем" или "рады стараться"; а в заключение всего стоял такой любопытный пункт: "Надзиратели никому из арестантов не должны говорить вы, а всем без различия ты"… В ряду правил для арестантов статья эта, обращавшаяся с внушением к надзирателям, особенно поражала странностью и видимой ненужностью. Эта-то видимая ненужность и выдавала составителя инструкции: ясно было, что он придавал этой статье особенное значение, что именно в этом пункте с особенным усердием скрипело по бумаге расходившееся чиновничье перо…
Как бы то ни было, на трех человек из полуторых сотен арестантов вывешенные печатные правила произвели болезненно удручающее впечатление. Мы, правда, молчали и даже между собой не держали никаких советов, не принимали никаких преждевременных решений, но сердце у каждого мучительно сжималось, и мрачные предчувствия заволакивали душу холодным туманом… Перспектива новой борьбы, борьбы за человеческое достоинство, в то время как утомленная душа жаждала тишины и спокойствия, хотя бы спокойствием этим был обычный тяжелый строй каторжной жизни, – перспектива эта пугала и мучила… Кому и зачем это нужно? Чего они хотят от нас?
"Новый порядок" начался с того, что, вывесив на стенах камер правила, старший надзиратель подошел к Штейнгарту и Башурову и, глупо ухмыляясь и смешно, по обыкновению, шепелявя, потребовал от них выдачи собственных простынь, которыми все мы пользовались уже с незапамятных времен. Бравый капитан, всегда любивший и поощрявший чистоту и опрятность, в свое время с большим удовольствием разрешил мне употребление простынь; когда приехали новички, это было уже давно установившимся прецедентом.
– С какой стати вы простыни отбираете? – удивился Штейнгарт.
– А как же! В плавилах говоится, что постельные плинадлежности, одежа и все плочее должно быть у алестантов одинаковое.
– Да ведь грязь невообразимая заводится на постелях?
– Алестантам полагается глязь, – попробовал отшутиться надзиратель, – а вплочем, начальник грволит, что если все алестанты заведут плостыни, так их можно дозволить.
Но все арестанты, конечно, не могли "завести" простынь, и мы тоже должны были отныне спать на одних грязных подстилках. Как ни любил Шестиглазый чистоту и опрятность, но принцип для него был выше! Наступление было, очевидно, делом окончательно обдуманным и решенным…
Вечером того же дня на поверку явился сам автор правил, окруженный всеми шелайскими надзирателями, торжественный и грозный. Из коридора больницы я с любопытством и некоторой тревогой наблюдал в окно за церемонией; каждый громкий возглас явственно доносился сквозь отворенную форточку. Против обыкновения, немедленного разрешения надеть шапки не последовало, но я видел, как Башуров и Штейнгарт (не из какого-либо протеста, как потом они мне объяснили, а совершенно машинально, по привычке) накрылись, не дожидаясь команды. Бравый капитан заметил это и, весь побагровев, возвысил тотчас же голос:
– Никогда не надевать шапок, пока я не разрешил!
Последовало долгое и тягостное молчание. Провинившиеся продолжали стоять в шапках. Еще мгновение – и более ретивые из надзирателей полетели бы к ним с криками и угрозами, но Лучезаров грозно скомандовал:
– Шапки надеть… Да вот что! – продолжал он, еще возвышая голос. – Некоторые из вас надевают штаны поверх сапогов. Форма требует, чтобы штаны забирались внутрь… Да и, помимо того, некрасиво так носить – так жиды только одни носят.
И, выпалив этот удивительный афоризм, он угрюмо замолчал. Речь эта произвела на меня тем большее впечатление, что я знал, против кого она была направлена: из всей тюрьмы один только Башуров надевал брюки не по-казенному…
Неприятности, однако, этим не кончились. Когда надзиратели скомандовали арестантам расходиться по камерам, гнев Шестиглазого опять прорвался наружу; зычный окрик, какого я никогда еще не слыхивал, раздался на весь двор:
– Там не в ногу идут! Кто смеет из рядов выходить? Кто…
Но колонна, к которой относился этот крик и в которой находились и два моих товарища, уже успела вступить в двери тюрьмы и скрыться из глаз. Лучезаров почему-то не вернул ее, хотя долго еще кричал на дворе – что именно, я не стал вслушиваться. С тяжестью и мраком на сердце отошел я от окна.
Как оказалось, во многих камерах Лучезаров произносил в тот вечер краткие, но внушительные речи, и, конечно, он не мог думать, что мы не узнаем их содержания.
– В тюрьме будут введены некоторые строгости, – объявил он арестантам, – но вы не должны их пугаться. Те, кто будет послушен и кроток, ничего от меня худого не увидят.
Но среди вас есть гордецы… строптивые… Вы должны пособить мне обуздать их. Я слышал, что и вам они не пришлись по вкусу, – тем лучше!
Признаюсь, я никак не ожидал, чтобы бравый капитан, при всей изменчивости своих настроений и "принципов", дошел когда-нибудь до таких унизительных и неприглядных способов борьбы. Но он опоздал: "звон" услышан был слишком задним числом, когда о каком-либо раздоре между нами и кобылкой не было уже и помину… Впрочем, я думаю, что на этой почве он не добился бы ничего и раньше; даже враждовавшие с нами тюремные коноводы вряд ли захотели бы иметь в этом деле такого союзника, как начальство… В настоящую же минуту Лучезаров достиг результатов, совершенно противоположных тем, каких желал: к чести кобылки нужно сказать, что не нашлось среди нее ни одного человека, который отнесся бы (по крайней мере громогласно) с сочувствием к откровенной речи начальника. Все, напротив, открыто негодовали. На другое же утро десятки человек спешили сообщить нам в подробностях содержание речи; вся тюрьма в этот и следующие затем дни относилась ко всем нам с каким-то преувеличенным вниманием и почтением; перед нами торопливо расступались, нам дружески улыбались, заговаривали с нами с явным желанием ободрить и успокоить… И во все последующее пережитое нами тяжелое время кобылка также вела себя с положительным благородством, подчас глубоко нас трогавшим.
Несколько дней спустя приехал и ожидаемый "помощник". Надзиратели с самого раннего утра усиленно бегали в этот день по тюрьме, с особенной тщательностью водворяя везде чистоту, тишину и порядок, точно в ожидании какого-нибудь важного генерала. Двое или трое арестантов попали в карцер за грубость. Вечерней поверки ждали все с напряженным любопытством. Звонок ударил как-то совсем неожиданно, и арестанты закопошились, точно рой потревоженных в улье пчел.
– Скорее за котлами бегите, черти, дьяволы! – раздались всюду крики, и запоздавшие камерные старосты со всех ног помчались в кухню за чаем. Дежурный надзиратель выбивался из сил, подгоняя их своим "гавканьем". Каторжный поэт Владимиров, тоже бывший в это время старостой в одном из номеров, запнулся о ступеньку главного крыльца и во весь рост растянулся на нем вместе с ведром чаю. Коричневого цвета жидкость разлилась по крыльцу широкими потоками. Произошло невообразимое замешательство: хохот кобылки смешивался с бешеной бранью надзирателя, из кухни бежали с тряпками повара и хлебопеки, торопясь смыть, затушевать следы произведенного "безобразия"; а сам виновник суматохи, Медвежье Ушко, низко потупив мотающуюся голову и ковыляя ушибленной ногой, конфузливо ухмыляясь, спешил занять свое место в рядах уже выстроившихся и весело тюкавших на него арестантов.
– Ай да дюдя! Сколько же тебе банок теперь отрубят за то, что камеры без чаю оставил?
С трудом пришло все в надлежащий порядок. И едва только порядок водворился, как послышалось: "Идут! Идут!" – и все стихло. Ворота распахнулись настежь, и в сопровождении толпы надзирателей вошли Шестиглазый и рядом с ним новый помощник, подпоручик Ломов. Глаза всех так и впились в новую фигуру, появлению которой предшествовало столько слухов и толков. Фигура была необыкновенно внушительная: ростом едва ли не выше самого Лучезарова и много шире его в плечах, Ломов производил впечатление неуклюжего, косолапого медведя, ставшего на дыбы. В довершение сходства он не мог, по-видимому, прямо держать голову, несколько косо сидевшую на плечах, и смотрел исподлобья серым, неприветливым взглядом. Да и все лицо его. обросшее, как у медведя, волосами, было какого-то землисто-серого цвета, с чертами, трудно уловимыми и запоминаемыми.
– Одно слово, ребята, – Ломов! – так резюмировала потом свои впечатления кобылка.
Но что, однако, сталось с бравым капитаном? Как непохож он был на того громовержца Юпитера, на того Прометея, каким являлся в тюрьму за несколько дней перед этим! Теперь он, напротив, источал из себя блеск и благоволение и глядел на присмиревшую кобылку, как добрый и благодушный отец на своих возлюбленных детей; входя в ворота, он даже видимо для всех улыбнулся… Надеть шапки он приказал почти в тот же момент, когда раздалась команда надзирателя снимать их. По выслушании рапорта дежурного о благополучном состоянии тюрьмы он милостиво обратился к арестантам с приветствием, причем не сказал даже "Здорово, ребята!", а "Здравствуйте, братцы"… И когда "братцы" отвечали на это оглушительным ревом: "Здравия желаем, господин начальник!" – еще приветливее оглянул их и сказал указывая на Ломова:
– Вот, братцы… прошу любить и жаловать нового помощника!
И, должно быть, самому бравому капитану показалось несколько чудно то, что он сказал: он как будто сконфузился и замолчал. Впрочем, добродушие не покидало его. Между тем Ломов стоял как прежде, огромный и серый, неподвижный, точно статуя командора, несколько пригнув к земле свою косую голову, и только во время неожиданной речи начальника как-то нервно дернул ею, словно ломовая лошадь, которой надоедливая муха села вдруг на нос.
Арестантский хор запел установленные молитвы. Лучезаров со всей свитой отправился за задние ряды арестантского строя, куда обыкновенно удалялся во время пения (должно быть, для того, чтобы не казалось, будто арестанты на него молятся!).
– Вот что я скажу тебе, Петин, – громко заговорил он, надевая по окончании молитвы папаху и снова выходя вперед, – бас-то у тебя, пожалуй, и есть, но в голове, должно быть, пусто, как в дорожнем бочонке. Нот не знаешь и гудишь там, где совсем не требуется!
Замечание это было сделано, однако, таким добродушным тоном, что кое-где в рядах арестантов слова "порожний бочонок" вызвали даже легкий смех – до того насмелела кобылка. Этого было вполне достаточно, чтобы начальник не дал дальнейшего хода своей разыгравшейся веселости и принял тотчас сдержанный, серьезный вид. Радостно расходилась кобылка по номерам. Я видел с своего наблюдательного поста, как Шестиглазый долго еще стоял после того посредине двора и благодушно ораторствовал о чем-то перед своим серым и молчаливым помощником. Разговор шел, по-видимому, вполне частный, и тем не менее Ломов то и дело отдавал начальнику: честь. Надзиратели держались в почтительном отдалении. Наконец вся свита отправилась в тюрьму и пробыла там больше часу. Я уже думал, никогда не кончится эта длинная церемония, от долгого ожидания у меня расходились нервы и разболелась голова. Но вот процессия наконец вышла и прежде всего направилась к кухне: впереди быстро шагал, развевая полами шинели, Шестиглазый; несколько поодаль, скосив набок голову, шел грузной походкой Ломов, а позади стройно выступали попарно, точно проглотив по аршину, шесть или семь надзирателей. Из кухни шествие прошло… к помойной яме. И там бравый капитан долго что-то объяснял мрачному подпоручику, красноречиво жестикулируя руками; и лишь по тщательном освидетельствовании помойной ямы он быстро направился наконец к больнице. Тут только я покинул свой пост и поспешил в палату.
В последнее время я жил в ней не один, а имел сожителем старого хохла Ткаченко.
Загремели в сенях двери, и по полу коридора застучали десятки сапог. Слышно было, как, приближаясь к моей каморке, Лучезаров сказал что-то вполголоса Ломову. И вот все свободное пространство впереди меня и Ткаченки быстро заполнилось шинелью бравого капитана, почти прижавшего меня к маленькому столику, стоявшему между двумя койками. Входя в тюремные камеры, капитан никогда не снимал с головы шапки, в больничные же палаты, напротив того, являлся всегда с обнаженной головой; точно так же поступали и надзиратели. И теперь, еще на пороге моей кельи, он грациозным движением руки скинул папаху, не позабыв тут же сдунуть с нее какую-то пылинку. Ломов остановился на пороге, надзиратели столпились в коридоре. Я не глядел на порог, но чувствовал, как там стояло что-то большое, тяжелое и темное…
Лучезаров медленно снимал с руки лайковую перчатку и наполнял комнату благоуханием острых духов, к которым чувствовал всегда пристрастие. Несколько мгновений он глядел на меня сверху вниз не то насмешливым, не то дружелюбным взглядом.
– Ну-с, каковы наши дела? Я молча пожал плечами.
– Поправляемся?
– Понемногу.
Разговор никак не клеился и бравый капитан торопливо повернулся в сторону Ткаченки.
– Ну, а ты, старина, что ты делаешь?
– Хлеб жую, господин начальник, да богу молюсь, – попробовал пошутить арестант, видя доброе настроение начальника. Но Лучезарову этот ответ, видимо, не понравился.
– Ага, – нахмурился он, – хлеб жуешь? Это-то и я, братец, умею… В лазарет не хлеб жевать поступают, а от болезней лечиться.
– Да этого добра у меня, господин начальник, довольно! Тыща болезней, просто и счету нет… Одною спину как разломило!
– Бурно пожил! – многозначительно бросил Лучезаров в мою сторону и, слегка кивнув головой, выбежал тотчас же из палаты.
Коридор опять загремел от топота многочисленных шагов.
– Это что ж такое значит: "бурно пожил"? – недовольно обратился ко мне Ткаченко.
Я, смеясь, объяснил ему. Хитрые раскосые глаза старика сердито забегали туда и сюда; седые бакенбарды и толстые усы забавно топорщились. Он не то действительно не понимал, не то не хотел понять моего объяснения.
– Бурно?.. – восклицал он с комическим негодованием. – Нет, шалишь, брат! Нет, вовсе даже недурно я пожил. Право, недурно! В тюрьму, вот, дурно, попал – что верно, то верно.
На вечернюю поверку следующего дня явился уже один Ломов. Во все время церемонии он Не проронил ни слова. Дежурный надзиратель то и дело подскакивал с вопросами: "Прикажете, господин помощник?" – и он на все только угрюмо кивал головой. Само собой разумеется, что и шапок надевать он не разрешал, так что арестанты, за исключением Штейнгарта и Башурова, всю поверку от начала до конца простояли на жестоком декабрьском морозе с обнаженными головами. Склонив несколько набок шею, Ломов, казалось, ничего не замечал и думал о совершенно посторонних вещах. Арестанты разошлись по камерам, не раскусив еще характера нового помощника: кто сравнивал его с бараном, а кто – с затравленным волком; но интерес, в общем, был возбужден крайне слабый.
Еще прошел день, наступила вторая поверка, на которой опять присутствовал Ломов, и я снова с любопытством и с затаенной тревогой наблюдал за всем происходившим. Едва только окончилась молитва, как он вынул из кармана колоду – как мне показалось сначала – карт и стал раздавать арестантам, громко вызывая по фамилиям. Голос у него оказался громкий, но с каким-то раздражительным, желчным раскатом в окончаниях слов.
– Мило-сердов! Гриб-ский! Вла-а-димиров! Вызываемые униженно снимали шапки, выдвигались из строя и, подходя к Ломову, брали из его рук карты. Он пристально вглядывался в каждого, словно желая запомнить физиономии. Наблюдавшие вместе со мною больные живо догадались, что это за карты.
– Квитки! Квитки, ребята, выдает… Насчет строков… Сбавки какой не вышло ли?
– Чи-рок! Ишни-язов! Огур-цов! – продолжал выкликать Ломов.
У меня усиленно билось сердце в ожидании неизбежной истории.
– Шара-фетдинов! Но-гайцев! Ба-а-шуров!
Маленький татарин Шарафетдинов и толстый Ногайцев, поспешно засунув шапки под мышки, кинулись получать квитки. Медленной походкой шел за ними Башуров, и на голове у него торчала злополучная шапка. Ломов, протягивая к нему руку с бумажкой, поднял глаза.
– Шапку забыл снять… Как твоя фамилия? Шапка не снималась.
– Шапку долой!! – почти взвизгнул помощник и двинулся к Башурову. – Беспоря-адок! Ответом было прежнее молчание.
– Как фамилия?
Надзиратель стрелой подлетел и, приложив к козырьку руку, назвал фамилию.
– Отвести в карцер! – еще пущим визгом разразился Ломов. Башурова повели в карцер. По дороге он, взглянул на больничное окно и с веселой улыбкой кивнул мне головою… Между тем Ломов, пока надзиратели не вернулись из карцерного дворика, в явном возбуждении расхаживал впереди арестантского строя; Ткаченко уверял даже, что видит, как все лицо его перекашивается…
– Ну и злости жевем! Этот еще почище Шестиглазого будет. Сущий волк! Говорил я, что на волка походит, – вот по-моему и вышло… Даром, что голова набок: скрючена, а все видит!
С возвращением надзирателей перекличка продолжалась как ни в чем не бывало. Я с замиранием сердечным ожидал вызова Штейнгарта… Однако каким-то чудом его квитка не оказалось, так же как и квитков некоторых других арестантов, и остальная часть поверки прошла благополучно.
На другое же утро я покинул лазарет и перешел в тюрьму: раз началась борьба, я хотел быть с товарищами. По указанию надзирателя, мне пришлось поместиться не в ту камеру, в которой находился Штейнгарт. Последний настаивал, чтобы я немедленно вызвался к Лучезарову для переговоров. Как ни тяжела была эта обязанность, выбора не представлялось, так как имелись сведения, что Штейнгарт пользовался преимущественным нерасположением капитана, и я заявил дежурному о своем желании видеться с начальником тюрьмы по неотложному делу. На работу в этот день я не был назначен ввиду того, что только что выписался из больницы, и целый день пробродил по тюремному двору, волнуясь и нетерпеливо ожидая, что вот-вот меня пригласят в контору. За три с лишком года пребывания в Шелае Лучезаров несколько избаловал меня в этом отношении: он вызывал меня немедленно всякий раз, как я докладывал о необходимости видеться. Но сегодня происходило что-то странное: часы шли за часами, а меня и не думали вызывать. Вернулись наконец горные рабочие.
– Ну что? Как? – кинулся ко мне Штейнгарт.
– Ничего.
– Все еще не вызывал?
– Нет.
– Что же это значит?
– Сам не знаю. Подождем еще немного…
– Ну, а Валерьян что?
И я стал делиться сведениями, какие успел добыть об арестованном товарище.
И в этот вечер на поверку опять явился Ломов. Мы с Штейнгартом стояли все время в шапках, но он, очевидно, не замечал "беспорядка", и все сошло благополучно. Лучезаров еще целых два дня не подавал никаких признаков жизни, и это начинало нас не на шутку раздражать… Однако в беседах с Штейнгартом я считал своим долгом по возможности охлаждать его негодование и силился даже придать всей истории несколько комический характер. Штейнгарта это злило.
– Что вы тут комичного видите, я не понимаю! – говорил он с сердцем. – И разве сами вы не то же делаете, что и мы?
– Конечно, делаю, но это не мешает мне внутренно подсмеиваться и над собой. Подумайте сами: каторгу мы терпим, солдатский строй терпим, черт знает что терпим, а тут вдруг из-за какой-то несчастной шапки артачимся!
– Иван Николаевич, да ведь одна лишняя капля может переполнить чашу терпения…
– Но не лишить способности рассуждать логически. Снимание шапки – такая же в конце концов формальность, как и все остальное. От товарищества я, разумеется, никогда не отступлю; возможно и то, что, живи я здесь один, без вас, я и тогда поступил бы так же, как теперь, вместе с вами. Но, с другой стороны, по совести скажу вам, что если, бы товарищи решили плюнуть на этот вопрос, я не стал бы упираться…
Штейнгарт горячо протестовал против такого взгляда.
– Я гляжу не так… По-моему, даже телесное наказание не в такой степени принижает человека! Что может сделать человек со связанными руками против грубого физического насилия? И разве его оно унижает? Но этот сравнительно маленький и смешной, на ваш взгляд, вопрос об обязательном снимании шапки – о, это совсем другое дело! Тут я не пассивно, а уже активно унижаюсь, из шкурного страха я сам, собственной рукой делаю то, что мне в высшей степени неприятно делать…
– Значит, Дмитрий Петрович… Простите мой вопрос, но помните вы решение, которое приняли в первый вечер пребывания здесь: "Я стану все терпеть, ч-то только не заденет основ моего человеческого достоинства"? Это была просьба, с которою… И вы думаете, что теперь задета одна из таких основ?
Штейнгарт вспыхнул и затем опять побледнел.
– Я помню, конечно, – сказал он, понизив голос и грустно опустив голову, – но мало ли, во-первых, какие решения принимаются в минуты уныния или, наоборот, радостного подъема чувств. А, во-вторых, как определить точно, где кончается и где начинается какая-нибудь основа? Логикой тут ничего не решишь, это область нравственного чувства…
Но и во мне самом "логика" давно молчала, заменившись смутой самых разнородных мыслей и чувств. И прежде всего я боялся, подобно Штейнгарту, что вопрос о шапках, который сам по себе не имел для меня существенного значения, может явиться лишь первым шагом по пути систематического надругания над нашим человеческим достоинством. Что Шестиглазым задуман целый систематический план, я в этом больше не сомневался. Ломов являлся в этом плане лишь послушным и удобным орудием. Что-то было, очевидно, в бравом капитане, что при всей жестокости его натуры мешало ему лично взяться за это дело; тупой же и грубо-прямолинейный помощник как нельзя лучше подходил к этой неблагодарной роли. И мысль о том, что мы находимся в бесконтрольной власти двух таких человек и, что над нашей головой висит, точно дамоклов меч, "инструкция", знающая так мало градаций в системе своих кар, – эта мысль леденила и обезволивала душу.