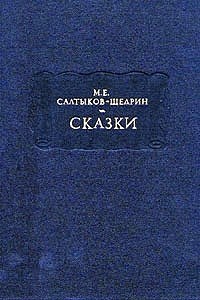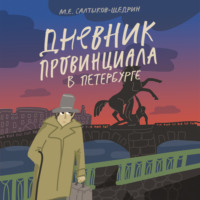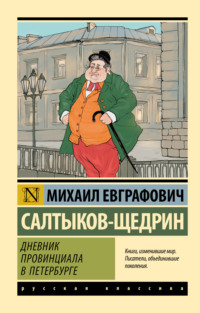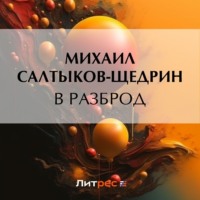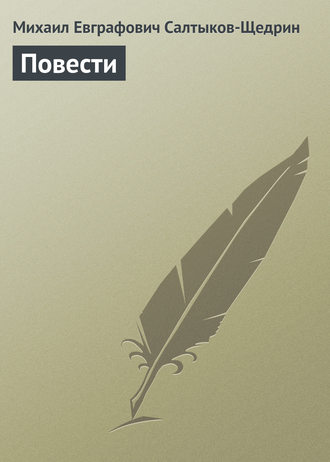 полная версия
полная версияПовести
Видно было также, что старику как будто бы и мерещилась в потемках истина насчет распростертых объятий, да ленива была на подъем его умственная сила! подумать-то было куда тяжело, да еще и до неприятных результатов дойдешь, чего доброго!
И вот уже около года живет юноша в Петербурге, около года он добронравен, не прекословит, смиряется и на практике во всей подробности осуществляет отцовский кодекс житейской мудрости – и не только двух, но и одной матки не сосет ласковое теля!
А между тем он ли не уклонялся, он ли не угождал, он ли не нагибался! Кротче сердцем, смиреннее душою, кажется в целом мире нельзя было сыскать человека! И все-таки от всей фигуры фортуны видел он один только зад… пренеприятное дело!
Сунулся было Иван Самойлыч к нужному человеку местечка попросить, да нужный человек наотрез сказал, что места все заняты; сунулся он было и по коммерческой части, в контору купеческую, а там всё цифры да цифры, в глазах рябит, голову ломит; пробовал было и стихи писать – да остроумия нет! От природы ли голова его была так скупо устроена, или обстоятельства кой-какие ее сплюснули и стиснули, но оказывалось, что одна только сфера деятельности и была для него возможною – сфера механического переписыванья, перебеливанья, – да и там уж народ кишмя кишит, яблоку упасть некуда, все занято, все отдано, и всякий зубами за свое держится…
Словом, вся жизнь господина Мичулина, с самого его въезда в Петербург, была рядом мучительных попыток и исканий, и всё без результата… А отцовские деньги всё уходили да уходили, а желудок просил есть по-прежнему, да и кровь-то еще молода и тепла в жилах – просто ни на что не похоже!
Поникнув головою, тихим шагом возвращался Иван Самойлыч домой после одной из ежедневных и неудачных своих экспедиций.
Дело шло уж к десяти часам вечера. Печальное и неприятное зрелище представляет Петербург в десять часов вечера и притом осенью, глубокою, темною осенью. Разумеется, если смотреть на мир с точки зрения кареты, запряженной рьяною четверкою лошадей, с быстротою молнии мчащих его по гладкой, как паркет, мостовой Невского проспекта, то и дождливый осенний вечер может иметь не только сносную, но даже и привлекательную физиономию.
В самом деле, и туман, который, как удушливое бремя, давит город своею свинцовою тяжестью, и меленькая, острая жидкость, – не то дождь, не то снег, – докучливо и резко дребезжащая в запертые окна кареты, и ветер, который жалобно стонет и завывает, тщетно силясь вторгнуться в щегольской экипаж, чтоб оскорбить нескромным дуновением своим полные и самодовольно лоснящиеся щеки сидящего в нем сытого господина, и гусиные лапки зажженного газа, там и сям прорывающиеся сквозь густой слой дождя и тумана, и звонкое, но тем не менее, как смутное эхо, долетающее «пади» зоркого, как кошка, форейтора – все это, вместе взятое, дает городу какую-то поэтически улетучивающуюся физиономию, какой-то обманчивый колорит, делая все окружающие предметы подобными тем странным, безразличным существам, которые так часто забавляли нас в дни нашей юности в заманчивых картинах волшебного фонаря…
И покачивается себе сытый господин, самодовольно развалившись на мягких подушках, и сладко жмурит глаза, одолеваемый неопределенною, но тем не менее мягкою дремотою, необыкновенно вкрадчивым, но вместе с тем и необыкновенно сладким полузабытьем… И напоминает ему оно, это волшебное полузабытье, то блаженное состояние, которое каждый из нас более или менее ощущал в детстве, слушая долгим зимним вечером бесконечно-однообразные и между тем никогда не утомляющие, давным-давно переслушанные и между тем всегда новые, всегда возбуждающие судорожное любопытство рассказы старой няни о Бабе-яге-костяной-ноге, об избушке на курьих ножках и т. п.
Притаились дети вокруг стола в узкой и низенькой детской, молчат они и не пошевельнутся, нет улыбки на розовых губках их, не слышно свежего, звучного смеха, за минуту перед тем оглашавшего комнату, – все мускулы на этих полных жизни личиках выразили какое-то напряженное внимание, тусклый и трепещущий свет разливает кругом давно забытая и страшно нагоревшая светильня сальной свечки, обычно тихо и мерно дрожит древний голос древней няни с медными и круглейшими самого круга очками на носу и с незапамятных времен начатым чулком в руках, старую сказку о Змее Горыныче. Люблю я это морщинистое лицо старой няни, люблю ее желтые костлявые руки, люблю ее уверенность, будто она действительно вяжет чулок, между тем как на деле только спускает одну петлю за другою; люблю ее воодушевление, ее сочувствие к высокой добродетели Полкана-богатыря, Бовы-королевича; люблю ее движение, когда она, внезапно помолодев и озаренная какою-то юною силою, стучит дряхлым кулаком по столу, приговаривая: "Дернет Полкан-богатырь за руку – рука прочь; схватит за голову – голова прочь"…
И сжимается детское сердце страхом великим, и сочувствует Илье Муромцу, следит за борьбой его с страшным Соловьем-разбойником, и робко вглядываются зоркие глазки в темный угол комнаты, высматривая, нет ли там Бабы-яги, не затаился ли где-нибудь ехидный Змей Горыныч, и весело смеются и хлопают дети в ладоши, когда няня неопровержимыми доводами доказывает им, что Змей Горыныч давно околел и издох, гадина, стараниями разных добродетельных витязей… И сладко засыпают они, резвые дети, и самые розовые мечты убаюкивают юные воображения их, точно так же как убаюкивают они и того господина, который сквозь туман и ветер едет себе в уютной карете своей, между прочим твердо уверенный, что ни туман, ни ветер не огорчат пухлых и благовоспитанных щек его…
Но не в карете ехал, а шел себе скромно пешком Иван Самойлыч, и потому весьма естественно, что петербургский осенний вечер утрачивал в его глазах свой благовидный и благонамеренный характер. Холодный и резкий ветер, давший ему в самое лицо, не навевал на него сладостной дремоты, не убаюкивал его воспоминаниями детства, а жалобно и тоскливо стонал около него, нагло набрасывал ему на глаза капюшон его шинели и с видимым недоброжелательством насвистывал в уши один и тот же знакомый припев: "Озяб бедный человек! хорошо бы бедному человеку у огня да в теплой комнате! да нет у него ни огня, ни теплой комнаты, озяб, озя-яб бедный человек!". И снова тосковал и стонал холодный ветер, и снова расстроивал все мечты злосчастного Ивана Самойлыча, тщетно придумывавшего все возможные средства, чтоб избавиться от докучливого друга, и играл бедным человеком, как бумажкою, случайно брошенною на дороге.
Конечно, и в ступающем осторожно по грязи человечестве рождались кой-какие мысли по поводу дождя, ветра, слякоти и других неприятностей, но это были скорее мысли черные и неблагонамеренные, вращавшиеся большею частию около того пункта, что есть, дескать, в мире, и даже в самом Петербурге, люди сытые, которые едут теперь в каретах, которые сидят себе покойно в театрах или просто дома один на один с нежною подругою; но что этот господин, едущий в карете, мигающий из кресел смазливенькой и затейливо поднимающей ножку актрисе, сидящий один на один с миловидной подругой и прочая, – вовсе не оно, странствующее во мраке грязи и невежества человечество, а совсем иной, совершенно ему незнакомый господин.
"Что же за доля моя горькая! – думал Иван Самойлыч, всходя по грязной и темной лестнице в четвертый этаж, – ни в чем-то мне счастья нет… право, лучше бы не ехать сюда, а оставаться бы в деревне! А то и голодно-то и холодно…"
В дверях его встретила хозяйка квартиры, Шарлотта Готлибовна Гётлих, у которой он нанимал весьма маленькую комнату с одним подслеповатым окном, выходившим на самую помойную яму. Шарлотта Готлибовна взглянула на него недоверчиво и покачала головой; в первой комнате раздавались шумные голоса собравшихся нахлебников; голоса эти неприятно поразили слух Ивана Самойлыча. С некоторого времени он стал как-то задумчив, сделался мизантропом, убегал всякой компании и вообще вел себя довольно странно.
И нынче, как всегда, пробрался он потихоньку в свою комнату и заперся, молча выпил поданный ему стакан чая, бессознательно выкурил обычную трубку вакштафа и начал думать. На этот раз мыслей оказалось нестерпимо много, и всё такие чудные, одна другой страннее. Они вдруг засуетились в голове его ужасно, с быстротою молнии начали перебегать по всем нервам его мозгового вещества и выковывать такие античные морщины на лбу его, каких, наверное, не имелось ни у одного из обитателей скромного "гарнира".
В сущности, дело было чрезвычайно просто и немногосложно. Обстоятельства-то Ивана Самойлыча были так плохи, так плохи, что просто хоть в воду: Россия – государство обширное, обильное и богатое – да человек-то иной глуп, мрет себе с голоду в обильном государстве!
А тут, кроме безденежья, еще и другие горести завязались и окончательно сбили с толку героя нашего. Припоминая все, что сделал он со времени отбытия из дома родительского в обеспечение своего голодного желудка, господин Мичулин впервые усомнился, действительно ли поступал он в этом деле как следует и не обманывал ли себя насчет покорности, уклонения, добронравия и других полезных добродетелей.
Впервые, как будто бы сквозь сон, мелькнуло у него в мозгу, что отцовский кодекс житейской мудрости требовал безотлагательного и радикального исправления и что в некоторых случаях скорее нужен наскок и напор, нежели безмолвное склонение головы.
Но малый-то он был по преимуществу скромный и безответный, да притом же и оробел ужасно. Приехал он в Петербург из провинции; жизнь казалась в розовом цвете, люди смотрели умильно и добродетельно, скидали друг перед другом шляпы чрезвычайно учтиво, жали друг другу руки с большим чувством… И вдруг оказалось, что люди-то они все-таки себе на уме, такие люди, что в рот пальца им не клади! Ну, куда же тут соваться с системою смиренномудрия, терпения и любви!
И куда ни обернется он, за что ни схватится – все вокруг него глядит как будто самостоятельно. Шел он, например, давеча по Невскому – навстречу начальник отделения идет, и крест на шее, и вид такой привлекательный… А ведь еще молодой человек! Конечно, он уж и полноват, и с брюшком, а все-таки молодой человек. Вот и он тоже молодой человек, а не начальник отделения… Что за притча такая!
Встретил он также щегольские дрожки, лошади отличные, пристяжная так и подкидывает; в дрожках едет господин с орлиным носом и проницательными глазами смотрит на мир, как будто взором своим хочет провертеть диру во вселенной.
– Смотрите-ка, – говорят кругом, – это В*** едет! пройдоха, кулак, бестия! а ведь что за голь, что за голь-то была! просто, с позволения сказать, в одной рубашке хаживал.
И между тем В*** – еще молодой человек, да ведь и он, Мичулин, молодой человек, а не ездит же в щегольских дрожках!
А вон и еще молодой человек – этот даже совсем розовый молодой человек, а ведь на нем одно пальто рублей шестьсот стоит; он и весел, и беспечен, все движения его живы и непринужденны, смех его звонок и свободен, глаза бодры и светлы, на щеках здоровье ключом бьет. Актриса ли мимо проедет – улыбнется ему, да и он актрисе улыбнется, важный человек встретится, руку ему жмет, шутит с ним, смеется…
– Этот молодой человек – князь С***, – говорят все кругом…
Да ведь и Иван Самойлыч молодой человек, а он уж и хил, и желт, и согнут, да и актриса ему не улыбается…
Да уж что тут далеко ходить, в отвлеченности пускаться! в одинаковой с ним сфере, подле него, в самом «гарнире», все нахлебники пользуются хоть какою-нибудь ролью, каким-нибудь значением, – одним словом, действуют как люди взрослые и самостоятельные. Иван Макарыч Пережига, например, был некогда мирным деревенским жителем и затравил на своем веку не одну сотню зайцев. Конечно, и зайцы и деревня – все это было уж очень давно; конечно, в настоящую минуту Иван Макарыч пользовался несколько двусмысленною репутацией насчет способов жизни, да ведь в этом виновна уж собственная его блудная натура, да притом хоть как-нибудь, а доставал-таки он себе кусок хлеба. Жил тут же и Вольфганг Антоныч Беобахтер, философии кандидат; этот служил, а в свободное от занятий время играл на гитаре различные бравурные арии. Вместе с ним проживал еще Алексис Звонский, чрезвычайно сведущий и ученый молодой человек, этот писал стихи, ставил фельетон в газету. Наконец, рядом с Иваном Самойлычем обитала Наденька Ручкина: и она была девица сведущая, хотя только по своей части…
Мысль эта давно уж вором кралась в сердце Ивана Самойлыча, и вдруг зависть, глубокая, но бессильная и робкая, закипела в груди его. Все, решительно все оказывались с хлебом, все при месте, все уверены в своем завтра; один он был будто лишний на свете; никто его не хочет, никто в нем не нуждается, как будто бы и век ему суждено заедать даром хлеб, как слабому, малоумному младенцу. Один он не может определительно сказать, что будет с ним завтра.
– Да что же я, в самом деле, такое? – говорил он, прогуливаясь мелким шагом по комнате – не потому, впрочем, чтобы не мог ходить и крупным, а потому что крупному шагу препятствовала самая дистанция комнаты, – отчего же на меня, именно на меня обрушиваются все несчастия? отчего другие живут, другие дышат, а я и жить и дышать не смею?! Какая же моя роль, какое мое назначение?
– Жизнь – лотерея! – начал было по привычке отцовской кодекс житейской мудрости, – смиряйся и терпи!
– Оно так, – подзыкал между тем какой-то недоброжелательный голос, – да почему же она лотерея, почему ж бы не быть ей просто жизнью?
Иван Самойлыч задумался.
"Ведь хоть бы этот князь! – думал он, – вот он и счастлив, и весел… Отчего ж именно он, а не я? Отчего бы не мне уродиться князем?"
И мысли всё росли и росли и принимали самые странные формы.
– Да что же я, что же я такое? – повторял он, с бессильною злобой ломая себе руки, – ведь годен же я на что-нибудь, есть же где-нибудь для меня место! где ж это место, где оно?
Так вот какая странная струна задребезжала вдруг в сердце Ивана Самойлыча, и задребезжала так назойливо и бойко, что он уж и сам, по обычной своей робости, не рад был, что вызвал ее.
И все предметы вокруг него смотрели как-то подозрительно и странно, принимали такую настойчивую, вопрошающую физиономию, как будто тащили его за воротник, душили за горло и, приставив к его лбу холодное дуло пистолета, сиплым басом допрашивали его: отвечай же нам, что же ты в самом деле такое?
Бледный, испуганный, упал он на кресло, закрыл руками лицо и горько заплакал…
В голове его внезапно отчетливо нарисовался деревенский его дом, родитель в вязанной из шерсти ермолке, мать, вечно болеющая зубами и с вечно подвязанною щекою, отец дьякон с дьяконицею, отец иерей с попадьею. Как все там просто, как дышит все деревенскою, буколическою тишиною, как зовет все к отдохновению и успокоению!.. И зачем было оставлять все это? зачем было менять известное, полное самых приятных и вкусных ощущений, на неизвестное, чреватое горестями, огорчениями и другим дрязгам? Зачем было соваться с кротостью и смирением туда, где нужны дерзость и упрямое преследование цели?
А между тем в соседней комнате раздался знакомый Ивану Самойлычу голосок, напевавший известную арию из "Русалки":
Прийди в чертог ко мне златой,Прийди, о князь ты мой драгой…Голосок был небольшой, но необыкновенно мягкий и свежий. Господин Мичулин невольно начал прислушиваться к пению и задумался. И думал он много, и сладко думал, потому что в знакомом маленьком голосе было что-то юное, как будто дающее крылья его утомленному воображению.
Странное действие производят на нас иногда самые ничтожные, по-видимому, явления! Часто самого пустого обстоятельства, просто звуков какой-нибудь нелепой шарманки или голоса разносчика, тоскливо и протяжно вопиющего: "Игрушки детские! игрушки продать!" – достаточно для того, чтоб расстроить всю умственную систему какого-нибудь важного господина, разбить в прах все эти штуки и экивоки, которые на пагубу человечества в голове его строятся.
Так точно было и с песенкой, вылетавшей из соседней комнаты. Песенка была самая простая, лилась себе ровно и без претензий, и вдруг поразила слуховой орган Ивана Самойлыча и, сама не зная как, совершенно расстроила все его соображения о смысле и значении жизни, о конечных причинах и так далее, в противоположность конечным причинам, – до бесконечности. И стал было господин Мичулин сам подпевать и звать к себе дрожащим голосом дорогого князя, стал было бить ногою такт и улыбаться и покачивать головою… Но вот тихо-тихо замер последний звук песенки, еще раз, и уж в последний раз, стукнула в такт нога Ивана Самойлыча, еще раз ускоренным шагом стукнуло его сердце, и вдруг ничего не стало слышно, и прежняя темнота опустилась на его душу, прежний холод охватил сердце.
Потому что не он, а другой был тот дорогой князь, которого звала песенка в золотые чертоги, потому что ему наотрез было сказано, "что уж чему не быть, так и уж не бывать, и беспокоиться о том не извольте…"
С горя, чтоб хоть сколько-нибудь рассеять печальные мысли свои, решился он отправиться в общую комнату.
Там в облаках табачного дыма беседовала вся обычная компания Шарлотты Готлибовны.
На первом плане плотно сидел Иван Макарыч Пережига. Он был в венгерке весьма лихого покроя и в настоящую минуту курил табак из саженного черешневого чубука. История господина Пережиги весьма проста. Жил он некогда в малороссийской своей деревне, травил зайцев, и вдруг – кто его знает? – запил ли он, проигрался ли в пух, или просто другие какие-нибудь независящие обстоятельства приключились, – только в одно прекрасное утро и зайцы и деревня как-то исчезли, и он принужден был отправиться искать счастья в Петербург. Малый был он видный, сильный и плотный, несмотря на свои сорок лет, и потому не остался долго без занятия… Вообще с тех пор, как он поселился у Шарлотты Готлибовны, благородная немка стала как-то благоприятнее смотреть на мир, чаще улыбалась и несравненно больше послаблений и льгот оказывала нахлебникам.
Жизнь Иван Макарыч вел беззаботную и веселую. Вставал он рано; утром ходил обыкновенно в ближайший трактир, выпивал рюмку горчайшей, сыгрывал, не переставая, партий двадцать в бильярд, к которому с малолетства питал весьма нежную страсть; иногда он давал десять и пятнадцать вперед, иногда ему давали вперед пятнадцать и десять.
Доконав таким образом утро, он уходил домой обедать, по дороге осматривал с незапамятных времен брошенную на мостовую и никем не прибранную дохлую кошку (действие нашей повести происходит в одной из отдаленнейших частей столицы), перевертывал ее тросточкой на все стороны и вообще с участием следил за успехами разложения бренной земной твари.
Вечером Иван Макарыч обыкновенно передавал слушателям эпизоды из своего безвозвратно минувшего благоденствия; рассказывал разные любопытные случаи, бывшие с ним во времена его ожесточенных войн против волков, зайцев и других животных, которых он называл общим, но несколько темным именем «скотов» и "подлецов".
Из этого видно, что жизнь Ивана Макарыча как нельзя лучше содействовала его растительным и воспроизводительным силам.
Характер имел он от природы веселый, но не лишенный легкого сардонического оттенка. Он охотно любил подшутить над учеными и не пропускал никогда случая сказать белокурому Алексису, который в науках, что называется, собаку съел и читал-таки на своем веку и Бруно Бауера, и Фейербаха.
– Ну, а что, Бинбахер-то все на своем стоит? все говорит, что того-то нет… главного-то, набольшего-то и нет? Бестия, бестия этот Бинбахер! уж эти мне немцы!.. вот тут они, тут у меня сидят!
Иван Макарыч ударял себя при этом плашмя ладонью по горлу, желая этим выразить, что зарезали, дескать, его немцы, и не без лукавства посматривал на Шарлотту Готлибовну, которая и краснела, и улыбалась в одно и то же время, и с детски наивным простодушием отвечала:
– О, ви очень любезни кавалир, Иван Макарвич!
Но при этом оставалось покрытым совершенно непроницаемою тайной, кого именно разумел господин Пережига под неблагозвучным именем Бинбахера – Фейербаха или Бруно Бауера.
По левую сторону от Пережиги рисовалась сама хозяйка «гарнира». Это была длинная, прямая и тощая фигура, как будто бы сейчас проглотившая аршин. Движения благородной немки отличались какою-то особенною апатичностью и дубоватостью, неприятно поражавшею взор. Как будто все ее мысли, весь ее организм устремились в одну сторону – к любезному ее другу, Ивану Макарычу. Она с немым подобострастием смотрела ему в глаза, с самодовольною улыбкою прислушивалась к звукам его богатырского голоса, как будто хотела всем и каждому на стене зарубить, что это, дескать, все мое; все, что вы тут ни видите, – принадлежит мне, мне без раздела.
Лицо ее было худощаво и покрыто красными пятнами, глаза маленькие, выражавшие какое-то ненасытное нахальство, углы губ опущены, и желудок выдавался несоразмерно вперед.
Едва раскрывал Иван Макарыч рот, чтобы сказать слово, как и она, в свою очередь, спешила показать ряд острых и кривых зубов и начинала улыбаться, смотрела ему томно в глаза и, по окончании его речи, гордо окидывала взором все общество.
По всему было видно, что она оставалась совершенно довольна своей судьбою и в особенности не могла достаточно нахвалиться Пережигою.
Кроме хозяйки и Пережиги, в комнате находились еще два лица: кандидат философии Вольфганг Антоныч Беобахтер и недоросль из дворян Алексис Звонский.
Беобахтер, маленький и приземистый, быстрыми, но мелкими шагами ходил по комнате, бормотал себе под нос какие-то заклинания и при этом беспрестанно делал рукою самое крошечное движение сверху вниз, твердо намереваясь изобразить им падение какой-то фантастической и чудовищно-колоссальной карательной машины.
Алексис, вытянутый и сухой, сидел около стола и, устремив влажные глаза в потолок, обретался в совершенном оптимизме. Молодой человек размышлял в эту минуту о любви к человечеству и по этому случаю сильно облизывал себе губы, как будто после вкусного и жирного обеда.
По обыкновению, дело шло о вещах, вызывающих на размышление, и таинственный Бинбахер оказывался совершенным подлецом…
– Ведь я вам скажу, они все врут, бестии! – кричал Пережига, – уж как же тут без него обойдешься! Это в ихней земле – ну, там свисни раз-два – все и готово! Там оно можно, а поди-ка ты в другом месте повозись-ка – ведь ни на шаг без пакости… Уж вы у меня спросите – мне это дело вот как известно…
И Пережига показал изумленным слушателям огромного размера ладонь.
– О, как это правда! о, как это очень правда! – воскликнула Шарлотта Готлибовна, подобострастно глядя в самое лицо своему другу и так близко наклонившись к нему, как будто хотела положить ему в рот длинный и сухой нос свой.
Господин Беобахтер, самым мягким тенором, поспешил объявить, что, несмотря на это, он "все-таки надеется", и тут же почел за долг с необычайною грацией отмахнуть голову какому-то фантастическому, но тем не менее закоренелому врагу преобразований – преобразований таинственных, но уже заранее во всей подробности нарисовавшихся в его золотушном воображении.
– Вы материалист, Иван Макарыч, – отозвался Алексис, – вы не понимаете, какая сладость заключается в слове «надежда»! Без надежды холодно, сухо, безотрадно! Одним словом, без надежды нет любви – вот искреннее убеждение моего растерзанного сердца!
Надо сказать раз навсегда, что Алексис в стихах своих постоянно изображал груди, вспаханные страданьем, чела, взбороненные горькою мыслью, и щеки, вскопанные тоскою; но о чем были эти "страдание, горе и тоска" – тайна эта была глубоко скрыта во мраке его хитрого мозгового вещества.
– Пожалуй себе, надейся! вот и он надеется, – прервал Пережига, указывая на Ивана Самойлыча, – да ведь яйцо выеденное разве получит!
Все взоры обратились на Мичулина. Он стоял у печки бледный и задумчивый, как будто бы сам глубоко чувствовал свое ничтожество. Сначала он и стал было прислушиваться к общему разговору, хотел было и свое словечко как-нибудь ввернуть, но разговор был сухой и ученый, да притом же к нему и не обращался никто, как будто все молчаливо соглашались между собой, что для ученого разговора он не годится.
– Ну, что, как делишки? – обратился к нему Иван Макарыч.
Мичулин не отвечал, но еще унылее прежнего окинул взором компанию.
– Говорил я тебе, душа ты горькая, – продолжал Пережига, – говорил тебе, поезжай в деревню! уж где тебе тут! сирота сиротой выглядишь – а туда же лезешь!
Шарлотта Готлибовна никак не упустила случая, чтобы тут же не удивиться высокой справедливости замечаний своего любезного друга, а Беобахтер все сильнее и сильнее наяривал ручонкою заветное движение сверху вниз.
– А по-моему, вы очень хорошо сделали, что остались здесь, – сказал он, быстро остановившись перед Мичулиным и пристально смотря ему в глаза.
Постояв с полминуты, он приложил палец к губам и самым вкрадчивым тенором продолжал:
– "Ведь в наши дни спасительно страданье!"