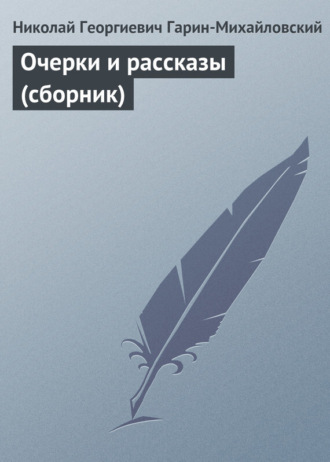 полная версия
полная версияОчерки и рассказы (сборник)
Важный молчит и потом удовлетворенно каким-то трескучим, резким голосом говорит:
– Ничего, конечно, не сделаете.
– А лишний год администрацию содержать, двести тысяч из казенного кармана?
Важный господин опять молчит и нехотя отвечает:
– Надо войти и в их положение. Россия – страна размеров необычных…
– Это и надо принять бы во внимание: за всех все равно ведь не передумаешь…
Собеседник лениво поднял брови и бросил:
– Приходится думать.
Он поднялся с места в виду промелькнувшего уже в окно Обводного канала и, протягивая соседу руку, опять снисходительно и с удовлетворением сказал:
– Месяц еще продержат – с этим помиритесь.
– Да, со всем можно помириться, – ответил, пожимая руку и привставая, его спутник.
Важный господин молча кивает головой и выходит на площадку, а его собеседник – Владимир Петрович Носилов, никого не замечая, смотрит напряженно и огорченно в окно. Он встал последним, когда уже никого не осталось в вагоне, пошел к выходу и думал:
«Врешь, добьюсь сегодня».
Он берет извозчика и едет налево.
Большой знакомый желтый дом.
Ну, конечно, швейцар – поклоны, другой швейцар и опять поклоны, третий, четвертый.
Стоят, смотрят в лицо: свежие, бодрые, готовые без устали кивать и раскланиваться.
А впрочем, они все-таки смягчают обстановку, придают в этот ранний час жилой вид этим пустым еще комнатам и коридорам.
А своими услужливыми и ласковыми лицами производят впечатление, что пришел все-таки, как-никак, а к своим. Владимир Петрович в ожидании слонялся по коридорам и думал: «Ведь в сущности, в общем, люди добродушные и незлобивые, да такова уже сила вещей».
IIДвенадцатый час. Носилов стоит перед низеньким, плотным, добродушным, сгорбленным стариком, не стариком – кто его знает, сколько ему лет. Лицо широкое, глаза маленькие, добрые, фрак торчит хвостиком, манеры простые, добродушные.
– Утвердили, – говорит он не то радостно, не то вопросительно Носилову.
Это приветствие Носилов слышит уже в десятый раз.
– Если утвердили, так за чем же задержка?
– Да ни за чем.
– Ну, так, значит, строить можно: давайте кредиты!
Иван Николаевич говорит:
– Ишь, скорый какой!
– Послушайте, Иван Николаевич, ведь дело от этого страдает, да и мне же нет сил ждать больше, истомился я здесь, – ведь четыре месяца…
– Да что вы, господь с вами, какие четыре?
– Да, конечно, здесь в Петербурге я четыре месяца…
– Ну-у.
Иван Николаевич махнул добродушно рукой и уж заговорился с другими.
Носилов терпеливо ждет.
– Послушайте, Иван Николаевич, я решил теперь являться к вам в одиннадцать часов и уходить в шесть часов.
– Сделайте одолжение, – сухо говорит Иван Николаевич.
– Иван Николаевич!
– Иван Николаевич я пятьдесят четыре года, а один за всех.
– Иван Николаевич, пожалейте же… ну зачем же без толку мне здесь околачиваться? Ну, рассудите же, ведь надо меня отпускать, ну пройдет еще месяц, два, – наступит же момент, когда надо будет вникнуть и в мое дело. Ну почему вам не вникнуть сейчас, зачем томить, мотать душу.
– Ах, господи! Ну что вы пристали, ей-богу?! Что я могу здесь сделать?
– Иван Николаевич, если вы не можете, так кто же может?
Иван Николаевич роется в своем столе, бросает все и говорит:
– Пойдем.
Иван Николаевич ведет Носилова через целый ряд комнат, где у каждого стола сидят чиновники с озабоченными лицами, что-то перекладывают, перекладывают и перекладывают.
– Ивановское дело, – раздается торопливый голос подбежавшего и скрывшегося уже озабоченного чиновника.
– О господи! Ему ивановское, тому петровское, черт его знает за какое и браться!
Чиновник берется за ивановское, раскрывает, тупо-огорченно смотрит, смотрит и вдруг вспыхнул, быстро складывает ивановское и опять сосредоточивается на петровском.
– Почему мы не можем открыть им кредитов? – подходит к этому чиновнику Иван Николаевич.
– Каких кредитов? – спрашивает чиновник.
Ему не хочется оторвать сосредоточившуюся мысль от петровского дела, хочется и ответить.
– Да вот, – говорит Иван Николаевич, и, прерывая сам себя, спрашивает: – Николай Васильевич пришел?
Чиновник оставляет петровское дело и отвечает:
– Пришел.
Голос его многозначителен, и Иван Николаевич щурит левый глаз. Чиновник только машет рукой. Подлетает третий и начинает быстро сообщать какую-то новость.
Все четверо взасос слушают.
– Надо самому идти, – говорит Иван Николаевич и уже идет.
– Иван Николаевич, голубчик, – чуть не за фалды хватает его Носилов, – кончим уж мое-то дело.
Иван Николаевич несколько мгновений смотрит на Носилова, точно впервые видит его, и рассеянно стал говорить чиновнику:
– Послушайте, разберите вы вот с ними…
Иван Николаевич скрывается в дверях.
– Да вы чего, собственно, хотите? – спрашивает Носилова чиновник.
Так как этому господину Носилов еще никогда ничего не говорил, то он и начинает с Адама и доходит наконец до момента своего стоянья перед ним.
Господин слушает, заглядывает в петровское дело, шевелит целую кипу таких же дел, нервно теребит себя за цепочку, закуривает папиросу и наконец теряет всякую нить носиловского рассказа.
– Да ведь это в канцелярию министра, – говорит он, когда тот смолкает.
Носилов смотрит на него во все глаза.
И чиновник, в свою очередь, немного сконфуженно смотрит тоже прямо в глаза Носилову:
– Вам чего, собственно, надо?
Носилов в полном отчаянии – начинать опять сначала?
Входит неожиданно Иван Николаевич, берет его под руку и говорит:
– Он вам ничего не поможет. Вся задержка оттого, что смета к нам не препровождена.
– Как не препровождена? Да неделя, как препровождена!
– Не может быть! Идем в регистратуру.
Иван Николаевич прав.
Носилов летит на третий этаж к старшему своему товарищу по выпуску.
– Послушайте, батюшка, – говорит он, – оказывается, вы в счетный отдел сметы не препроводили?
– Как не препроводил? препроводил.
– Да нет же!
– Что вы мне рассказываете!
Идут в регистратуру. Действительно, не препроводил.
– Куда же я препроводил?
Старший берет журнал и внимательно роется сам.
– Эврика! он препроводил не в общую канцелярию и не смету, собственно…
– Куда же я смету девал? Я помню, я ее отправил… Черт его знает! нет сил!
Он бежит к себе, опять роется на своем столе – сметы нет.
– Директор просят!
Старший бросает Носилова и идет в кабинет директора.
– Дело Шельдера у кого? – выходит он озабоченный через несколько минут из кабинета директора.
– Шельдера, Шельдер?!
Дела Шельдера ни у кого нет.
– Оно у Шпажинского, – говорит чей-то голос.
Шпажинский сегодня не пришел.
– Зарез полный, по делу Шельдера требует справки директор, Шпажинский не пришел, какая это служба?!
– Ей-богу, точно гостиница, – несется ворчанье из кабинета старшего.
– А удачное сравнение, – затягивается и весело подмигивает молодой, с вызывающими и смеющимися глазами чиновник.
Он смолкает, потому что входит старший и сам роется на столе Шпажинского. Как на грех, дело Шельдера оказывается запертым в столе, а аккуратный Шпажинский ключ унес.
– Тьфу! – облегчает себя старший, – ну, уж это, прямо можно сказать, свинство со стороны Шпажинского: перешел себе на частную службу и даже не сдает дела.
Старший уходит в кабинет к директору, а молодой чиновник растолковывает Носилову:
– Шпажинский уже три месяца молит его выпустить, а они под разными предлогами его держат: ну что ж, потерять место в восемь тысяч? Из-за чего?!
Носилов пожимает в ответ плечами и без мысли выходит в коридор.
Он бессознательно подходит к двери директорского кабинета, чтобы не пропустить старшего, который там теперь, у директора.
Тут же у дверей, в ожидании очереди, слоняется с папкой и Иван Николаевич.
– Ну что? – спрашивает он у Носилова.
– Нет сметы, – разводит руками Носилов.
– И в претензии, батюшка, нельзя быть, – добродушно говорит Иван Николаевич.
Оба они отходят к большому окну, оба облокачиваются и смотрят из окна в сад, а Иван Николаевич благодушно говорит:
– Ну, вы сами вот считайте: теперь что? Май? Исходящий номер уже десять тысяч сто двадцать первый, да столько же входящих. Пять минут только подержать каждое дело в руках, пять минут. Много ли? а ну-ка, посчитайте.
Иван Николаевич заинтересовался задачей и, смотря повеселевшими глазами в окно, шепчет:
– Десять тысяч, двадцать тысяч… по пяти минут – сто тысяч, разделить на шестьдесят, по нулю отбросить, десять тысяч на шесть… Это что же будет? тысяча шестьсот часов… Ну, хотя от одиннадцати до шести, значит, семь часов, – на семь… два… двадцать, ну хоть три, двести тридцать дней. Январь, февраль, март, апрель, на круг, ну хоть двадцать пять дней… сегодня двенадцатое – еще двенадцать, а там вдвое выходит… Так ведь в пять минут всего… С вами одним сколько вот уж: что ж тут сделать можно?!
– Да ведь ничего же вы и не делаете, стоит все, – огорченно, равнодушно отвечает Носилов.
– Ну, не очень-то стоит: десять тысяч все-таки исходящих, да входящих… за день, до шести часов, голова в пивной котел вырастет.
– Да кто говорит! Удивляться только можно, как у вас всех нервы выдерживают! Понимаете, лучшее же время уходит… я уже и письма перестал получать из дому: я каждый день, вот уже месяц, телеграфирую домой, что завтра выезжаю… Не знаю даже, что и делается там теперь…
Очередь Ивана Николаевича к директору, потому что старший вышел.
Старший бежит и на ходу решительно кричит Носилову:
– Батюшка, завтра – сегодня секунды свободной нет!
– Но завтра, Семен Павлович, будет?
– Будет, будет, – доносится успокоительный голос старшего уже с верхней лестницы.
Носилов провожает его глазами, – какая-то надежда, что завтра выпустят, и тоска.
Он смотрит на часы: два часа. Ехать в город, купить еще по записке, что не куплено, да послать опять телеграмму домой.
IIIШесть часов вечера. Последний свисток, и уже мчится из Петербурга поезд. Пестрая, разноцветная, нарядная дачная толпа: молодые франты, дамы во всевозможных шляпках. Потонул в этой толпе желто-зеленый чиновничий люд.
Окна настежь в вагонах: ароматный теплый вечер смотрит в окна, и так легко дышит грудь среди зеленеющего простора полей.
Носилов едет, уткнувшись уныло подбородком в окно, и смотрит, смотрит.
Вот и Царское, – высыпала часть публики, остальные – большинство – умчались в Павловск.
Носилов едет уже на извозчике, там извозчики старинного типа, которого уже нет в Петербурге, но жив он еще в Царском, и прыгает Носилов вместе с неуклюжими дрожками и кучером по тяжелой булыжной мостовой узких улиц Царского Села.
В одной из этих улиц, на даче, в пяти комнатах живет его сестра и зять, и незамужняя сестра, и шесть человек детей замужней сестры, и он же у них. Хотел в гостинице остановиться, но настояли, и должен был уступить. Неудобно и им и ему, но уж так заведено, да и все-таки меньше расходов… Но много расходов: и куда уходят только эти деньги? Вот идет какая-то девушка – энергичная фигура и смотрит прямо в глаза ему. Хорошее лицо! Не все ли равно ему, хорошее или нет: он женат, дети. Нет, интересно: оглянулся, и она оглянулась. Эх, домой бы уж скорее: от семьи совсем отвыкаешь… Какая невозможная мостовая… как жизнь интеллигента наших дней: крестьянину хоть плохо, да при своем деле он, какое ни на есть… Пробовал и он, Носилов, свое дело завести – не пошло. Какое дело теперь идет, да и для своего дела разве такое воспитание, такая подготовка нужны? Только и быть чиновником да двадцатого числа ждать. Господи, господи, когда ж они выпустят наконец?!
– Дядя приехал, дядя приехал!!
И веселая гурьба детей с десяти до трех лет бегут к нему навстречу. Они уже утомили его своим криком, и Носилов, подавляя раздражение, чувствуя, что надо же хоть веселый вид сделать этим жизнерадостным молодым побегам, добросовестно целуется со всеми ими и говорит показывая на извозчика:
– Там для вас.
– Ну что, устал? – встречает старшая сестра, – хочешь, сейчас будем обедать, – Витя через полчаса будет.
– Подождем, конечно.
Младшая сестра бросила играть, целуется и спрашивает, стараясь быть равнодушной:
– Ты один?
Да, он ведь обещал привезти Струйского и совсем забыл!
– Один, Струйского не застал, оставил записку, чтобы завтра приехал обедать.
Носилов врет, чтобы не огорчать еще больше своей невнимательной забывчивостью.
– Ну и отлично, – говорит благодушно старшая сестра, для которой все отлично, – когда едешь?
– Опять завтра.
И это оказывается отлично, и невозмутимое благодушие сестры передается брату.
«Что ж, в самом деле, – думает он, – живут же люди, вон едят, и жизнь идет своим чередом: ничего такого уж худого нет».
И он повеселевшим голосом говорит:
– Какой вечер!
– Идем в сад.
– Смотри, мама!
Молодая компания весело-смущенно тащит пакеты.
– Ну, уж этого не люблю: в другой раз, дети, от дяди не брать.
Компания восторженно подхватывает:
– Не брать!
И старший подходит, обнимает за шею своего дядю и говорит наставительно ему:
– Слышишь, не брать.
– Ну хорошо, хорошо.
– Смотри…
Приехал и зять.
Он тоже такой же чиновник, но центральный, на постоянном месте.
Большой, черный, невозмутимый, с густым басом.
– Ну что?
– Опять до завтра.
– Эх, батюшка, потверже с ними надо.
– Не драться же…
– Будут они водить: им что!
– Ну, господа, обедать: тебе твои раки, – говорит сестра, обратясь к брату, – тебе твой форшмак.
Тут же на террасе обед – сытный, летний.
После обеда старшая сестра спрашивает мужа.
– Немножко заснешь?
– А потом в Павловск, что ли? – соглашается муж.
– Ну и отлично, – иди и ты, – советует она брату.
– Так прилечь разве.
– Что же сыграть тебе? – спрашивает молодая сестра брата и идет к роялю, а Владимир Петрович с хозяином уходят в спальную.
– Дети, в сад – папа и дядя спать будут.
Кажется, и дела никакого не было, а устал. Хорошо полежать после сытного обеда. Хорошо играет сестра: хорошая вещь – музыка. Легкий сон охватывает незаметно. Еще слышна музыка, но где-то далеко-далеко: нежная, мелодичная, как звенящий ручей где-то там, где так много воздуха и жизни и радостей… Где, где это было? когда? Какие-то глаза смотрят… да, да, глаза…
– Спят, – заглянула и тихо шепчет младшей сестре старшая.
Та кивает головой, беззвучно встает, закрывает крышку рояля, и обе сестры осторожно выходят на террасу.
КОГДА-ТО
I…Когда отворилась дверь и я вошел в столовую, Наталья Александровна вскрикнула и уставилась в меня своими большими черными глазами:
– Я вас не узнала… Отчего я так испугалась?
– Вы испугались меня?..
Она подумала и сказала:
– Вы мне показались черным…
– Черным?..
Я думал об этой встрече и, быть может, хотел показаться ей совсем другим…
– Вам налить чаю? Крепкий? Сколько кусков сахару?..
Рассеянный, безучастный взгляд, голос…
– Я сейчас в театр иду… Ваша комната готова… Если хотите, я позову к вам мужа…
– Ему лучше?
– Все так же… Я сейчас… пойду, посмотрю…
Она встала, захватила с собой мешочек с биноклем и ушла. Среднего роста, худенькая, стройная, в черном, с кружевами, платье… Эти кружева как будто говорят о желании нравиться, о чем-то более легком, чем равнодушный тон и серьезное без игры лицо…
А может быть, это лицо было бы совсем другим, если бы я показался ей другим?..
А что такое «я»? И почему непременно – я? Почему ей ждать меня, когда и муж есть, и всех других к ее услугам столько же, сколько… сколько красивых и молодых людей будет, например, в театре, куда она идет?..
Она вошла и сказала, что муж спит…
– Пойдемте, я покажу вам комнату… приготовленную для вас.
Комната большая, прямо из передней, а по ту сторону передней – их домашние комнаты; рядом с моей – гостиная, из гостиной – ход в столовую…
– Эту дверь, в гостиную, вы можете запереть… Впрочем, у нас никого почти не бывает, – вам будет спокойно… Это – комод, шкаф… ящики в столе запираются…
Она говорила рассеянно, очевидно не думая о том, что говорила…
– Отчего вы мне показались черным?
Что-то лукавое – в ее лице… Она уже готова улыбнуться… Но все-таки не улыбается… Она говорит с раздражением:
– Ах, как я испугалась… Заприте за мной дверь!..
Я вышел за дверь. Она была уже на площадке лестницы. Обернувшись, она посмотрела мне в глаза, покачала головой и бросила:
– Мне так не хочется идти в театр…
– Так не ходите!
Она помолчала, серьезно по-товарищески сказала «надо» и пошла. Я стоял на площадке и смотрел, как спускалась она по лестнице. Дом был новый, лестница широкая, светлая, было тепло… Ее стройная фигура опускалась по ступенькам, и я видел ее маленькую, с высоким подъемом ножку. Она чувствовала, что я смотрю, любуюсь ею, она знала это и не хотела поднимать головы. Только при последнем повороте, как будто против воли, подняла она голову и так холодно посмотрела, что я, назвав себя мысленно дураком, ушел в квартиру и запер дверь.
И только что запер, – опять звонок:
– Скажите девушке, чтобы приготовила самовар к двенадцати… Пусть купит что-нибудь к чаю…
И опять внимательный и в то же время недоумевающий взгляд. Я намеревался сейчас же приняться за чемоданы и навести кое-какой порядок в своем маленьком хозяйстве, но что-то меня удерживало: я думал о театре, и меня тянуло туда, в залитый огнями зал, где много народа, шумно, где – она… Кто она?.. Неуловимый, едва обрисовавшийся, едва коснувшийся меня призрак… И даже не коснувшийся: недоумевающий, неудовлетворенный…
Тихо… Тикают в столовой часы и сильнее подчеркивают тишину квартиры… Шаги человека в туфлях: муж!.. Дверь отворяется: высокий, сгорбленный, худой, в халате… Лицо длинное, острое, острый нос, редкая клином бородка. Молодой.
Глухой голос, руки большие, костлявые, с крючкообразными загнутыми ногтями…
Я смотрю на эти ногти и вижу, как будет он лежать в гробу, и высоко на груди у него будут сложены эти руки с бледно-мертвыми, большими, загнутыми книзу ногтями…
Чувствовалось что-то болевое, обиженное до смерти..
Я посмотрел на часы и сказал:
– Уже одиннадцать… Наталья Александровна просила к двенадцати самовар и что-нибудь к чаю…
– Теперь поздно: наша лавка заперта уже.
– А что купить? Я пойду в большие магазины…
Он пожевал и не спеша ответил:
– Она любит рябчики холодные, икру…
Она любит… Непременно надо рябчиков и икры! Он запирает за мной дверь, я заботливо напоминаю ему о самоваре и через две ступеньки лечу по лестнице… Неожиданно вздрагиваю: передо мной – Наталья Александровна.
– Куда вы?
Я обрадованно сообщаю о рябчиках и икре. Она устало отвечает:
– А я не досидела… Скучно…
Мы стоим друг против друга.
– Как хорошо на воздухе! – задумчиво говорит она.
Я хочу предложить ей поехать вместе за рябчиками, но не решаюсь и смотрю ей в глаза, странные, недоумевающие.
– Что вы так смотрите?
Я опускаю глаза.
– Я вас не стесню, если поеду с вами?
– Вы?.. Меня?!
В моем лице, в моем голосе столько радости, что и она оживляется…
Мы едем. Плохой извозчик… Переменили на хорошего… Летим… Мы в магазине, в булочной. Она удерживает меня от мотовства, мы весело смеемся и смотрим друг другу в глаза… Это лицо, глаза совсем не те, которые смотрели на меня, когда я впервые вошел в столовую.
Мягкая зима, нежный ветер, и пушинки снега падают на руки, лицо и ресницы. И тогда свет электрических фонарей горит, как в призме, и так ярко, рядами вырастают громадные освещенные дома набережной. Я слегка обхватил ее тонкую талию и боюсь прикоснуться сильнее. Ощущений самых тонких, самых неуловимых – миллион, но слов нет, и говорить не о чем… О чем думает эта головка, прячущая лицо за муфтой, и какое лицо за этой муфтой?.. Я стараюсь вспомнить это лицо: я совершенно забыл его, не помню; около меня какой-то чужой человек, которого я не знаю, который меня не знает, но которого почему-то я хочу, заставляю себя знать. Зачем?.. Для того, чтобы вышла из всего этого какая-нибудь пошлость. Сохрани боже…
– Едем домой.
Едем, моя дорогая, и я убью самого себя, если когда-нибудь дурное придет мне в голову. И теперь мне ясно, кто она: страдающая, с разбитой уже жизнью, когда и жить, собственно, не начинала.
А там тот, умирающий, с своим раком или чем-то в этом роде в желудке.
Тяжелая драма, и кто знает, кому из них тяжелее?
И, как будто слушая мои мысли, она вздохнула и на мгновение прижалась ко мне. И от этого движения сердце сразу остановилось и дрожь пробежала по всему телу. Ах, как хотелось знать, что чувствует она в это мгновение, понимает ли, или, вернее, действительно воспринимает ли мои мысли, чувства, говорит ли со мной, пока мы так едем, молчаливые и напряженные? А если бы вместо пустых слов сказать вдруг, что думаешь? И если бы вдруг все люди заговорили и языком, и глазами, и всем существом своим заговорили бы одно, только правду: что сталось бы с ними, с миром, со всей нашей жизнью? Что-то другое, совсем другое… Лучшее или худшее? Лучшее уже потому, что оно неведомое, новое, от которого захватывает дыхание и кажется, что растут крылья.
Стой!
Мы приехали.
Знакомая уже лестница, тепло, свет, запах новой стройки.
Ее маленькое ухо, то, которое с моей стороны, в огне и кажется прозрачным. Снежинки тают на волосах и горят, как бриллианты. Она иногда поворачивается и смотрит на меня, и свежий румянец оттеняет ярче и белизну лица и блеск черных больших глаз.
– Порядочно натратили? – спрашивает она, нажимая звонок.
– О, это из тех денег, которые для этого и предназначены.
– И много предназначено?
– Дядя подарил мне билет в тысячу рублей, и он весь будет так истрачен.
– Ведь вы сразу всё истратите. Лучше отдайте мне и я буду давать вам по частям.
– С наслаждением.
И я, опустив пакеты, хотел достать билет.
Она остановила меня и сказала:
– Потом.
Она рассмеялась, и я рассмеялся.
Дверь отворил сам муж и стоял в халате, согнувшийся, с открытым ртом. В зеркале напротив отражались мы все: он, она и я.
Контраст большой: там смерть, здесь жизнь.
– Если бы я его не удержала, он купил бы весь магазин… Ему дядя подарил тысячу рублей, и я их беру у него под свою опеку.
– Так, так, – не то улыбаясь, не то показывая зубы говорил муж, пятясь и кутаясь в свой халат.
В столовой на чистой скатерти уютно шумел горячий самовар, стоял чистый чайный прибор и Наталья Александровна, заваривая чай, говорила, что с удовольствием напьется чаю.
Я развязывал пакеты, а муж сидел, стучал ногтями о стол и с полуоткрытым ртом, с любопытством следил за содержимым в пакетах.
Потом стали пить чай и есть.
Наталья Александровна опять ушла в свой мир, рассеянно прихлебывала из чашки и почти ничего не ела.
Муж ел много, с аппетитом, и икру, и рябчики, и сыр, и фрукты, и пирожные. Ел руками и на замечание жены, что ему вредно, отвечал рассеянно:
– Ничего, матушка.
IIДни пошли за днями. Я свой последний год ходил в университет, ездил с Натальей Александровной в театр, катался с ней по островам. Она до безумия любила быструю езду, любила острова.
– Боже мой, как прекрасны они весной, – говорила она, когда мчались мы с ней, и с обеих сторон, наклонившись под тяжестью снега, стояли высокие ели, а там, в просвете между ними, голубое небо сверкало, и мерзлый снег хрустел, и снежная пыль осыпала нас, – как чудны они весной, когда распускаются береза и душистый тополь.
В общем, впрочем, говорила она редко. Обыкновенно же, точно просыпаясь, бросала несколько слов и опять погружалась в свои мысли или чувства и ощущения.
Я был говорливее и уже успел рассказать про себя все, что знал.
Она молчала, слушала и думала.
Мы не сговаривались, но оба мужу не говорили ничего о наших поездках.
Она только как-то бросила мимоходом:
– Мы ничем не связаны друг с другом.
Я подумал бы что-нибудь, если бы это не было сказано таким равнодушным и безучастным тоном. Да и вообще я ни о чем не думал, кроме как о том, чтобы она не заподозрила во мне каких-нибудь грязных поползновений.
Даже надевая ей на ноги калоши – прежде я никогда не надевал никому, – я корчил такую свирепую физиономию, что она сказала однажды:
– Я не позволю вам больше надевать калоши.
– Почему?
– Вам неприятно это.
– То есть?
Я хотел говорить, но только развел руками. Не говорить же, что ее красивая нога вызывала во мне особое ощущение, такое, точно огонь вдруг разливался в жилах, спиралось дыхание, и надо было громадную силу воли, чтобы все это подавить. Как надо было подавлять охватывавший меня вдруг порыв к ней, безумное желание вдруг броситься и начать целовать ее, ее волосы, плечи, всю ее, прекрасную для меня в эти мгновения.









