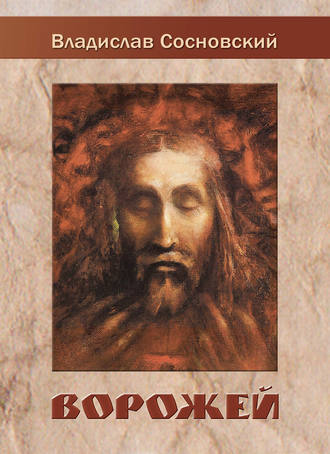
Полная версия
Ворожей (сборник)
– Завтра побреюсь к чертовой матери. Начинать новую жизнь – что с якоря сниматься: надо с чистой мордой.
– Вот комары обрадуются, – засмеялся Борис. – С твоей лысой фотографии им до самой осени крови пить, не перепить.
– А я думаю, ребята, – вмешался Хирург, – придется мне с утра выходить Гегелю наперерез.
– Правильно, – поразмыслив, поддержал друга Боцман. – Все равно никакой работы не будет. Я чаек слушал. Говорят, сырость с неба дня на три, не меньше.
Борис покачал головой.
– Неугомонный ты дядя, бригадир. Но я, если ты не против, пойду с тобой. Найдем твое чудо, хоть посмеюсь над этой мокрой курицей.
Хирург хотел было что-то сказать, но промолчал.
– А мне чего делать? – пробасил Боцман. – Не оставлять же лагерь.
– Ты к вечеру как раз только и побреешься, – прояснил Борис.
– Слушай, Боря, – надорвал тишину лагерный целитель, – скажи мне: за что ты людей не любишь?
Борис помедлил с ответом, закурил питерский «Беломор», выданный сенокосчикам на все лето.
– Как тебе сказать… Не за что их любить пока. Не видел я в жизни ни от кого ничего хорошего. Человек по природе своей злой. Злой, как волк. А ты должен быть еще злее – иначе сотрут в порошок, растопчут и ноги об тебя вытрут. Рви свое – тогда будешь жить. Вырвал побольше – тебя уважают, кашляют перед тобой, кланяются. А не вырвал – ты вошь, гнида. Всякая кляча копытом раздавит. Ты – никто и никому не нужен. Хоть люби человека, хоть не люби. Он к тебе все равно задницей повернется. Если нет ничего в кармане, так и будешь катать с места на место, от берлоги к берлоге, потому что ты – голь перекатная. И цена тебе – один деревянный, да и то – стесанный. А все эти «возлюби», «снимай рубаху», «не укради», «не прелюбодействуй» как раз на такую рвань и рассчитаны. Поскольку им ничего другого не остается. Люби ближнего и все. Может, он корку какую подбросит. А женщин иметь – в кошельке ветер гуляет. Конечно, философия не новая, но как я успел заметить, Хирург, весьма прочная. И в наше время, поверь мне, самая предпочтительная. Соглашайтесь, не соглашайтесь, меня с нее не сдвинешь. Жизнь научила кое-чему. Человек же сам по себе – такое изобретение, что ему все мало. Есть дом – нужна «тачка». Есть «тачка» – подавай дачу. Имеется дача – причаль к ней яхту. И чтоб в ней – красотка. И так без конца. Но здесь-то и зарыт интерес. Жизнь – бой. Будешь изворотливым, сильным – победишь. Нет – извини, подвинься. А любовь – это, Хирург, лирика. Без запаха и цвета. Ее не потрогаешь руками, чего она такое и сколько стоит… Вот прикинь, я на Ривьере, – есть за бугром курорт такой. Выхожу из длинного белого «Форда» в белом костюме с сигарой во рту. И меня сразу все любят. Предлагают и то, и это. А я, усевшись в плетеное кресло, лишь выбираю и то, и это. А почему? Потому что люди мне нужны только как средство достижения своей цели. И я передвигаю их, словно фигуры на шахматной доске. А если я буду любить их, как ты говоришь, то никогда не стану ни Фордом, ни Рокфеллером, ни Лениным-Сталиным. Это – дважды два. «Мы всходим на корабль и происходит встреча, – говорил один французский поэт, – безмерности морей с предельностью мечты». Вникните в эти строчки и поймете, что я прав. Предельность мечты! Есть черта, за которой все обнажается, будто под твоим скальпелем, Хирург. А ты говоришь – любовь. Ты, кто лучше других знает: проведешь по коже этой штукой, и вот они – печень, почки, легкие и прочие предметы. Где она тут, любовь? В желудке, селезенке, кишках? Где она?
На Хирурга тогда навалилась какая-то тяжелая, плотная тишина, в которой издала последний, тихий крик и скомочилась на дне лампы, обожженная кинжальным лезвием пламени, неведомая, мелкая комаха.
– Знаешь, Боря, – с налетевшей тоской произнес Хирург. – Скажу тебе притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И вот он рассуждал так: что мне делать? Некуда мне собирать плодов моих. И сказал: вот, что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие. И соберу весь хлеб и все добро моё. И скажу душе моей: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Бог сказал ему: «Безумный! В сию ночь душу возьмут у тебя, кому же останется то, что ты говорил?» Так вот, не случится ли с тобой то же самое? Средства, какими ты намереваешься пользоваться, не от Бога взяты будут. И не на любви к ближнему хочешь построить дом свой. Твоя философия – философия застывшей лавы, которая всеми силами будет пытаться забыть, что под нею клокочет огненная стихия. Кроме того, помни: ты – русский, и в твоей душе обретается древняя страсть путника, ищущего Града Божьего, для которого безмерная ширь и воля важнее всего. Это проснется рано или поздно. Тебя же сейчас обуяла алчность, тогда как великое приобретение жизни – просто быть, жить и уметь радоваться этому. Алчному же – хоть весь мир отдай, он все будет говорить: «Мало!». Так рассуждают протестанты. У них нет Бога как такового. То есть он есть, но, скорее, в качестве идола, пред которым можно покаяться в чем угодно. И он простит и предательство, и ложь, и намеренное убийство. А дальше можешь делать все то же самое. И лгать, и убивать, и предавать. Покаяния, искреннего, православного покаяния у них, у наших заокеанских друзей нет. Да и ты сейчас не русский, вспорхнувший за золотой бабочкой. Рабство ты уже ощутил на собственной шее. Что же, теперь будешь мазать этим дерьмом других? Худо, Боря. Не о таких людях, как ты, мечтает Россия. Не о таких, Боря. А теперь спи. Ну тебя ко всем чертям. Надоел ты мне. – Хирург устало поднялся и вышел по ноющим, старым доскам вагончика наружу, в мокрую, налитую запахом хвои, темень. Сейчас он казался себе таким же обожженным мотыльком с подгоревшими крыльями, оставшимся лежать на донышке лампы. Не было ни сил, ни желаний. Рядом глухо урчала река. Из глубины леса вырвался и тут же задушено стих далекий звериный крик.
Хирург вздрогнул. Невольное чувство хрупкости всего живущего овладело им. В который раз! Он вдруг испытал отвращение ко всякого рода суетной деятельности. Кто придумал, что праздный ум – мастерская дьявола? Напротив, чистый ум или праздный ум – мастерская Бога. Конечно, черные силы поселяются в уме, обуреваемом безудержной деятельностью. И Борис не исключение. Он молод, он бежит и проваливается то в одну, то в другую яму. Соблазнов много, а ум, как кочерга. Ему нет покоя. Он весь в суете. И вот уже дьявол начинает руководить им. Он никогда не скажет: «Остановись!», «Расслабься!», «Поразмысли». Он говорит: «Действуй! Делай, что угодно, но действуй. Двигайся! В жизни надо успеть!»
На самом деле, стремиться успеть не нужно, потому что именно тогда и не успеешь. Все великие осознали: неспешный ум позволяет божественному войти в него. И быть в нем нетленно. По природе ум пуст, но он содержит в себе все, что нужно.
Иисус сказал: «Если будешь цепляться за себя, потеряешь…»
Хирург невольно, словно по чьему-то велению, обернулся и посмотрел в направлении Шамана. На том месте, где стояла белоглавая сопка, мреял огромный мутно-золотой равносторонний треугольник с легкими красными шарами по углам. В центре же эта геометрия имела ясно различимый зрачок, недвижно взиравший на Хирурга испытующе строго. Под этим взглядом Дмитрий Валов вдруг почувствовал, как усталость и немощь слетели с него, будто шелуха, а тело стало легче птичьего пера. Оно, тело, медленно поднялось от земли и легко взмыло над тайгой косо вверх. Но кроме этого, Хирург с удивлением обнаружил, что и речка Лайковая, на берегу которой он только что стоял, тоже движется вместе с ним в окруженном звездами пространстве. Наконец растаяли звезды и в абсолютной мерцающей пустоте оказались лишь Хирург, серебристая река и загадочный треугольник с живым оком, все так же глядевшим на лекаря с прежним неколебимым вниманием. Хирург неожиданно увидел себя как бы со стороны. Пугающе большим и прозрачным было его тело. Река уходила в бесконечность. Течение ее стало спокойным и плавным. Треугольник теперь занимал всю оставшуюся часть окружающей площади, если таковая вообще существовала.
Хирург увидел, как сначала произошло некое сияние, наподобие северного, а затем Река беззвучно вспенилась легким серебром. Из Нее родились два солнечно-прекрасных, разнополых существа и, взлетев, как боги, они растворились в бесконечности.
– Радуйся боли! – услышал целитель запредельный голос. – Ибо она есть предвестник рождения и дана как очищение и покаяние. Радуйся заблудшему, поскольку ты способен вывести его из мрака. Радуйся искушению, потому что оно дает тебе возможность и силы противостоять. Имея же эти силы, все низкое сделаешь высоким. Радуйся темному, потому что можешь пролить в него свет. Не беги от этого. Не бойся смерти. Смерть – лишь новое рождение. Следуй за любовью и добром, тогда тебе дано будет, а в жизни – достигнешь. Радуйся!
При этих словах большой, боковой образ целителя неспешно наполнился сначала цветом млечным, затем серебряным и, наконец, золотым.
Хирург физически почувствовал тяжесть в затылке и хотел, было, снять фуражку в знак искреннего почтения пред ровным, могучим и мудрым голосом, но головной убор остался в вагончике, в обычном деревянном вагоне, оббитом обычным ржавым железом. Целитель растеряно обернулся, но ничего не смог различить позади себя. Накатившаяся ночь уже поглотила лес, едва обозначив вверху лишь кромку его ровной стены, а заодно и таежный дом, оставив только бледный конфорочный огонь окошка. Простужено дышало моросью низкое небо. Хирург потрогал покалеченной рукой мокрые волосы и понял, что снова на земле. Он опять поворотился к Шаману, но там была сплошная черная мгла. Где-то рядом все так же неусыпно мурлыкала и кипела в перекатах старая подруга – речка Лайковая.
Хирург поднял голову к небу и медленно, вкусно вдохнул родниково чистый, влажный воздух, ощутив, что вместе с хвоей, речной свежестью в нем растворено еще эхом звучащее: «Радуйся!»
– Ну ты даешь, командир, – попенял Хирургу Борис, когда за тем захлопнулась дверь теплушки. – Мы думали, не уснул ли ты часом где-нибудь под кустом. Живот, что ли, схватил?
– Догадливый ты парень, Боря. И это в тебе – золотое качество, – ответил Хирург и начал стаскивать с себя волглую фуфайку.
Боцман поднялся и открыл настежь дверь. Дым от выкуренных папирос волной стал выливаться в бездонную ночь, а та вмиг наполнила вагон лесным еловым ароматом, хорошо приправленным запахом реки.
– Что ни говори, – сказал Боцман открывшейся ночи, – а море пахнет лучше. Сильней пахнет. Сильней.
– Я не против, – сказал Хирург Борису. – Пойдем завтра вместе. В тайге-то бывал?
– По-настоящему – нет. Так… на экскурсии.
– Вся наша жизнь – экскурсия, – философски заметил Боцман.
– Это точно, – согласился Хирург, – большая экскурсия.
Автобус, наконец, заполз на очередной подъем и остановился. Дальше дорога была ровной, но вдали виднелся глубокий спуск перед новым, спирально кольцевым витком вверх.
Слева, завернутая в метельное покрывало, сонно стояла тайга. Справа же, в низине, покоилось гранитно-седое плато океана.
– Перекур! – крикнул шофер. – Кому побрызгать – выходи.
Разбуженный народ зашевелился, потягиваясь и зевая.
– Половину отмотали, – сказал кто-то.
Хирург, оторвавшись от воспоминаний, взглянул на местность.
«Пожалуй, что так», – подумал он, припомнив, как года два назад по этой же дороге подвозил его один «веселый» водитель. И именно в этом месте, изумленный видом открывшегося моря, чуть было не свернул, чтобы прокатиться к нему по обрыву.
Старатели с сенокосчиками дружно выстроились у обочины, возглавляемые шофером, одетым, как бросилось в глаза, в черный морской китель с двумя рядами золотых пуговиц.
– Ну, дядя, на тебе кнопок, что на гармошке, – рассмеялся Борис. – Хоть Камаринскую шпарь.
Добытчикам понравилась незлобная Борисова шутка, и они басовито погудели, как шмели, продолжая поливать невысокий снежок.
– А я, слышь, это… – оживился имевшийся у приисковиков личный Гомер. – Еду раз с Киева у Белую Церкву…
– Так, хлопцы, по местам, – скомандовал морской шофер. – Я и так опаздую. Не тянет, холера. Посадют на рухлядь – и колупайся с ей.
Расселись. Машина теперь побежала по ровной дороге легко, ухватисто. Народ достал курево и проветрившийся, было, салон вновь наполнился густым, тяжелым дымом.
– Ага. Дело было летом, – продолжал свое повествование сказитель и поправил на круглом, румяном лице пышные соломенные усы. На голове у него блином лежала белая фуражка, из-под козырька которой весело и озорно светились быстрые рыжие глаза.
– Еду. И как раз же по дороге кум живет. Километров пятнадцать. А время у меня было, что я мог и назавтра вернуться. На мне пиньжак. Ага. При Сталине носили такие. И пугвицыж, конечно, золотые.
Заворачую до кума прямо во двор. А как-то так получилось: давно перед тем не виделись: то работа, то – то, то – это… Жинка кумова давай сразу доставать огурцы соленые, сало. Курку зарезала. Самогона четверть. Все как положено. Ага. Сели в садочке. Вечереет.
Разговариваем. Раз и приходит соседка. Женщина – я тебе говорю. Вдовая. Жаром от нее, как от печки. Села рядом. Ага. Села. Я аж сомлел близом с ей. Грудей у той соседки – мама родная. Что два гарбуза за пазухой. Такая прорва тела в женщине. Видать, она тем своим телом мужа и укатала. Здоровый такой хлопец был, Федя. Я его знал. Комбайнер. И вдруг помер. Говорили – сердце. Ну, правильно, какое сердце ту прелесть выдержит. Слоном надо быть. Но при этом та самая вдовая соседка – Лида имя – сильно образованная гражданка. Одну стопку, другую, третью. И давай смеяться над правительством, министрами, над военными. Главное, мы с кумом замечаем – правильно смеется. Ага. И все она тебе знает: и за Михайлу Сергеевича, и за Лукьянова, и за Пугу. Где, что, когда, с кем. В общем, туда-сюда. Еще по чарке. Тут энтоя самая Лида песняка как вдарит. На всю деревню. Чуть уши не полопались. Ну и кум мой с жинкою рты пооткрывали – голоса показуют. Вот это, думаю, контора. И сам заспивал, аж слезы бежат. Ага. Еще выпили. Давай теперь по брундуршафту целоваться. Тут вдовая Лида мине смехом и говорит, что это, мол, у тебя, Степа, пиньжак такой модный, а сама пугвицы золотые пальцами трогает. Хочешь, говорит на ухо, я тебе массаж через энти пуговицы исделаю. И заливается горлом – меня прямо в пот кинуло.
Старатели, радуясь за друга, погагатывали, одобряли положение.
– Ага. Говорю: зачем массаж? У меня, говорю, уже есть. Я ж с пьяных глаз решил, что массаж – телевизор такой. На хрена, говорю, мне массаж, когда у меня «Рекорд» стоит. Считай новый.
Тут у Лиды моей чуть груди с кофты не выпали – так она зашлась вся. Ну умирает, «Рекорд», так «Рекорд». Лишь бы стоял. А я спьяна никак не пойму, на что она намекает, заливаючись. Сам же горю, как пожар. Ага. И тут только до меня дошло, когда она головой своей пышной в колени мине упала от смеха, а локоть ейный будто нечаянно в самое мое твердое место и уперся. Меня аж током вдарило. Вот это, думаю, массаж.
В салоне снова раздался взрыв хохота. Гомер же невозмутимо прикурил погасшую сигарету, словно вокруг него ничего не происходило.
Старатели, смеясь, гордились товарищем. Им было приятно, что неиссякает в мужике былая казацкая сила.
– Ага. Ну что? Туда-сюда, – продолжил Степа-сказитель. – Уже ночь легла. Жинка кумова каже: я тебе, Степа, у сарае на соломе застелю. Ты ж, помню, любишь на соломе. Люблю, говорю, а у самого уже, чую, язык из глины. Не годится, думаю. Надо еще чарку спустить. Выпили мы с Лидою. Она все заливается смехом. Вот баба веселая! Я смотрел, смотрел на нее, и сам стал. Смеюся – не знаю, чего. Пять раз уже бегал в огород отлить. Прибежу, слышишь – обратно смеюся. Аж в животе колет. Ну контора! И так мы с той вдовицей довеселилися аж до самого сарая. Кум с жинкою уже спать полягали у хате. А мы с Лидой гогочем, что те гуси. Ага. Она и шепчет як бы смехом: зараз я тебе тут массаж и сделаю. Аж бегом. Слышишь? И як повалила меня на ту солому, як придавила усем своим телом, усеми своими грудями – я и затонул под ними, что подводная лодка. Ага. Так с нею бултыхалися в том сарае всю ночь. Ну что? Утром прокинулся – где штаны, где пиньжак – еле нашел. В голове соломы больше, чем волос. Ага. Туда-сюда. С кумой попрощался, поехал. А сам же ж чуть живой. Вечером вертаюсь до дому. Жинка каже: что ты, Степа, такой зеленый, як детский понос. Ну, ничего, каже, зараз помоешься, я тебя покормлю, та пойдем спать-отдыхать. Ох, и приласкаю ж тебя! Во я соскучилася, аж не могу. Ты, говорит, где-то ездишь там, а мне тут – страждай. Иди, мойся скорее. Ну, думаю, все. Мине – каюк. Бо жинка дуже горячая на это дело. Тогда, говорю, наливай стакан самогона: сильно я заморился на работе. Но если, хлопцы, вы думаете, что на этом усе кончилося – глыбоко ошибаетесь.
– У меня раз тоже было, – отозвался еще один рассказчик, но Хирург его уже не слышал.
Еще толком не рассвело, когда они, Хирург с Борисом, отошли от стоянки. Низкие тяжелые тучи все так же орошали тайгу водяной пылью. Лес стоял настороженно тихий, тревожный, повитый лишь едва слышным, травным шелестом дождя.
Сначала шли узкой, хорошо убитой в прежние годы тропинкой, петлявшей, как ящерица, по берегу речки Лайковой. Борис то и дело спотыкался с непривычки, громко матерясь в спину Хирургу. Хирург не выдержал. Остановился.
– Ты чего? – осторожно спросил вполголоса Борис.
– Слышишь? – сказал Хирург и показал в сторону реки.
Борис прислушался.
– Что?
– Речку слышишь?
– Ну.
– Лес?
– А что?
– Тебя все слушает, Боря. А ты ругаешься. Тем более по матушке. Это вообще ни в какие ворота. Кто только придумал такую пакость? Нельзя, Боря. Нехорошо. Беду накличешь. В тайге надо ходить тихо. Уважительно. Медведь в двух шагах от тебя пройдет – ветка под ним не хрустнет. А ты шумишь. Не нужно. Тайга этого не любит. Ты же книги мудрые читал. Разве они матом написаны?
– Ну вот, – поморщился Борис, – началось… Понеслась пропаганда.
– Это не пропаганда, Боря. Это здесь закон жизни. Все злое вернется к тебе двойным злом. Доброе сделаешь – добро и получишь. Вот что запомни.
Борис промолчал, достал пачку папирос, предложил Хирургу.
– Спасибо. Натощак не курю. Это все равно, что на живую рану кислоту лить.
– А-а… – махнул рукой Борис. – Пока что здоровья хоть отбавляй.
– Не отбавлять нужно, чума. А прибавлять, – усмехнулся целитель и окинул взглядом экипировку напарника.
– Эх, дундук я старый! – всполошился Хирург. – Как же недосмотрел?
– Что еще? – стал оглядывать себя Борис.
– Ты куда кирзачи напялил, корова? Нам болотами ходить, вброд переправляться, а ты… Вроде не маленький. Ну-ка, бегом. Переодень болотники. Хорошо, недалеко ушли.
Когда Борис скрылся за кустами, Хирург закурил.
– Вот чума, – пожаловался природе. – Детский сад, ей-богу. Никакого понятия.
Он присел на мокрое лысое бревно, и в своей запахнутой плащ-палатке с капюшоном сам стал похож на переломленный бурей или старостью острый ствол дерева.
«Как же ты дойдешь, Витя? – вспомнил тогда последний разговор с Тибетским Виктором перед его побегом из лагеря. – И куда идти? Погибнешь. Тайга на сотни, а то и тысячи верст».
Виктор в ответ засмеялся.
«Вера выведет, Дима. Как-нибудь, с Божьей помощью. А идти нужно все время на юго-восток. Это проще простого. Доберусь до Амура, а там до материка уже рукой подать. Во Владивостоке – на пароход и прощай, Колыма. Но не вздумай, Дима, идти за мной. Вот ты не дойдешь. Мало в тебе еще высшего знания. Новый Завет, который я тебе пересказал – это только начало. Крепись, Дима. Говори с Богом, как я тебя учил. И настанет твой день. Настанет!»
Тогда начинался июль, и Колыма открыла двери недолгому лету.
На следующее утро после прощального разговора в лагере обнаружили оглушенного охранника без автомата. Он то терял сознание, то его мутило и рвало. Видно, Виктор не рассчитал силы удара, и у военного охранника произошло сотрясение мозга. Плюс ко всему у пострадавшего оказалась сломанной челюсть, потому сказать что-либо вразумительное он был не в состоянии.
Организовали погоню с собаками, но у первого же болота она застряла: вода. Кругом стояла, текла, журчала и бурлила вода.
Хирург часто, на протяжении многих лет пытался вызвать для беседы образ Виктора, но тщетно. В том качестве, в каком являлись к нему души умерших, Виктор не приходил, из чего Хирург сделал заключение, что духовный учитель жив, здоров, а его Вера и умение посредством высшего знания находить с природой общий язык, в конце концов, вывели Виктора к животворной реке Амур.
Конечно, побег из лагеря, в который упекли Хирурга и еще тысячи подобных ему страдальцев, был безумием, равным самоубийству. Но тем сильнее победа Тибетского странника грела Хирурга, восхищала до скрытой от всех ночной улыбки, ибо та победа была явным доказательством неограниченных возможностей человеческого духа, о коих и проповедовал Хирургу Виктор.
Целитель, сидя на голом, как колено, бревне, так увлекся своими теплыми мыслями, что не сразу оценил посторонний шум позади себя. Когда же чуждый звук заторможено достиг его слуха, Хирург насторожился. Тот, кто произвел за его спиной неожиданный шорох, не мог быть Борисом. Борис ожидался на тропинке, с другой стороны. Хирург осторожно обернулся. Ему почудилось, будто среди сосен мелькнула тень какого-то крупного животного. Но пасмурный сумрак утра еще так плотно лежал в тайге, что разобрать что-либо было невозможно. Тем не менее, Хирург поднялся и, тихо ступая, пошел навстречу Борису – мало ли. Медведя и лося в тех местах водилось предостаточно. Один резиновый сапог чуть поскрипывал, и Хирург поднял палку, чтобы, опираясь на нее, скрадывать противный, ненужный звук. Он прошел метров двести. Здесь тропа резко огибала раскидистый куст, а дальше пересекала небольшую, уже поросшую мелкой травой поляну.
Хирург бесшумно добрался до куста и замер: в пяти метрах от него, чуть присев на задние лапы, задом к целителю стоял медведь, совершая рядовое житейское дело опорожнения. Хирург почувствовал слабость в ногах: с другой стороны поляны вот-вот должен был появиться Борис. Что могло произойти дальше, Хирург не знал. Сердце громко застучало внутри целителя, и он испугался, не выйдет ли внутреннее биение наружу, не услышит ли его зверь. В это мгновение из чащи кустарника с противоположной стороны вынырнул Борис. Он двигался быстрым шагом, что-то напевая себе под нос.
Медведь, не прекращая своего дела, поворотил к нему морду. Их разделяло не более тридцати метров, когда Борис заметил зверя и остановился, напряженно вглядываясь в то, что увидел. Медведь приподнялся и встал на все четыре лапы. Наступило то жуткое, нервно-выжидательное мгновение, упустить которое Хирург не имел права. Он выскочил из-за куста с рвущим тишину криком и ударил медведя палкой. От неожиданности и испуга тот рванул в сторону и, уже убегая, обиженно заворчал. Вскоре он скрылся в тайге, а Хирург почувствовал усталость во всем теле, словно отработал целую смену в лагере. Он сел прямо на мокрую траву и достал папиросы.
– Кури, – предложил подошедшему Борису.
Тот присел рядом. Закурили, пряча от сырости папиросы в кулак. Дым плотно и тяжело поднимался вверх, но тут же таял и растворялся в мороси. Теперь, когда внезапное напряжение схлынуло, Борису стало весело.
– Надо было мне тоже штаны скинуть да присесть рядышком. А ты его палкой, словно это барбос какой.
Успокоено посмеялись.
– Но вообще-то, лихо ты его, Александрович.
– Рыба еще не пошла. Голодно ему. Здесь всего можно ожидать. Хорошо, что боятся они неожиданного, резкого шума. Вот я и поорал слегка. Видишь, почуял он тушенку нашу, к лагерю двигался. К Боцману, конечно, не сунулся бы, а палатку с продуктами разворотить – это для него плевое дело. Собачку бы нам. Да где ее взять?
– Мебелю закажи, он доставит. Только вместо собаки из-за своей дырявой башки козу какую-нибудь слепую притащит.
– Это верно, – согласился Хирург. – Такое за ним водится. В прежние годы Мебель раз в две недели прилетал обязательно. Как, мол, дела? Что нужно? Почту привозил, газеты, журналы. Тут ничего не скажешь. Но насчет дела – действительно беда. Все просьбы запишет в блокнотик. Аккуратно, правильно. Но потом, как пить дать, перепутает. Первый с пятым участком, шестой с третьим и так далее. Понятно, если у человека сплошной склероз и дым в голове – не до хорошего.
Ладно. Мебель Мебелем, а двигаться нужно. Философа необходимо найти. Как нам без философа?
Теперь шли, зорко осматриваясь по сторонам. Впрочем, уже достаточно рассвело. Тропка приползла к обрывистому краю Лайковой и здесь струилась почти по самому его срезу.
Местами берег поднимался довольно высоко, местами же плавно стекал к реке, образуя волнистые песчаные отмели, по которым прибегали в Лайковую быстрые, веселые ручьи, расцвеченные на дне мокро-золотыми кристаллами колчедана.


