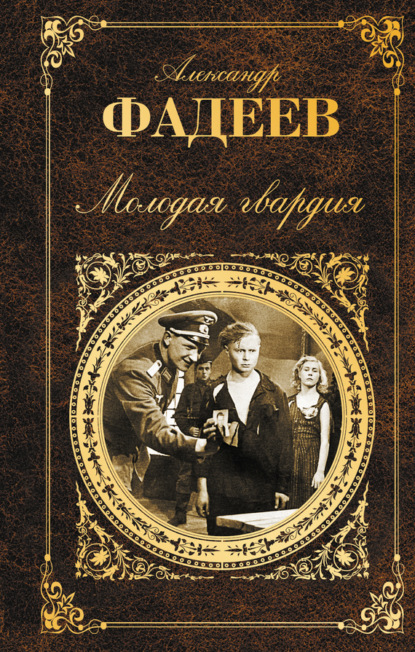Полная версия
Мне нравится, что Вы больны не мной… (сборник)

Марина Цветаева
Мне нравится, что Вы больны не мной… (сборник)
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
* * *О любви
(Из дневника)
1917 г.
Для полной согласованности душ нужна согласованность дыхания, ибо, что – дыхание, как не ритм души?
Итак, чтобы люди друг друга понимали, надо, чтобы они шли или лежали рядом.
Благородство сердца – орга́на. Неослабная настороженность. Всегда первое бьет тревогу. Я могла бы сказать: не любовь вызывает во мне сердцебиение, а сердцебиение – любовь.
Сердце: скорее орга́н, чем о́рган.
Сердце: лот, лаг, отвес, силомер, реомюр – всё, только не хронометр любви.
«Вы любите двоих, значит, Вы никого не любите!» – Простите, но если я, кроме Н., люблю еще Генриха Гейне, Вы же не скажете, что я того, первого, не люблю. Значит, любить одновременно живого и мертвого – можно. Но представьте себе, что Генрих Гейне ожил и в любую минуту может войти в комнату. Я та же, Генрих Гейне – тот же, вся разница в том, что он может войти в комнату.
Итак: любовь к двум лицам, из которых каждое в любую минуту может войти в комнату, – не любовь. Для того, чтобы одновременная моя любовь к двум лицам была любовью, необходимо, чтобы одно из этих лиц родилось на сто лет раньше меня, или вовсе не рождалось (портрет, поэма). – Не всегда выполнимое условие!
И все-таки Изольда, любящая еще кого-нибудь, кроме Тристана, немыслима, и крик Сары (Маргариты Готье) – «О, л’Амур! л’Амур!», относящийся еще к кому-нибудь, кроме ее молодого друга, – смешон.
Я бы предложила другую формулу: женщина, не забывающая о Генрихе Гейне в ту минуту, когда входит ее возлюбленный, любит только Генриха Гейне.
«Возлюбленный» – театрально, «любовник» – откровенно, «друг» – неопределенно. Нелюбовная страна!
Каждый раз, когда узнаю, что человек меня любит – удивляюсь, не любит – удивляюсь, но больше всего удивляюсь, когда человек ко мне равнодушен.
Старики и старухи.
Бритый стройный старик всегда немножко старинен, всегда немножко маркиз. И его внимание мне более лестно, больше меня волнует, чем любовь любого двадцатилетнего. Выражаясь преувеличенно: здесь чувство, что меня любит целое столетие. Тут и тоска по его двадцати годам, и радость за свои, и возможность быть щедрой – и вся невозможность. Есть такая песенка Беранже:
…Взгляд твой зорок…Но тебе двенадцать лет,Мне уж сорок.Шестнадцать лет и шестьдесят лет совсем не чудовищно, а главное – совсем не смешно. Во всяком случае, менее смешно, чем большинство так называемых «равных» браков. Возможность настоящего пафоса.
А старуха, влюбленная в юношу, в лучшем случае – трогательна. Исключение: актрисы. Старая актриса – мумия розы.
– …И была промеж них такая игра. Он ей поет – ее аккурат Марусей звали – «Маруся ты, Маруся, закрой свои глаза», а она на постелю ляжет, простынею себя накроет – как есть покойница.
Он к ней: «Маруся! Ты не умри совсем! Маруся! Ты взаправду не умри!» – Кажный раз до слез доходил. – На одной фабрике работали, ей пятнадцать годочков было, ему шешнадцать…
(Рассказ няньки.)
– А у меня муж, милые: бы-ыл!!! Только и человецкого, что обличие. Ничего не ел, всё пил. Подушку мою пропил, одеяло с девками прогулял. Всё ему, милые, скушно: и работать скушно, и со мной чай пить скушно. А собой хорош, как демон: волоса кучерявые, брови ровные, глаза синие… – Пятый год пропадает!
(Нянька – подругам.)
Первый любовный взгляд – то кратчайшее расстояние между двумя точками, та божественная прямая, которой нет второй.
Из письма:
«Если бы Вы сейчас вошли и сказали: «Я уезжаю надолго, навсегда», – или: «Мне кажется, я Вас больше не люблю», – я бы, кажется, не почувствовала ничего нового: каждый раз, когда Вы уезжаете, каждый час, когда Вас нет – Вас нет навсегда и Вы меня не любите».
В моих чувствах, как в детских, нет степеней.
Первая победа женщины над мужчиной – рассказ мужчины о его любви к другой. А окончательная ее победа – рассказ этой другой о своей любви к нему, о его любви к ней. Тайное стало явным, ваша любовь – моя. И пока этого нет, нельзя спать спокойно.
Все нерассказанное – непрерывно. Так, непокаянное убийство, например, – длится. То же о любви.
Вы не хотите, чтобы знали, что вы такого-то любите? Тогда говорите о нем: «я его обожаю!» Впрочем, некоторые знают, что это значит.
Рассказ.
– Когда мне было восемнадцать лет, в меня был безумно влюблен один банкир, еврей. Я была замужем, он женат. Толстый такой, но удивительно трогательный. Мы почти никогда не оставались одни, но когда это случалось, он мне говорил только одно слово: «Живите! Живите!» – И никогда не целовал руки. Однажды он устроил вечер, нарочно для меня, назвал прекрасных танцоров – я тогда страшно любила танцевать! Сам он не мог танцевать, потому что был слишком толст. Обыкновенно он на таких вечерах играл в карты. В этот вечер он не играл.
(Рассказчице тридцать шесть лет, пленительна.)
– «Только живите!» Я уронила руки,Я уронила на руки жаркий лоб…Так молодая Буря слушает БогаГде-нибудь в поле, в какой-нибудь темный час.И на высокий вал моего дыханьяВластная вдруг – словно с неба ложится длань.И на уста мои чьи-то уста ложатся.Так молодую Бурю слушает – Бог.(Nachhall, отзвук.)Гостиная – поле, вчерашняя смолянка – Буря, толстый банкир – Бог. Что уцелело? Да вот то одно слово, которое банкир говорил институтке и Бог в первый день – всему: «Живите!»
«Будь» единственное слово любви, человеческой и божеской. Остальное: гостиная, поле, банкир, институтка – частности.
Что же уцелело? – Всё.
Лучше потерять человека всем собой, чем удержать его какой-то своей сотой.
Полководец после победы, поэт после поэмы – куда? – к женщине. Страсть – последняя возможность человеку высказаться, как небо – единственная возможность быть – буре.
Человек – буря, страсть – небо, ее растворяющее.
О, поэты, поэты! Единственные настоящие любовники женщин!
Желание вглубь: вглубь ночи, вглубь любви. Любовь: провал во времени.
«Во имя свое» любовь через жизнь, «во имя твое» – через смерть.
«Старуха… Что я буду делать со старухой??!» – Восхитительная – в своей откровенности – формула мужского.
«Зачем старухи одеваются? Это бессмысленно! Я бы заказал им всем одинаковый… «юниформ», а так как они все богаты, я бы создал кассу, из которой бы одевал – и очень хорошо одевал бы! – всех молодых и красивых».
– Не мешай мне писать о тебе стихи!
– Помешай мне писать стихи о себе!
В промежутке – вся любовная гамма поэта.
Третье лицо – всегда отвод. В начале любви – от богатства, в конце любви – от нищеты.
История некоторых встреч. Эквилибристика чувств.
Рассказ юнкера:…«объясняюсь ей в любви, конечно, напеваю…»
Любовность и материнство почти исключают друг друга. Настоящее материнство – мужественно.
Сколько материнских поцелуев падает на недетские головы – и сколько нематеринских – на детские!
Страстная материнская любовь – не по адресу.
Там, где я должна думать (из-за других) о поступке, сочинять его, он всегда нецелен – начат и не кончен – не объяснит не мой. Я точно запомнила А и не помню Б – и сразу, вместо Б – мои блаженные иероглифы!
Разговор:
Я, о романе, который хотела бы написать: «Понимаете, в сыне я люблю отца, в отце – сына… Если Бог пошлет мне веку, я непременно это напишу!»
Он, спокойно: «Если Бог пошлет вам веку, вы непременно это сделаете».
О Песни Песней:
Песнь Песней действует, на меня, как слон: и страшно и смешно.
Песнь Песней написана в стране, где виноград – с булыжник.
Песнь Песней: флора и фауна всех пяти частей света в одной-единственной женщине. (Неоткрытую Америку – включая.)
Лучшее в Песни Песней – это стих Ахматовой:
«А в Библии красный кленовый листЗаложен на Песни Песней».«Я бы никогда не мог любить танцовщицы, мне бы всегда казалось, что у меня в руках барахтается птица».
Вдова, выходящая замуж. Долго искала формулу для этой отвращающей меня узаконенности. И вдруг – в одной французской книге, очевидно, женской (автора «Amitié amoureuse»)[1] – моя формула:
«Le remariage est un adultѐre posthume»[2].
– Вздохнула!
Раньше все, что я любила, называлось – я, теперь – вы. Но оно всё то же.
Жен много, любовниц мало. Настоящая жена от недостатка (любовного), настоящая любовница – от избытка. Люблю не жен и не любовниц – «amoureuses».
Как музыкант – меньше музыки! И как любовник – меньше любви!
(NB! «Любовник» и здесь и впредь как средневековое обширное «amant». Минуя просторечие, возвращаю ему первичный смысл. Любовник: тот, кто любит, тот, через кого явлена любовь, провод стихии Любви. Может быть, в одной постели, а может быть – за тысячу верст. – Любовь не как «связь», а как стихия.)
«Есть две ревности. Одна (наступательный жест) – от себя, другая (удар в грудь) – в себя. Чем это низко – вонзить в себя нож?»
(Бальмонт.)
Я должна была бы пить Вас из четвертной, а пью по каплям, от которых кашляю.
Как медленно сходятся с Вами такие-то! Они делают миллиметры там, где я делала – мили!
Зачем змей, когда Ева?
Любовь: зимой от холода, летом от жары, весной от первых листьев, осенью от последних: всегда – от всего.
Ночной разговор.
Павел Антокольский[3]: – У Господа был Иуда. А кто же у Дьявола – Иуда?
Я: – Это, конечно, будет женщина. Дьявол ее полюбит, и она захочет вернуть его к Богу, – и вернет.
Антокольский: – А она застрелится. Но я утверждаю, что это будет мужчина.
Я: – Мужчина? Как может мужчина предать Дьявола? У него же нет никакого доступа к Дьяволу, он Дьяволу не нужен, какое дело Дьяволу до мужчины? Дьявол сам мужчина. Дьявол – это вся мужественность. Дьявола можно соблазнить только любовью, то есть женщиной.
Антокольский: – И найдется мужчина, который припишет себе честь этого завоевания.
Я: – И знаете, как это будет? Женщина полюбит Дьявола, а ее полюбит мужчина. Он придет к ней и скажет: – «Ты его любишь, неужели тебе его не жаль? Ведь ему плохо, верни его к Богу». – И она вернет…
Антокольский: – И разлюбит.
Я: – Нет, она не разлюбит. Он ее разлюбит, потому что теперь у него Бог, она ему больше не нужна. Не разлюбит, но бросится к тому.
Антокольский: – И, смотря в его глаза, увидит, что все те же глаза, и что она сама побеждена – Дьяволом.
Я: – Но был же час, когда Дьявол был побежден, – час, когда он вернулся к Богу.
Антокольский: – И предал его – мужчина.
Я: – Ах, я говорю о любовной драме!
Антокольский: – А я говорю об имени, которое останется на скрижалях.
Я: – Женщина – одержимая. Женщина идет по пути вздоха (глубоко дышу). Вот так. И промахнулся Гейне с его «horizontales Handwerk»![4] Как раз по вертикали!
Антокольский: – А мужчина хочет – так: (Выброшенная рука. Прыжок.)
Я: – Это не мужчина так, это тигр так. Кстати, если бы вместо «мужчины» было «тигр», я бы, может быть, и любила мужчин. Какое безобразное слово – мужчина! Насколько по-немецки лучше: «Mann», и по-французски: «Homme». Man, homo… Нет, у всех лучше…
Но дальше. Итак, женщина идет по пути вздоха… Женщина, это вздох. Мужчина, это жест. (Вздох всегда раньше, во время прыжка не дышат.) Мужчина никогда не хочет первый. Если мужчина захотел, женщина уже хочет.
Антокольский: – А что же мы сделаем с трагической любовью? Когда женщина – действительно – не хочет?
Я: – Значит, не она хотела, а какая-нибудь рядом. Ошибся дверью.
Я, робко: – Антокольский, можно ли назвать то, что мы сейчас делаем – мыслью?
Антокольский, еще более робко: – Это – вселенское дело: то же самое, что сидеть на облаках и править миром.
Я: – Два отношения к миру: любовное, материнское.
Антокольский: – И у нас два: любовное, сыновнее. А отцовского – нет. Что такое отцовство?
Я: – Отцовства, вообще, нет. Есть материнство: – Мария – Мать – большое М.
Антокольский: – А отцовство – большое О, то есть нуль, зеро.
Я, примиряюще: – А зато у нас нет дочернего.
Говорим о любви.
Антокольский: – Любить Мадонну – все равно, что застраховаться от кредиторов. (Кредитора – женщины.)
Говорим о Иоанне д’Арк, и Антокольский, внезапным взрывом:
– А королю совсем не нужно царства, он хочет то, что больше царства – Иоанну. А Вам… А ей до него нет никакого дела: – «Нет, ты должен быть королем! Иди на царство!» – как говорят: «Иди в гимназию!»
Насыщенный раствор. Вода не может растворить больше.
Таков закон. Вы – насыщенный мною раствор.
Я – не бездонный чан.
Нужно научиться (мне) подходить к любовному настоящему человека, как к его любовному прошлому, то есть – со всей отрешенностью и страстностью творчества.
Соперник всегда – или Бог (молишься!) – или дурак (даже не презираешь).
Предательство уже указывает на любовь. Нельзя предать знакомого.
1918 г.
Суд над адмиралом Щастным. Приговор произнесен. Подсудимого уводят. И, уходя, вполоборота, в толпу: «Вы придете?»
Женское: – Да!
Я не любовная героиня, я никогда не уйду в любовника, всегда – в любовь.
«Вся жизнь делится на три периода: предчувствие любви, действие любви и воспоминание о любви».
Я: – Причем середина длится от 5-ти лет до 75-ти, – да?
Письмо:
«Милый друг! Когда я, в отчаянии от нищенства дней, задушенная бытом и чужой глупостью, вхожу, наконец, к Вам в дом, я всем существом в праве на Вас. Можно оспаривать право человека на хлеб (дед не работал, значит – внук не ешь!) – нельзя оспаривать право человека на воздух. Мой воздух с людьми – восторг. Отсюда мое оскорбление.
Вам жарко. Вы раздражены. Вы «измучены», кто-то звонит, Вы лениво подходите: «Ах, это Вы?» И жалобы на жару, на усталость, любование собственной ленью, – да восхищайтесь же мной, я так хорош!
Вам нет дела до меня, до моей души, три дня – бездна (не для меня – без Вас, для меня – с собой), одних снов за три ночи – тысяча и один, а я их и днем вижу!
Вы говорите: «Как я могу любить Вас? Я и себя не люблю». Любовь ко мне входит в Вашу любовь к себе. То, что Вы называете любовью, я называю хорошим расположением духа (тела). Чуть Вам плохо (нелады дома, жара, большевики) – я уже не существую.
Дом – сплошной «нелад», жара – каждое лето, а большевики только начинаются!
Милый друг, я не хочу так, я не дышу так. Я хочу такой скромной, убийственно-простой вещи: чтобы, когда я вхожу, человек радовался».
Тут, дружочек, я заснула с карандашом в руке. Видела страшные сны, – летела с нью-йоркских этажей. Просыпаюсь: свет горит. Кошка на моей груди делает верблюда. (Аля, двух лет, говорила: горблюд!)
Любить – видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители.
Не любить – видеть человека таким, каким его осуществили родители.
Разлюбить – видеть вместо него: стол, стул.
Семья… Да, скучно, да, скудно, да, сердце не бьется… Не лучше ли: друг, любовник? Но, поссорившись с братом, я все-таки вправе сказать: «Ты должен мне помочь, потому что ты мой брат… (сын, отец…)» А любовнику этого не скажешь – ни за что – язык отрежешь.
В крови гнездящееся право интонации.
Родство по крови грубо и прочно, родство по избранию – тонко. Где тонко, там и рвется.
Моя душа чудовищно-ревнива: она бы не вынесла меня красавицей.
Говорить о внешности в моих случаях – неразумно: дело так явно, и настолько – не в ней!
– «Как она Вам нравится внешне?» – А хочет ли она внешне нравиться? Да я просто права на это не даю, – на такую оценку!
Я – я: и волосы – я, и мужская рука моя с квадратными пальцами – я, и горбатый нос мой – я. И, точнее: ни волосы не я, ни рука, ни нос: я – я: незримое.
Чтите оболочку, осчастливленную дыханием Бога.
И идите: любить – другие тела!
(Если бы я эти записи напечатала, непременно сказали бы: par dépit)[5].
Письмо о Лозэне[6]:
«Вы хотите, чтобы я дала Вам краткий отчет о своей последней любви. Говорю «любви», потому что не знаю, не даю себе труда знать… (Может быть: все, что угодно, – только не любовь! Но – все, что угодно!)
Итак: во-первых – божественно-хорош, во-вторых – божественный голос. Обе сии божественности – на любителя. Но таких любителей много: все мужчины, не любящие женщин, и все женщины, не любящие мужчин.
Он восприимчив, как душевно, так и накожно, это его главная и несомненная сущность. От озноба до восторга – один шаг. Его легко бросает в озноб. Другого такого собеседника и партнера на свете нет. Он знает то, чего Вы не сказали и, может быть, и не сказали бы… если бы он уже не знал! Чтущий только собственную лень, он не желая заставляет Вас быть таким, каким ему удобно. («Угодно» здесь неуместно – ему ничего не угодно.)
Добр? Нет. Ласков? Да.
Ибо доброта – чувство первичное, а он живет исключительно вторичным, отраженным. Так, вместо доброты – ласковость, любви – расположение, ненависти – уклонение, восторга – любование, участия – сочувствие. Взамен присутствия страсти – отсутствие бесстрастия (пристрастности присутствия – бесстрастие отсутствия).
Но во всем вторичном он очень силен: перл, первый смычок.
– А в любви?
Здесь я ничего не знаю. Мой острый слух подсказывает мне, что само слово «любовь» его – как-то – режет. Он вообще боится слов, как вообще – всего явного. Призраки не любят, чтобы их воплощали. Они оставляют эту роскошь за собой».
«Люби меня, как тебе угодно, но проявляй это так, как удобно мне. А мне удобно, чтобы я ничего не знал».
Воля в зле? Никакой. Вся прелесть и вся опасность его в глубочайшей невинности. Вы можете умереть, он не справится о вас в течение месяцев. И потом, растерянно: «Ах, как жаль! Если бы я знал, но я был так занят… Я не знал, что так сразу умирают…»
Зная мировое, он, конечно, не знает бытового, а смерть такого-то числа, в таком-то часу – конечно, быт. И чума – быт.
Но есть у него, взамен всего, чего нет, одно: воображение. Это его сердце, и душа, и ум, и дарование. Корень ясен: восприимчивость. Чуя то, что в нем видите вы, он становится таким.
Так: денди, демон, баловень, архангел с трубой – он все, что вам угодно, только в тысячу раз пуще, чем хотели вы. Игрушка, которая мстит за себя. Objet de luxe et d’art[7] – и горе вам, если это objet de luxe et d’art станет вашим хлебом насущным!
– Невинность, невинность, невинность!
– Невинность в тщеславии, невинность в себялюбии, невинность в беспамятности, невинность в беспомощности…
Есть, однако, у этого невиннейшего и неуязвимейшего из преступников одно уязвимое место: безумная – только никогда не сойдет с ума! – любовь к няне. На этом раз навсегда исчерпалась вся его человечность.
Итог – ничтожество, как человек, и совершенство, как существо.
Из всех соблазнов его для меня я бы выделила три главных: соблазн слабости, соблазн бесстрастия – и соблазн Чужого.
Москва, 1918–1919Тайный жар
«Моим стихам, написанным так рано…»
Моим стихам, написанным так рано,Что и не знала я, что я – поэт,Сорвавшимся, как брызги из фонтана,Как искры из ракет,Ворвавшимся, как маленькие черти,В святилище, где сон и фимиам,Моим стихам о юности и смерти,– Нечитанным стихам!Разбросанным в пыли по магазинам,Где их никто не брал и не берет,Моим стихам, как драгоценным винам,Настанет свой черед.Коктебель,13 мая 1913«Солнцем жилки налиты – не кровью…»
Солнцем жилки налиты – не кровью –На руке, коричневой уже.Я одна с моей большой любовьюК собственной моей душе.Жду кузнечика, считаю до ста,Стебелек срываю и жую…– Странно чувствовать так сильно и так простоМимолетность жизни – и свою.15 мая 1913«Вы, идущие мимо меня…»
Вы, идущие мимо меняК не моим и сомнительным чарам, –Если б знали вы, сколько огня,Сколько жизни, растраченной даром,И какой героический пылНа случайную тень и на шорох…– И как сердце мне испепелилЭтот даром истраченный порох!О летящие в ночь поезда,Уносящие сон на вокзале…Впрочем, знаю я, что и тогдаНе узнали бы вы – если б знали –Почему мои речи резкиВ вечном дыме моей папиросы, –Сколько темной и грозной тоскиВ голове моей светловолосой.17 мая 1913«Два солнца стынут – о Господи, пощади!..»
Два солнца стынут – о Господи, пощади! –Одно – на небе, другое – в моей груди.Как эти солнца – прощу ли себе сама? –Как эти солнца сводили меня с ума!И оба стынут – не больно от их лучей!И то остынет первым, что горячей.6 октября 1915«Цветок к груди приколот…»
Цветок к груди приколот,Кто приколол – не помню.Ненасытим мой голодНа грусть, на страсть, на смерть.Виолончелью, скрипомДверей и звоном рюмок,И лязгом шпор, и крикомВечерних поездов,Выстрелом на охотеИ бубенцами троек –Зовете вы, зовете,Нелюбленные мной!Но есть еще услада:Я жду того, кто первыйПоймет меня, как надо –И выстрелит в упор.22 октября 1915«Цыганская страсть разлуки!..»
Цыганская страсть разлуки!Чуть встретишь – уж рвешься прочь!Я лоб уронила в рукиИ думаю, глядя в ночь:Никто, в наших письмах роясь,Не понял до глубины,Как мы вероломны, то есть –Как сами себе верны.Октябрь 1915«Полнолунье, и мех медвежий…»
Полнолунье, и мех медвежий,И бубенчиков легкий пляс…Легкомысленнейший час! – Мне жеГлубочайший час.Умудрил меня встречный ветер,Снег умилостивил мне взгляд,На пригорке монастырь светелИ от снега – свят.Вы снежинки с груди собольейМне сцеловываете, друг,Я на дерево гляжу, – в полеИ на лунный круг.За широкой спиной ямщицкойДве не встретятся головы.Начинает мне Господь – сниться,Отоснились – Вы.27 ноября 1915«Руки даны мне – протягивать каждому обе…»
Руки даны мне – протягивать каждому обе,Не удержать ни одной, губы – давать имена,Очи – не видеть, высокие брови над ними –Нежно дивиться любви и – нежней – нелюбви.А этот колокол там, что кремлевских тяже́ле,Безостановочно ходит и ходит в груди, –Это – кто знает? – не знаю, – быть может, – должно быть –Мне загоститься не дать на российской земле!2 июля 1916«В огромном городе моем – ночь…»
В огромном городе моем – ночь.Из дома сонного иду – прочь,И люди думают: жена, дочь.А я запомнила одно: ночь.Июльский ветер мне метет путь,И где-то музыка в окне – чуть.Ах, нынче ветру до зари – дутьСквозь стенки тонкие груди – в грудь.Есть черный тополь, и в окне – свет,И звон на башне, и в руке – цвет,И шаг вот этот – никому вслед,И тень вот эта, а меня – нет.Огни, как нити золотых бус,Ночного листика во рту – вкус.Освободите от дневных уз,Друзья, поймите, что я вам – снюсь.Москва,17 июля 1916«После бессонной ночи слабеет тело…»
После бессонной ночи слабеет тело,Милым становится и не своим, – ничьим,В медленных жилах еще занывают стрелы,И улыбаешься людям, как серафим.После бессонной ночи слабеют руки,И глубоко равнодушен и враг и друг.Целая радуга в каждом случайном звуке,И на морозе Флоренцией пахнет вдруг.Нежно светлеют губы, и тень золочеВозле запавших глаз. Это ночь зажглаЭтот светлейший лик, – и от темной ночиТолько одно темнеет у нас – глаза.19 июля 1916«Нынче я гость небесный…»
Нынче я гость небесныйВ стране твоей.Я видела бессонницу лесаИ сон полей.Где-то в ночи подковыВзрывали траву.Тяжко вздохнула короваВ сонном хлеву.Расскажу тебе с грустью,С нежностью всей,Про сторожа-гусяИ спящих гусей.Руки тонули в песьей шерсти,Пес был сед.Потом, к шести,Начался рассвет.20 июля 1916«Горечь! Горечь! Вечный привкус…»
Горечь! Горечь! Вечный привкусНа губах твоих, о страсть!Горечь! Горечь! Вечный искус –Окончательнее пасть.Я от горечи – целуюВсех, кто молод и хорош.Ты от горечи – другуюНочью за́ руку ведешь.С хлебом ем, с водой глотаюГоречь-горе, горечь-грусть.Есть одна трава такаяНа лугах твоих, о Русь.10 июня 1917Але
А когда – когда-нибудь – как в водуИ тебя потянет – в вечный путь,Оправдай змеиную породу:Дом – меня – мои стихи – забудь.Знай одно: что завтра будешь старой.Пей вино, правь тройкой, пой у Яра,Синеокою цыганкой будь.Знай одно: никто тебе не пара –И бросайся каждому на грудь.Ах, горят парижские бульвары!(Понимаешь – миллионы глаз!)Ах, гремят мадридские гитары!(Я о них писала – столько раз!)Знай одно: (твой взгляд широк от жара,Паруса надулись – добрый путь!)Знай одно: что завтра будешь старой,Остальное, деточка, – забудь.11 июня 1917