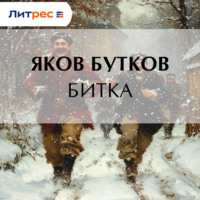полная версия
полная версияНевский проспект, или Путешествия Нестора Залетаева
Вдруг оробел, оторопел, поглупел и смирился духом господин Махаев, когда на призыв одного из Егоров Козьмичей явился Квашня с своими адъюнктами Рыловоротовым и Трясучкою. Квашня, правда, доводился господину Махаеву кумом, а Рыловоротов и Трясучка хорошими приятелями, но дело-то вышло такое, что нельзя было ожидать пощады ни от кума, ни от приятелей.
Ветер завыл и застонал в опустелой комнате Отвагина с такою силою, что разбудил господина Махаева в самое тяжкое мгновение сна его. Вскочив в испуге на своей постеле, озираясь и прислушиваясь впотьмах, он насилу мог очнуться и тут только услышал, что кто-то звонит у дверей его квартиры. Торопливо достал он огня, выбежал в переднюю, отпер дверь и с ужасом отступил от своего жильца Наума Отвагина, похожего, впрочем, больше на привидение, нежели на Отвагина, больше на утопленника, хлебнувшего не в меру березовки, нежели на Отвагина! Однакож пред господином Махаевым стоял действительный и настоящий его жилец: он был бледен, как батистовый платок, можно бы сказать, если б лицо его не было исцарапано до крови и вымыто грязью. Шляпа его была измята и тоже в грязи; шинель – страшно было взглянуть на бедную шинелишку, за которую не дальше, как вчера, Анна Антоновна могла бы дать по меньшей мере трехрублевик, а которая теперь не только не имела никакой цены, но даже отнимала цену у продрогшего страдальческого тела, которое она прикрывала и вовсе не грела; вся остальная часть его костюма была изорвана и запачкана, как будто бы Отвагин совершил воздушное путешествие с крыши пятиэтажного дома, цеплялся на лету за трубы и балконы и, наконец, всею своею особою погрузился в подземную трубу. Очевидно было, что с ним случилось необыкновенно несчастное происшествие.
Господин Махаев смотрел на мещанина Отвагина; Отвагин смотрел на господина Махаева – и оба молчали. Вдруг жилец, как будто рванувшись из сильных рук, бросился в свою комнату, быстро затворил и запер за собою дверь и столбом стал посреди комнаты, заливаемой дождем.
– Не нужно ли вам огня, Наум Иванович? – говорил господин Махаев, стоя за дверьми, и говорил, против своего обыкновения, необыкновенно дружелюбным голосом.
– Что? – воскликнул Отвагин. – У меня нет денег, нет денег. Я бедный человек, Степан Степанович. Вы меня замучили, убили, с ума свели, Степан Степанович. У меня нет денег. Я бедный человек, Степан Степанович, а все-таки расплачусь с вами, вы увидите, как расплачусь…
– Что за расчеты теперь, Наум Иванович! впотьмах, в холодной комнате… Я ж еще окна выставил у вас. Огня не хотите ли, Наум Иванович, чтоб вы разглядели сами себя, а до завтра я вам никакого притеснения не сделаю…
– Огня? Дайте огня!
Отворив дверь и вырвав из рук господина Махаева железный шандал с сальным огарком, Отвагин вдруг опять захлопнул дверь своей комнаты с такою силою, что господин Махаев в испуге убежал в свою опочивальню.
На другой день господин Махаев, освеженный сном и совершенно успокоенный насчет целости особы своего жильца, начинал свою утреннюю перебранку с кухаркою и водоносом. Он слышал, что жилец его после долгой возни в комнате наконец угомонился и свалился на пол; это обстоятельство он растолковал себе так, что жилец «уходился» где-то накануне, не то с горя, не то, может быть, и с радости, так оно еще может быть, что, проспавшись хорошенько до доброго здоровья и здравого смысла, Отвагин взмолится пред ним, заплатит свой долг и попросит, чтоб вставили раму в окно.
Допустив это утешительное предположение, господин Махаев предался своим обычным занятиям и не тревожил Отвагина до той довольно поздней поры, когда он проснулся, заходил и забегал по комнате, потом приутих на целый час, потом уже отпер дверь и, выглянув в переднюю, кликнул его громким, повелительным голосом. Господин Махаев в первый раз заметил такую развязность в своем смиренномудром жильце, развязность, которую не считал он его принадлежностию и которою, однакож, нисколько не оскорбился, которой даже испугался, потому что она очевидно свидетельствовала, что господин Махаев принял свою отеческую исправительную меру невпопад, не во-время, тогда, когда, по-настоящему, следовало только кланяться да прислуживать жильцу, а не выставлять окна в его комнате. Господин Махаев, скорчив приветливую гримасу, отправился в комнату Наума Отвагина и был встречен строгим, прожигающим взглядом. Вся физиономия Отвагина имела необыкновенное для нее выражение гордости, самостоятельности и пренебрежения к личности господина Махаева. Г. Махаев переходил от изумления к изумлению.
– Это что значит? – спросил Отвагин сквозь зубы с таким выражением, с каким барин обращается к своему безответному слуге. – Что это за штука, я спрашиваю? – сказал он, подходя к господину Махаеву.
Господин Махаев боязливо отступил к дверям.
– Не бойся, братец, – продолжал Отвагин. – Драться, что ли, я с тобою стану? Не бойся… Вот тебе деньги: получи, что тебе следует, и убирайся с богом.
С этими словами Отвагин бросил изумленному и оробевшему господину Махаеву бумажку в пятьдесят рублей серебром. Господин Махаев, прикоснувшись к этой бумажке, будто к проводнику электричества, вдруг почувствовал, что виноват совершенно пред своим жильцом, и в то же мгновение, несмотря на крупные слова, которыми сопровождалась бумажка, весь обратился в страстного и робкого сочувствователя мещанина Отвагина и решился во что бы то ни стало примириться с ним.
– Вы напрасно гневались, судырь, – отвечал господин Махаев с несвойственною ему нежностию. – Сами вы посудите, Наум Иванович, я человек маленький и бедный, а нужда до всего доводит, и меня довела нужда. Трудовую копейку плачу я за квартиру. А я вовсе не думал обижать вас, Наум Иваныч!
– Знаю я вас! Вам только деньги давай да грубости ваши слушай. Так я вам скажу, милостивый государь, что я, слава богу, не совсем-таки нищий. Я что ж, правда, я бедный человек, живу своими трудами и тоже трудовую копейку плачу за квартиру. Вот что примите вы в соображение!
– Сущая истина, Наум Иваныч! Ведь я, батюшка, все вижу и знаю, да что ж мне делать-то прикажете? Нужда заставила сделать вам такое, можно сказать, озлобление, а впрочем, я прошу прощения. Раму сию же минуту вставлю, комнату натоплю, приберу и обед хороший вам, отличный приготовлю. Только вы уже сделайте такую милость, не принимайте этого в дурную сторону, а житье вам у меня, я вам скажу, будет райское. Во всем вам служить и угождать буду, и если опять случится вам задолжать мне, то ничего, ей же-то ей ничего!
Отвагин, преисполненный великодушием и смиренномудрием, смягчился повинною господина Махаева и, приняв дружелюбный тон, уверил его, что он остается у него в квартире, а все претерпенные им неприятности и обиды предает по-христиански вечному забвению, с тем только, чтоб на будущее время они не возобновлялись.
Далее, когда дружественные отношения между обеими сторонами были вполне восстановлены и разговор из колкого и деликатного перешел в откровенный, мещанин Отвагин признался своему хозяину откровенно, что, правда, вчера ему чуть было не пришлось плохо, что весь день он рыскал по городу, чтоб достать денег, и не достал ни копейки, только уже вечером успел захватить в трактире на Невском одного богатого купца и приятеля, которому какое-то «одно дело делает», и у него, разумеется уже без всяких разговоров, получил что нужно, даже и больше мог бы получить под разгульную руку, да совестно было брать лишнее, так он только и взял, что следовало на первый случай. К этому Отвагин присовокупил новое уверение, истина которого была давно известна господину Махаеву, что человек он бедный, горемычный, как говорится, трет лямку и не знает, поправится ли он когда-нибудь с своими скверными копеечными обстоятельствами, а впрочем, в глубине души верит старинной пословице, что бог не без милости, казак не без счастия, и другой пословице: терпи, казак, – атаманом будешь.
Господин Махаев согласился в справедливости обеих пословиц и заключил про себя, что Отвагин никак поумнел или дела его пошли к лучшему; потом он собственными руками вычистил и привел, по возможности, в порядок вымытую в грязи и изорванную одежду Отвагина, вставил рамы в окно его комнаты, и когда все было устроено как следует, Отвагин ушел из квартиры и запер ее ключом, чего не делал прежде; теперь же сделал это из предосторожности, опасаясь, чтоб господин Махаев в его отсутствие снова не вздумал распорядиться его квартирою по своему усмотрению. Господин Махаев только в глубине души упрекнул своего жильца за такую недоверчивость и в то же время простил ее, потому что на деле он оказался человеком хорошим.
К вечеру этого дня Отвагин возвратился в свою квартиру с несколькими узелками выкупленного у ростовщиков имущества. Господин Махаев совершенно убедился, что дела его жильца поправляются, и удвоил к нему свою внимательность. Однакож сам жилец своею оплошностию и неуменьем поддерживать благоприятное о себе мнение скоро разочаровал его. Дело было такого рода: господин Махаев, под влиянием впечатления, произведенного на него блестящею, неожиданною с ним расплатою своего жильца, заговорил ему о своем плане насчет перемены квартиры: он предлагал занять новую, просторную и во всех отношениях удобную квартиру где-нибудь вне Козьего болота и самую лучшую комнату в этой квартире, комнату, оклеенную царскосельскими обоями, с расписанным потолком, с особым ходом, с балконом на какую-нибудь Фонтанку или Мойку, отдать ему, Отвагину, за небольшую прибавку к нынешней плате. Отвагин замялся, проговорил о том, что все это конечно, конечно… и хорошо притом, только относительно увеличения платы за комнату он не может сказать верного слова, потому что дела его такие – известно какие!
Этим необдуманным ответом он вдруг разрушил хорошее понятие, которое возымел было его хозяин относительно его самостоятельности и, так сказать, преуспеяния в жизни. Степан Степанович снова низвел его в своем мнении на ту первую и грязную ступеньку в человечестве, на которой испокон века поставлены бобыли, горюны и разные темные люди.
Прошло несколько дней. Отвагин редко выходил из квартиры, даже, против своего обыкновения, не ходил и не бегал по комнате, а сосредоточивался почти во все это время на своей железной кровати, что случалось с ним прежде не более десяти раз в месяц, и то на несколько часов, а не на целые дни. Свечи покупал он, то есть посылал кухарку покупать, поодиночке, а прежде, бывало, покупал фунтами: спички копеечными коробочками, а прежде, бывало, разом купит целую тысячу, на пять копеек серебром, да и жжет их по мере надобности; табак жуковский вовсе перестал курить, заметив, что не по карману приходится, а купил где-то, даже, может быть, только так сказал, что купил, или если и купил, то за какой-нибудь гривенник, огромную пачку сигар, черных, некрасивых, которые, может быть, валялись в каком-нибудь магазине по своей негодности, и курил эти сигары, как он сам простодушно сознался господину Махаеву, из экономии, чтоб не тратить нужной и ко всему пригодной копейки на пустую прихоть. Таким образом, он снова обнищал и впал в совершенное презрение у господина Махаева, который, наконец, рассудил, для избежания дальнейшей возни с своим бедным жильцом, наклеить известный ярлык на окне его комнаты и у ворот своей квартиры, как только минет срок, по который заплатил Отвагин ему за свое житье.
Эту разумную меру придумал господин Махаев, будучи в хорошем расположении духа и в полном обладании своими умственными способностями, по случаю выгодной покупки пары гусей и дюжины рябчиков на Никольском рынке, откуда и возвращался он благополучно часов в одиннадцать утра на извозчике в свое Козье болото. Степан Степанович приближался с своими гусями и рябчиками к Аларчину мосту, то развлекаясь зрелищем мелькавших мимо его домов и лиц, то раздумывая о непостоянстве цен на кухонные припасы, когда был до крайности озадачен одним обстоятельством, которое было для него сколько неожиданным, столько же и непостижимым, даже сверхъестественным.
Обстоятельство было следующее.
На Невском проспекте беспрерывно встречаются изящные, драгоценные экипажи, называемые колясками на лежачих рессорах, и в тех экипажах мелькают величественные, только не всегда изящные, не всегда благородные лица. Случается, и часто случается, что эти или некоторые из этих экипажей перестают встречаться на Невском, а встречаются в Подьяческих, в Коломне и вообще на извозчичьих биржах. Лица, сидевшие в них и удивлявшие этими экипажами пешеходов Невского проспекта, тоже исчезают куда-то, иные даже абонируют себе долговечное помещение в учреждении, которое скромно называется «долговым отделением», и тогда в них, в этих изящных экипажах, разъезжают обыкновенные смертные в чрезвычайных случаях выгодной свадьбы, хороших похорон, неумеренного кутежа или важного делового визита.
Вообразите же глубокое изумление господина Махаева, когда в такой барской коляске, недавно, может быть, возбуждавшей удивление и зависть на Невском проспекте, в коляске, запряженной лучшими лошадьми, какие только существуют в извозчичьем мире, увидел он своего бедного, оборванного жильца и мещанина Наума Ивановича Отвагина?
Мещанин Отвагин в изящной шляпе – раз, мещанин Отвагин в новехонькой бобровой бекеше – два; мещанин Отвагин, обритый, приглаженный, непостижимый, смотрит настоящим барином – три… да что – три! Тысяча вопросов, один другого неразрешимее, сложнее, представились оцепеневшему, хотя, бесспорно, и глубокому уму господина Махаева! Тысяча вопросов в одно мгновение! Господин Махаев почувствовал, что на него находит столбняк.
Коляска быстро прокатилась мимо кухмистера с его незатейливым извозчиком, загремела на Аларчином мосту и – мещанин Отвагин исчез с глаз своего хозяина, который, впрочем, оглянувшись, долго с глубоким изумлением смотрел, как неслась она куда-то из Коломны по набережной Екатерининского канала.
Отвагин, между тем, катил себе спокойно и во всех отношениях благородно прямо на Невский проспект, потому что не будь Невского проспекта, петербургские люди, может быть, и не нанимали бы колясок.
– Куда прикажете? – спросил у него извозчик, доехав по Садовой до Гостиного двора.
– Куда? А чорт знает… Ну хоть туда, к Палкину трактиру… А ну, пожалуй, и тово, по Невскому и Морской, а там я подумаю.
Извозчик повернул к Морской.
– Нет, нет! Прежде к Палкину, а там уж я и подумаю.
Извозчик с треском и громом подкатил к подъезду Палкина трактира, в котором мещанин Отвагин, вероятно, поправлял свои обстоятельства.
После этой неожиданной встречи кухмистер господин Махаев должен был совершенно убедиться, что жилец его поправился с своими обстоятельствами; но сколько он ни старался убедить в этом самого жильца, тот все упорно отрекался от своего благосостояния и даже выехал из квартиры господина Махаева по той причине, что ему нужна квартирка дешевая и что он не в состоянии платить за дорогую квартиру.
Так и расстался господин Махаев с своим жильцом, не объяснив себе его странностей в последнее время. Комната его стояла пустою месяца два; потом была отдана за дешевую цену ростовщику, служившему поблизости, в Коломне. По этому случаю господин Махаев начал приводить в порядок бывшую комнату Залетаева; передвигал он комод, стол, диван, все чистил и поправлял; в ящике комодов все нижние доски провалились – он вынул их и принялся сколачивать и прилаживать. Во время этих занятий он заметил какую-то вещь в углу комода между разломанными досками, по-видимому заронившуюся из ящиков: то была свернутая газетная бумага; он вынул ее, развернул и нашел в ней еще одну вещь – старый, грубой работы бумажник, какие водятся у артельщиков и менял: в бумажнике ничего не нашлось, но его присутствие здесь, в комоде Отвагина, и то, что он никогда не видал этой вещи в руках своего жильца, – возбудило в его мозгу сильную деятельность. Обозрев со всех сторон найденный бумажник и не видя в нем ничего замечательного, он вздумал найти какую-нибудь связь между им и газетного бумагою, в которую он был завернут. Взглянув в напечатанный лист, он скоро заметил одну статью, отмеченную и как будто вырезанную острым ногтем: видно было, что кто-нибудь недаром сделал такую резкую заметку. Господин Махаев, заинтересованный странною находкою, решился прочитать несколько строк и, сделав сильное напряжение над своим мозгом, прочитал, наконец, следующее объявление:
«В четверг (такого-то месяца и числа), в двенадцать часов вечера, проездом от Гостиного двора к Покрову на Козье болото утрачено ассигнациями и билетами десять тысяч рублей серебром. Деньги эти находились в бумажнике (таких-то примет). Кто доставит…» и проч.
Всплеснул руками господин Махаев и совершенно понял, в чем дело: бумажник был тот самый, который описан в объявлении, а время потери каким-то ростовщиком почти у самой квартиры его десяти тысяч рублей серебром – совершенно совпадало с достопамятным для него вечером, когда он произвел самосудную расправу над виноватым жильцом, выставив окна в его комнате.
После долгих размышлений, как ему быть с своим важным открытием, он решился объясниться и полюбовно кончить дело с самим Отвагиным. С этой целью отправился в его новую квартиру, по дороге придумал все как следует, что просить, чем грозить и, придя на квартиру, – узнал к глубокому своему огорчению, что он – совершенно одурачен и его счастливый жилец – уехал на пароходе за тридевять земель в какую-то весьма отдаленную страну, называемую таким именем, что господин Махаев ни выговорить, ни записать его, так сказать, для памяти не умел. Махнув рукою, господин Махаев пожалел-пожалел, даже несколько раз назвал себя старым дураком, да уж дела поправить не мог. Только с той поры стал он снисходительнее к своим жильцам, не выставляет окон в их комнатах и все ждет не дождется, сердечный, не найдет ли кто из них десяти тысяч, а не то хоть и ста тысяч рублей серебром – тогда и с ним поделится за его доброту душевную… да нет!
IX. Конец путешествиям!
«Оно, может быть, еще и все уладится благополучно, – думал Залетаев, прислушиваясь к истории своего собрата по счастию: – они, как видно, вовсе не знают, кто это ездит по городу с визитами. Ну, если так, зачем же Борис Семенович пожаловали давеча… если не ко мне?»
Задав себе этот вопрос, Залетаев не мог разрешить его к своему удовольствию. Робость не допустила его решиться на отважную меру ехать в свою оставленную квартиру – и сонливость одолевала его такая, что мысли путались в голове его; он беспрерывно выходил из своей роли Монте-Кристо и даже готов был растянуться и спать в кондитерской. Рассчитавшись торопливо, он кинулся к своей карете и приказал кучеру, уже нормально пьяному, ехать поскорее.
– А куда милости вашей угодно?
– Ну что ж – направо – или хоть налево, – вези по прежнему тракту, – отвечал Залетаев.
И вслед за тем, приняв удобное положение, Залетаев вытянулся, закутался в свою шинелишку, голова его склонилась в угол кареты, и он, забыв все на свете и свою славную роль, уснул крепким, продолжительным сном.
С кучером не случилось такой приятной неожиданности; он только дремал и качался на козлах – и, очнувшись, забывался совершенно и гнал лошадей, точно на пожар. Изнуренный и поглупевший от долгого бодрствования, которое поддерживалось только могущественными гривенниками Залетаева, он, наконец, тоже выбился из своей роли и бредил одинаково, в дремоте или наяву. Достигнув по Невскому проспекту Большой Мещанской улицы, он смело, как будто так нужно было, повернул в Мещанскую. Тут лошади, не ожидая никакого с его стороны распеканья, сами пустились во всю мочь, что крепко приходилось по сердцу кучеру: мотая головою и качаясь на своем седалище, он и в бреду чувствовал наслаждение заповедной пожарной езды в тесной улице, где все меньшего ранга экипажи и всякого рода звания пешеходы и животные стремительно и пугливо мечутся в сторону; он чуть даже не отрезвел и не очнулся совершенно от свиста и щекотанья ветра, в который врезывался он с своими быстроногими клячами; но действительно отрезвился он и очнулся не от сурового дуновения Борея[12], разметавшего его нищую бороду, а от нежного, отеческого прикосновения к его терпеливой спине одного почтенного инструмента, употребляемого извозчиками в их ремесле под именем кнута… Почувствовав отеческое действие этого инструмента, кучер мигом встрепенулся и, как ни в чем не бывал, очутился у знакомых, так сказать, родных конюшен, куда привезли его нетерпеливые клячи, перед грозным лицом своего хозяина, Григорья Якимова сына, по прозванью тоже Якимова, окруженного товарищами, соседями и работниками.
– Вишь, нарезался, бесов сын! – произнес Якимов с неукротимою строгостью.
– Ей же-то ей, хозяин – ну вот как хошь – не нарезывался и не думал нарезываться, – объяснял обвиняемый, сняв шапку и вставая с козел.
– А где пропадал двое суток, колпак ты этакий, мужик – право, мужик необразованный, деревенщина… что?
– Ей же-то… – начал обвиненный.
– Ну, где пропадал, я тебя спрашиваю?
– Не пропадал, хозяин! Ей же-то ей, не пропадал. Сами спросите!
– Да где же ты был?
– Ездил, хозяин, ей же-то богу, ездил с тем барином.
– А ночью где был?
– И ночью ездил, сударь! Не погубите, не виноват! Такой барин страшной, что и боже упаси: не напусти господи ни на кого такого страшного барина – так и кричит, все кричит. Изъездил я с ним свою душеньку… и не спал.
– И не спал?
– Ей же-то… сударь, и не спал; все ездил; такой барин страшной – как закричит – боже упаси! Ты, говорит, не рассуждай – где ты, говорит, такой родился? А я, сударь, стоял за хозяйское: сами спросите – стоял!
– А деньги получил?
– Ничего не получил, сударь. Такой страшной барин…
– Ну так завтра не езди, слышь? Он, чай, приказывал приезжать?
– Как же, сударь, приказывал и наказывал! – подтвердил кучер в страхе всего на свете, и страшного барина, и отца, и хозяина.
– Гей, Митяй!.. Кирюха! – воскликнул извозчик-хозяин к извозчикам-работникам. – Карету поставить в сарай. Срок прошел – деньги за лошадей не заплачены – пусть разочтется, а не то пусть тягается, найдем на него управу… Поставьте ее в сарай!
Отложили измученных лошадей и свели их в конюшню. Карету обошли кругом, похвалили; потом, дружно ухватившись за дышло, – вкатили ее в отдельный сарай и заперли замком, как вещь конфискованную, которая должна быть сохраняема некоторое время, так сказать, впрок, а потом продана в пользу извозчика Якимова на пополнение справедливой его претензии к бывшему господину Залетаеву.
Ключ от сарая отдали хозяину, и так как было уже довольно поздно, то все, и хозяин и работники, разошлись провести остальное свободное от дневных трудов время в приличных каждому состоянию публичных учреждениях…
Двор опустел. Пали непроницаемые сумерки, и в глубине темного сарая в Большой Мещанской улице – увы! сокрылись от глаз блистательного света необыкновенный человек и его великолепная карета, которые еще недавно смущали воображение разных петербургских людей, путешествуя с таинственною целью от одного до другого конца Невского проспекта.
X. Господин Витушкин
В кухмистерскую у Знаменья, где был отличный обед по двадцати копеек с так называемой персоны, хаживал между прочими один человек, по прозванью господин Витушкин. Когда он приходил – это случалось в урочные четыре часа пополудни – за столом уже сидели некоторые постоянные лица – отставной штабс-ротмистр Ноготков, служащий по гражданской части господин Гвоздев и старик неизвестного звания, одетый в синем фраке, прозванный, по одному, впрочем, предположению, учителем. Придя в общую столовую залу, господин Витушкин кланялся постоянным посетителям и, заняв свободное местечко за столом, скромно потуплял глаза и кушал себе на здоровье, не обращая внимания на выходки отставного штабс-ротмистра, который любил потешиться и подтрунить над кем-нибудь из отсутствующих или над присутствующим стариком, иногда и над ним самим, господином Витушкиным. Он, однако, заметил, что другой постоянный посетитель, господин Гвоздев, не позволял себе никаких вольностей или невежливостей в отношении к своим соседям, даже, напротив, был услужлив и вежлив перед всеми, особливо пред стариком, который по своим почтенным летам и кротости обращения действительно заслуживал полной внимательности от благонравного молодого человека: Гвоздев был еще очень молод и, судя по его наружности, видно было, что он, как говорится, тер лямку на белом свете. Господин Витушкин был всегда рассеян, занят чем-то, молча обедал и потом убегал и рыскал по городу, а Гвоздев, может быть тоже занятый, не развлекался, однако, ничем посторонним во время обеда и не забывал подать старику солонку или налить воды в стакан. Таким образом он заслужил особенное внимание старика, который, не будучи, по летам своим, расположен к сердечным излияниям, сказал ему однажды после обеда лаконическое приветствие такого содержания:
– Молодой человек, вы мне нравитесь!