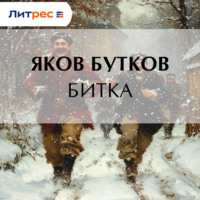полная версия
полная версияНевский проспект, или Путешествия Нестора Залетаева
Эти воспоминания отчасти нарушили веселое расположение духа Залетаева. Даже к такому было привели его заключению, что, однакож, чем все это кончится, и послужит ли к пользе нового Монте-Кристо, и не лучше ли ему будет устроить свою участь совершенно другим образом? Однако это практическое направление его мыслей, обличавшее припадок малодушия, скоро было прекращено, или, так сказать, пресечено деятельными мерами самого Залетаева: скорчась в уголку своей кареты, он нашел в своем деятельном воображении смертельное оружие против практического направления. Одно уже скромное предположение о том, что, наконец, заговорит высший свет и весь город, – преисполняло душу его умилением и блаженством, а дальше появлялось и неизбежное следствие его замыслов и мудрых планов: Павел Александрович, разнежившись и восчувствовав угрызение совести, – скажет: «Вот вам, господин Залетаев, место на моей конторе; принимаю вас по-прежнему в конторщики, а то, что я однажды отпустил вас за нехождение в должность, объявляю собственным моим недоразумением. Так помиримся же, господин Залетаев, а чтобы много не разговаривать, вручаю вам в супруги единственную мою дочь, Настасью Павловну! Что же касается до Громотрясова и Растягаева, вы ничему не верьте – пустяки!»
– Так! – произнес Залетаев утвердительно, любуясь яркою картиною своего грядущего благополучия. – Оно действительно так все и кончится. Нужно только не уронить своего достоинства ни перед кем и каждому тоже отдать по достоинству… Гей, человек! Стой, кучер, стой!
Карета остановилась. Человек, посинев от холода и строгости своих обязанностей, поспешил явиться у дверец кареты.
– Куда это мы приехали? Чей это дом насупротив? – спросил Залетаев.
– Не знаю, – отвечал человек после долгого размышления.
– Ну вот, ты уж и не знаешь. Выпусти меня скорее. Нет, нет, не нужно: возьми вот эту карточку и снеси, отдай тому красному лакею, что стоит у дверей. Скажи, что от барина, господина Залетаева, к ихнему барину. Скажи, что – больше ничего, и что сами изволили приезжать… пожалуй, скажи еще, что не так здоровы… слышь?.. изволят, мол, жаловаться на расстроенное здоровье… Ступай.
Человек, взяв карточку, отправился к красному лакею, мелькавшему сквозь стеклянную дверь подъезда. Залетаев следил за всеми движениями исполнителя своей воли: сначала показалось ему, что человек не так действует, как ему приказано, все перевирает, особливо ту статью, где говорится: «изволят жаловаться на расстроенное здоровье», потом он заметил, что к красному лакею присоединился черный, к черному зеленый – потом еще один, синий с золотом, и все они что-то заботливо хлопотали около человека, так что Залетаев стал даже опасаться за него.
«А что, если они его… да и на съезжую?» – подумал Залетаев и вслед за тем стал отрицать свое предположение тем, что человек ни в чем не виноват.
«А если спросят, чей ты такой?» – снова подумал Залетаев и, побледнев, решился протестовать против этой мысли новым предположением, что этого быть не может и примера не было такого.
Глядя пристально на место действий своего человека, он заметил наконец, что человек отпущен и вышел на улицу, но за ним вышли и четыре лакея разных цветов и стали внимательно рассматривать карету и того, кто в ней помещался; особливо один из них, синий с золотом, так и впивался – пьяница, своими черными навыкате глазами в самую глубь совести Залетаева и как будто готов был в ту же минуту обнаружить все его планы и стремления.
– Ну что, человек? – спросил Залетаев, выглядывая из кареты.
Человек был решительно в цвету и в поту. Утираясь платком и оглядываясь на четырех своих спутников, он вдруг вскочил на запятки, закричав кучеру. «Пошел!»
Залетаев тоже, по внезапному движению души своей, которая была истязуема проницательными глазами синего с золотом лакея, повторил строжайшим, чисто пожарным голосом:
– Пошел, живо!
Карета помчалась по какому ей было угодно направлению, а Залетаев, выглянув отчасти в окно, увидел, что четыре лакея смотрят ему вслед с прежним вниманием, указывают на его экипаж и как будто рассуждают о чем-нибудь весьма решительном.
Очутившись в достаточном отдалении от этих подозрительных лиц, Залетаев велел кучеру остановиться и позвал человека.
– Ну что, ты отдал карточку? – спросил он.
– Отдал.
– Что ж, ничего?
– Ничего.
Залетаев как будто не ожидал этого. Помолчав немного, он снова спросил:
– И насчет здоровья докладывал?
– Докладывал.
– Сказал, что изволят жаловаться?
Человек уставил в него свинцовые глаза и – ни слова.
– Да что же ты, братец! Ведь ты говоришь, что докладывал?
Человек был нем, как рыба. Только Залетаев заметил, что лицо его во время допроса из фиолетового цвета перешло в бурый, из чего и заключил, что в его душе происходит какая-нибудь «страшная, отчаянная борьба».
– И сказывал, что сами изволили приезжать? – снова спросил Залетаев.
– Сказывал! – произнес человек, к глубокому изумлению Залетаева.
– Ну вот и хорошо, братец, и прекрасно. Так всегда отвечай – аккуратно на все вопросы. Что же они?
Человек онемел по-прежнему, и глаза его начинали тускнеть, сколько могли тускнеть свинцовые глаза.
– Ну, бог с тобой, ступай себе, – произнес Залетаев, видя, что не может допросить человека о всех подробностях вручения визитной карточки.
– Насчет ливреи спрашивали: какая такая ливрея и какой такой барин, всё спрашивали, – заговорил человек, неожиданно получив употребление языка.
Залетаев принял это объяснение к сведению и уже не беспокоил человека новыми вопросами; но в глубине души невольно сознался, что человек – по всему видно – с характером: говорит, когда хочет, а когда не хочет – ни за что не говорит, значит – продувная штука, а у него все-таки – человек.
Утвердившись в этом мнении, он двинулся вперед – все, однакож, в одном направлении, по Невскому проспекту, строго воспретив кучеру сворачивать куда бы то ни было с этой единственной арены «высшей гражданской и общественной деятельности». Тут, рассудив обстоятельно о причинах и цели своего путешествия, он произвел некоторое усовершенствование в способе посещения известных и знаменитых лиц, о которых он черпал подробные сведения из адрес-календаря. Он заметил, что гораздо удобнее сделать предположенные им визиты, руководствуясь не по рангам известных и знаменитых лиц, а близостью места их жительства. Таким образом, он мог начать свои визиты с первого дома у Адмиралтейской площади и кончить – на кладбище Невского монастыря. Эта мера обеспечивала ему сокращение драгоценного времени и сбережение не менее драгоценного здоровья.
Отдав себе полную справедливость в остроумной находчивости, Залетаев деятельно принялся «делать визиты» счастливым обитателям Невского проспекта. Эту приятную обязанность исполнял он посредством визитной карточки, посылаемой с «человеком», которого при каждой посылке снабжал он теми же самыми наставлениями и полномочиями, что и при первой. Со стороны человека происходили постоянно те же изменения в лице, он так же часто лишался способности говорить и потом приобретал приятную способность говорить – как и прежде. Вся разница была в количестве лакеев, с которыми приходилось ему объясняться, и в звании лица, которому они принадлежали.
И вот ездят они – ездят по Невскому все трое: сам новый Монте-Кристо, его верный, несравненный человек и их общий кучер – а лошади возят всех их неутомимо двое суток сряду – и ничего. Залетаев зайдет себе «покушать» в чистую половину, а «людей» пошлет «есть» в черную половину отеля, называемого в просторечии трактиром, и когда все насытятся и надремлются до изнеможения, опять едут с визитами – и ездят по-прежнему неутомимо, так что даже целую ночь проездили по Невскому из одного конца в другой (ночью они ездили не для визитов, а для одной прогулки), и так изнурились в эту ночь, что даже поглупели все, не исключая и нового Монте-Кристо. Дрожь лихорадочная била их, несмотря на частые привалы к отелям, которыми изобилует Невский проспект. Кучер решительнл восставал несколько раз против вечного, так сказать, странствования по Невскому, грозил гневом хозяина и тем, что лошади не выдержат; но Залетаев не обращал на это внимания, требовал беспрекословного повиновения своей властной особе и награждал покорность кучера гривенниками, которые тот употреблял на отогреванье своего окоченевшего желудка и после нескольких гривенников, употребленных с этою полезною целью, – так хорошо отогрелся, что запел песню, пожелав Залетаеву доброго здравия и царства небесного, и доложил, что он по гроб свой не выйдет из-под его руки. Залетаев принял эти изъявления с свойственною ему благосклонностью и приказал ехать поскорее – вдоль Невского – потому что очень нужно.
На другой день этого непрерывного путешествия, дремля в карете, с больною головой и развинченными нервами, Залетаев почувствовал желание узнать, куда и зачем это он ездит и что, наконец, выйдет из всего этого? Все свои визиты он уже сделал, весь Невский проспект видел и его, и карету, и человека и даже, может быть, успел уже взять их на замечание в том отношении, что как же это ездят по Невскому люди обыкновенного звания, дома не ночуют и всё только делают визиты да мстят обществу?
«А что, – подумал Залетаев, – если они, по каким бы то ни было причинам, из зависти, или из корыстолюбия, или даже для одной шутки… и отнимут?»
Эта мысль так потрясла его, что он на минуту впал в совершенное беспамятство. При этом случае он и уснул, сам того не ведая, часа три в своей карете, а карета отдохнула у одного не во всех отношениях пристойного места, которое, впрочем, нашли для себя пристойным кучер и человек. Многие пешеходы с изумлением останавливались и глядели на великолепную карету и на спящего в ней узколобого и до крайности величественного господина, которые удостоили отдыхать в таком невыгодном соседстве. Залетаев, однакож, не чувствовал на себе влияния посторонних суждений: очнувшись, он дернул шнурок, и к шнурку уже был, как следует, прикреплен кучер; позвал человека – и человек явился. Удостоверившись в наличности всего своего хозяйства, Залетаев немедленно отдал приказание, которое даже изумило его людей, – приказание повернуть к Каменному мосту, что, однакож, они поспешили исполнить с похвальною ревностию, как будто они имели в этом свою выгоду.
Залетаев снова погрузился в бархатные подушки своего экипажа, который уже подвигался к предназначенной ему цели. В изнеможении от продолжительной деятельности, он готов был задремать снова, когда сердце его забилось предчувствием близости родной каморки. Залетаев поспешил выглянуть в окно кареты и боязливо стал обозревать знакомую улицу, с которою он не видался двое суток: все было на ней почти по-прежнему, только не совсем: у самой лестницы, которая вела в темную его каморку, – стоял так называемый в тех местах «помощник» и Борис Семенович, а перед ним пресмыкалась в прахе известная борода дворника; несколько лиц, по-видимому посторонних, дополняли эту серую картину петербургского быта.
В эту минуту вся природная сметливость, все отдаленные предположения Залетаева проснулись в нем и так потрясли его, что он вдруг растерялся и, растерявшись, ясно увидел, в какую бездну несчастия поверг себя своим неумением играть высшие роли в человечестве.
«Пожалуй… и отнимут… Да что тут! Без всякого сомнения – отнимут, – подумал он в глубоком отчаянии: – да еще и самого… и человека, может быть, лишат по какой-нибудь обстоятельной причине».
– Эй, братец, слышь? Ступай назад, на Невский поезжай – слышь. Человек, человек!
– Слышь, приятель? – подтвердил человек, приподнявшись на своем месте и перемигиваясь с кучером. – Поворачивай оглобли-то известно куда!
Карета поворотила на приличное ей место – на Невский проспект, а Залетаев почувствовал некоторое облегчение, удаляясь от своей квартиры.
«Кажется, я уж слишком опрометчиво распорядился своими визитами, – подумал он, вспоминая о своих путешествиях в последние два дня. – Может быть, и вовсе не следовало бы брать в образец графа Монте-Кристо и ставить втупик высшее общество. Впрочем, Борис Семенович должен бы то принять во внимание, что я действую утонченным образом, и если я решился мстить обществу, так это вовсе не в том, не в каком-нибудь известном смысле: я только хочу напомнить, что вот тот же самый человек – только уже не тот, а нынче ездит в собственной карете, потому что обстоятельства у него поправились и он, по милости божией, достиг в своей жизни совершенного благополучия… В этом, с моей стороны, нет вины никакой, даже существуют благотворительные общества с тою целью, чтоб у страждущего, так сказать, человечества поправлялись обстоятельства. Ну, так я и – ничего, могу быть совершенно спокоен и объяснить свои резоны Борису Семеновичу, с тем чтоб он все принял в соображение и не лишал безвинно… да!»
«А что, – предположил себе Залетаев в заключение успокоительного размышления: – что если они, с своей стороны, имеют свои резоны и соображения, да и… лишат?»
Это неуместное предположение так озадачило изнемогшего Залетаева, что он уже вообразил себя действительно лишенным своей несравненной собственности – кареты. В отчаянии он схватился за горячую голову и зарыдал горькими-горькими слезами…
VII. Слухи и толки
Скоро слух о таинственной карете, путешествующей по столичному городу Санкт-Петербургу, стал распространяться всюду: сначала узнали об этом извозчики и вывели из необъяснимого, но подозрительного обстоятельства такое заключение, что появился ученый немец из англичан, и тот немец обозревает петербургские улицы, а наипаче петербургские экипажи, чтоб разузнать все до корня, также и насчет овса, кузнецов и барышников, а потом уж и пустить в ход бумагу об отмене и решительном пресечении всех извозчиков, барышников, дрог, карет, дрожек и всякого рода снарядов и махин, употребляемых нынче, по древним обычаям, для разъездов по городу; все это немец из англичан думает будто бы заменить своим собственным, несомненно хорошим экипажем, а у них, ни в чем не повинных извозчиков, кузнецов и барышников, отнять хлеб и средства к приятному препровождению времени у колод, в заведениях и других публичных местах.
Люди других званий, ведущие менее практическую и более фантастическую жизнь, слуги при господах, служители в трактирах, маркеры, бильярдные игроки и даже действительные господа, существующие преимущественно непостоянными средствами, отыскиванием пропавших собачек и выпрашиваньем пособий в пользу многочисленного семейства, – эти люди отрицали всякую практическую цель в путешествиях кареты по Невскому проспекту: они достоверно узнали, что был когда-то на свете один хороший человек, который долго вел приличную великосветскую жизнь, играл в карты и ездил в карете, в этой самой карете; наконец он, по каким-то причинам, лишился всего, и кареты, и мебелей своих дорогих, и квартиры в Большой Морской (некоторые, напротив, упорно утверждали, что не в Большой Морской, а в Малой Мильонной), и попал, сердечный, прямо в шарманщики: в этом новом звании видели его будто бы многие на петербургских улицах, на Охте, в Парголове и на островах, – всюду он промышлял своим инструментом, собирал гроши и доставлял наслаждение публике. Таким делом занимался он долго и усердно, только раз как-то поздно ночью, в дождь и бурю, не нашлось ему приюта нигде во всем городе – даже под извозчичьей колодой, – он и возроптал на свою жалкую участь и, так сказать, пожелал во что бы то ни стало ездить по-прежнему в карете, а не шататься по городу с шарманкою. Только что он пожелал такого благополучия и стал ревностно дуть на окоченевшие руки с тем намерением, чтоб отогреться по возможности, – к нему подошел таинственный господин, в виде отъявленного француза и франта, – впрочем, господин известного всему роду человеческому неблагонамеренного звания – и тут же на месте, преобразив его из шарманщика в первобытный светский вид, завел его в кондитерскую у Синего моста, отогрел ликером и заключил с ним соблазнительную, душегубную сделку насчет того, что ездить ему, шарманщику, в своей прежней карете до такого-то и такого года, месяца и числа, а потом уж, разумеется, заплатить проклятому извозчику своею погибелью. Соблазнив бедного человека на эту сделку, таинственный господин вывел его из кондитерской и тут же, у подъезда, представил ему карету новенькую, немецкой работы, с цветными фонарями, синими (некоторые утверждают – малиновыми) бархатными подушками, фиолетовым человеком и всеми принадлежностями. Вот и появилась с той самой минуты на петербургских улицах, а преимущественно на Невском проспекте таинственная карета, которая денно и нощно тешит и возит злополучную человеческую душу.
Против этой истории тоже нашлись возражения со стороны так называемых глубоких умов. Глубокие умы, по своему скептическому направлению, отрицали и практическое и фантастическое значение кареты, путешествующей по Невскому проспекту; они справедливо признали, что нет еще никаких данных для решительного заключения об этом необъяснимом случае; но, судя по времени и обстоятельствам, принимая во внимание изящество кареты, что утверждают согласно все видевшие ее, – и, наконец, руководствуясь глубокою идеею о стремлении всяких, белых и черных, медведей к проявлению своей личности, они полагают, что поездки неизвестной кареты имеют несомненную связь с всемирно-историческими обстоятельствами.
А никто, между тем, и не догадывался, что дело началось таким образом.
В былое время появился в Петербурге новый жилец, а у коломенского обывателя Филиппа Залетаева десятый сын и дармоед Нестор Филиппович Залетаев. По этому радостному случаю ни в природе, ни в человечестве не произошло ничего особенно замечательного, только странствующий Орфей[10], проникнутый дождем и внезапным вдохновением, остановился на непроходимой местности перед квартирою Залетаева и сыграл на своей шарманке известную торжественную кантату «Мальбрук в поход поехал», да еще страстный и голодный дилетант из порядочного собачьего звания, примкнув к Орфею, взвыл нечто свое, очень убедительное и жалостное.
Между тем Залетаев-тятенька, двадцать лет поговаривавший о поездке в Новгородскую губернию, собрался было совсем в дорогу и уже старался обнажить упорно державшуюся в ножнах старинную и весьма убийственную саблю для защиты жизни своей от посягательства непристойных людей, занимающихся разбойным делом; но, узнав о счастливом приращении своего дома особою Нестора Филипповича, отложил свое путешествие на неопределенное время, даже совершенно растерялся: так пришлось ему по сердцу умножение предметов его домашнего благополучия. Долго он не мог управиться с нехитрою мыслию, что теперь он, по милости создателя, смело может назваться отцом многочисленного семейства, даже попробовал было усомниться в своем благополучии, но едва только успел подумать, что, может быть, со стороны, для беспристрастного наблюдателя, семейство его еще не вполне многочисленно, как в ушах его раздались звонкие и резкие голоса десяти Залетаевых всякого вида и возраста. Это обстоятельство, уничтожив в нем всякое сомнение в действительной многочисленности его семейства, привело его к живейшему согласию всей полноты его счастия: он только махнул рукой и возложил упование на бога. Возвратив себе такою решительною мерою приличное спокойствие духа, он закурил трубку и принялся выкладывать на счетах, во что ему обойдется, на первый случай, водворение на белом свете нового человека: вышло не то четырнадцать с полтиною, не то и всех пятнадцать бумажками.
После этого Залетаев-тятенька снес куда-то шубу малоподержанную, на манер енотовой, побегал денька три-четыре по городу, постарался немножко, немножко даже устал и немножко упал духом, зато уж дело свое так обработал, что Залетаев-сынок или, вернее, душа Залетаева-сынка была крепко-накрепко записана и прописана в счастливом числе пеших обитателей великолепной северной Пальмиры[11].
Свершив такое доблестное дело, тятенька вошел в прежнюю колею своей жизни: стал с утра уходить из квартиры в какую-то должность, стал просиживать вечера в своем углу с трубкою в зубах, созерцая величие природы в произведении табаку удивительно дешевого и непостижимо особенного, ничем будто бы не уступающего настоящему Жуковскому, стал сосредоточиваться в самом себе, не развлекаясь ничем (разве пожар где-нибудь случался, так ходил смотреть пожар), стал сильно поговаривать о поездке в Новгородскую губернию и, наконец, совсем собрался туда, только опять-таки не поехал, не то чтоб он вдруг раздумал после двадцатилетнего убеждения в пользе этого путешествия, а воспрепятствовало ему непредвиденное обстоятельство: накануне отправления в дорогу, когда уже сабля убийственная была доведена до способности выходить из ножен, где-то случился пожар, казалось, недалеко, на Выборгской стороне, а оказалось далеко, за Выборгской заставой. Сходив за Выборгскую заставу и узнав о происшествии обстоятельно, где, что, почему и как, он возвратился домой поздно ночью в добром здоровье и прилег в своем углу, чтоб возобновить в памяти все обстоятельства виденного пожара, да уж заодно и отдохнуть, – прилег, да так и не вставал, – умер, стало быть, по какой-нибудь причине, – и в Новгородскую губернию не поехал, а поехал на Волково.
Тем и кончилась история Залетаева-тятеньки. Нет сомнения, что она по своему благонравному содержанию, а наипаче по беспримерной краткости своей заслужит всеобщее одобрение.
Но другая история была не так беспримерно коротка и благонравна: это – история Залетаева-сына, часто упоминаемого Нестора Филипповича. Нестор Филиппович, с своей стороны, был сильно озадачен, очутившись неожиданно в квартире своего родного тятеньки. И то, впрочем, могло быть, что он, покамест, не вдавался в сравнения, только достоверно, что он был очень недоволен приготовленною ему со стороны дражайших родителей нечаянностью и не замедлил выразить свое неудовольствие резким криком. Дав себя знать, высказавшись в первый день жизни своей человеком беспокойным и буйным, он решился посмотреть, что дальше будет, и с этою мыслию приутих, смирился духом и уснул в своем дорожном экипаже, называемом колыбелью.
Дальше, впрочем, ничего не было особенного. Пред ним замелькали однообразные явления жизни многочисленного семейства, предназначенного к продолжению рода За летаевых в позднейшие веки. Визг и шум не умолкали вокруг него, и он сам, знакомясь и сливаясь с окружающим его миром, стал ревностно участвовать в непрерывном концерте, который разыгрывало многочисленное семейство, благословенное для выполнения упомянутой цели добрым здоровьем и прочными желудками.
Этот концерт тянулся несколько лет, до того достопамятного дня, в который попечительная рука маменьки свела Нестора Залетаева к господину Зуболомову в школу, чтоб он там научился уму и прочему. Он и стал учиться. Господин Зуболомов сложил в его молодую голову тяжкий, не по силам ему приходившийся груз земной премудрости: сначала заставил его «проходить» тоненькую книжку под названием «Начальные основания российской грамматики в пользу юношества», и когда он года в два «прошел» и изорвал тоненькую книжку совершенно, ему вручили другую, потолще, попрочнее и поученее, называемую «Краткою российскою грамматикою»; эту одолевал он год с чем-то и таки одолел и изучил ее всю в лохмотья; тогда нашли его несомненно достойным почерпнуть нечто из особенной книги, толстой, глубокомысленной, возбуждающей к себе ужас и благоговение: то была «Пространная грамматика», с таблицами окончаний всех глаголов, с примерами слогов высокого, среднего и низкого, со множеством дополнений, пояснений, приложений и наставлений. Над нею пришлось ему поработать добрых три года; потрудился он и просветился в это время довольно, немножко даже поглупел, похирел и сгорбился под бременем страшных таинств русской грамматики; зато уж, смело можно сказать, научился всему на свете, даже употреблению коварной буквы «ять». Затем оставалось ему, для полноты своего образования, просидеть лет пять-шесть над «Полною и всеобщею грамматикою», но он уже чувствовал себя как бы раздавленным своею ученостию, ум его начинал цепенеть и застывать в страшной форме неправильного глагола, и в голове у него происходила постоянная трескотня спряжений, брожение местоимений, падежей и причастий так, что уж он был не в состоянии отведать сладких сотов ученейшей книги в мире – «Полной и всеобщей грамматики». Он перестал ходить в школу господина Зуболомова и на том покончил курс своего образования, будучи вполне уверен, что знает-таки, слава богу, из области наук все, что довлеет знать человеку его состояния, да, сверх того, нечто из свободных художеств – чистописание, например, почерки различные: косой, прямой, готический и еще какой-то, называемый особенным почерком, изобретенный самим энциклопедическим его учителем.
Таким-то образом Нестор Залетаев набрался познаний всяких и дожил до такого благополучия, что узнал, наконец, все глаголы русского языка и разные полезные почерки, а наипаче особенный почерк, и в этом вполне оконченном виде, так сказать во всеоружии мудрости, явился на поприще практической деятельности и очутился на своей дороге один-одинехонек, потому что всемогущее время разметало во все стороны света многочисленное семейство, его окружавшее, оставив его круглым сиротою и полновластным распорядителем своих грамматических способностей.