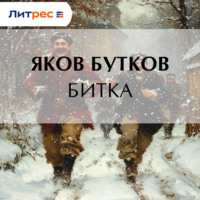полная версия
полная версияНевский проспект, или Путешествия Нестора Залетаева
В первую эпоху своей самостоятельности Залетаев был человеком приличным во всех отношениях: наружность имел он благопристойную, ничем не нарушавшую единства и гармонии северной природы: рост, возраст и доброе здоровье совершенно достаточные для того, чтобы в случае уклонения с пути строжайшего самоусовершенствования быть годным к доставлению личного удовлетворения разгневанной Фемиде. Со стороны примерного поведения и доброй нравственности тоже ни в чем замечен не был, в празднословие и суемудрие не вдавался, хотя и знал множество грамматик и почерков; впрочем, чтобы не показался он человеком идеально совершенным, его даже можно взять со стороны суемудрия на замечание. Что касается до его характера и темперамента, эти качества вполне соответствовали его домашним обстоятельствам и гражданскому значению: они возвышались и понижались в нем, как ртуть в барометре, от степени давления на него атмосферы, его окружавшей.
По наследству от покойного тятеньки и всех членов исчезнувшего многочисленного семейства Залетаевых достались ему фамильные сокровища: разный хлам, мелкая рухлядь и даже убийственная сабля купно с ножнами, в которые она не рассудила войти после того, что была обнажена однажды сильною волею тятеньки; все это добро он продал и – прожил; потом обнищал и пустился в коммерцию: несколько лет выводил красивые цифры в конторских книгах, между тем все думал и задумывался над чем-то; хотелось, кажется, ему всего, и прибавочки к жалованью, и собственного дома в четыре этажа… Вдруг этот человек, обнищавший и поглупевший, – ни с того ни с сего сел в карету, да и поехал, и ездит себе по Невскому, и делает визиты всему обществу – по адрес-календарю!
Вообще молва о том, что «появилась карета», произвела сильное впечатление на умы пешеходов. О ней думали и рассуждали с тем же сердечным участием, которого доселе были удоетоиваемы только одни кометы с длинным-предлинным хвостом, с тусклым и глупым лицом, похожим на переспелую ростовскую дыню, и то если она обращала свое лицо к земле, будто решительно высматривая земные дела и спрашивая: «А что вы тут, что… а? – вы, всякие, нутка?» Были люди, которые с утра до вечера ходили по улицам, глядя подозрительно на всякий встречавшийся им экипаж, – иные даже решались заглядывать в те кареты, которые соответствовали их идеалу зловещей таинственности, и потом удалялись от них в паническом страхе.
А Залетаев, между тем, продолжал свое путешествие, уже не вольное и не «по предначертанному плану», уже не подражая примеру славного графа Монте-Кристо, а только желая спасти самого себя, своего драгоценного человека и свою собственность – карету, от последствий многочисленных визитов, сделанных им «обществу» из видов глубокого мщения.
Сосредоточившись в своей карете, он предавался беспокойным думам, рассуждая, зачем это он ездит по городу в таком несвойственном ему виде и нельзя ли как-нибудь уладить дело с обиженным обществом, чтоб оно не лишало его собственной кареты. Всякий шум, все, что ни мелькало перед ним на улице – здания, люди, даже безответные животные, возбуждали в душе его тревогу, сомнение и подозрительность. Прильнув к стеклу кареты, он боязливо глядел на свет божий, всматривался во всякие физиономии, желая различить между ними ту, которая может схватить его и представить куда следует. В этом несчастном состоянии он стал раздражителен и строго взыскателен в отношении к своим «людям».
– Ну, вези же, братец, вези! – кричал он кучеру, который вздумал было остановиться у чужой колоды, чтоб покормить лошадей. – Слышь? Вези, я тебе говорю. Нет, чтобы спросить позволения! Сам изволит распоряжаться чужим экипажем, чужою… собственностью!
– Да куда же еще везти прикажете, ваше высокоблагородие? Ей же-то богу, весь город выездил и душу свою проездил, – отвечал кучер умоляющим голосом.
– Ну, вези, вези! Исполняй свою службу. Твое дело повиноваться барину – вези, куда велят, – вперед, направо или налево, ты за это не отвечаешь, а рассуждать не смей: за это знаешь ли, что достается вашему брату?..
Кучер, должно быть, знал или слышал от знающих людей, потому что снова взобрался на козлы и с безмолвною покорностию двинулся в свой злополучный и бесконечный путь.
– Эй ты, слышь? Стой, стой! – закричал Залетаев, выглядывая из кареты.
– Что прикажете, ваше высокоблагородие? – спросил кучер, снимая шапку. Видно было, что распеканья барина достигли своей цели и преобразовали грубый его нрав совершенно.
– А вот что, братец: человек мой здесь?
Кучер посмотрел в ту сторону, где находилось приличное человеку место, и отвечал:
– Никак нетути-с!
– Как нетути-с? – спросил Залетаев в изумлении. – Почему же нет его? Куда он девался, разбойник? Я его прогоню – скажи ему это!
– Да они еще давеча ушли, в ту пору: обругали вашу милость, да и ушли-с!
– Как же это можно – ушли!
– Да также-с: «что», – говорят, да махнули рукою и пошли!
«Э-ге, вот куда пошло дело!» – подумал Залетаев с злостью и испугом – и в ту же минуту снова напустился на своего безответного кучера.
– А почему ты не доложил мне тогда же? Почему не сказал, что вот, мол, ваше высокоблагородие – так и так: люди разбегаются?
– Да что же, ваше высокоблагородие! Какое мне дело, что люди разбегаются: я тут и с лошадьми пропадаю. Я чай, хозяин со свету сгонит за лошадей!
– Ну, ты уж и расплакался – хозяин! Знаю я твоего хозяина! Я у него нанял лошадей – так и езжу, куда мне угодно, на его лошадях в собственном экипаже. А ты не рассуждай: за это вашего брата, черного, необразованного мужика… Ну, пошел!
Карета двинулась по прежней дороге, а Залетаев, на минуту отрешившись от неприятной действительности, предположил, что он одержим слабостию здоровья и что все петербургские доктора, собравшись в консилиум, предписали ему, для сохранения драгоценных дней своих, отправиться в теплые южные край, на берега благословенной Гренландии или в какое-нибудь другое, совершенно теплое и безопасное место, и там, разумеется, нанять отличный сарай для своей кареты и запирать ее покрепче, потому что людей, жаждущих чужой собственности, всюду много, и его могут лишить кареты даже на берегах благословенной Гренландии.
Существенность, однако, заговорила в нем с такою силою, что он, оставив приятные мечтания о слабости своего здоровья, стал высматривать приличный отель, в котором бы можно было подкрепить свои изнуренные силы и в котором бы фигура его не была прежде, так сказать, заявлена. Потом он приказал кучеру остановиться и ждать его возвращения, а сам, пройдя несколько вперед, вступил в кондитерскую средней руки, не то чтоб он предпочитал ее трактиру, а потому, что в трактирах его уже знали в качестве известного владельца кареты, постоянно мелькающей пред глазами пешеходов Невского проспекта. В этой кондитерской он еще не бывал и не прославился, почему и рассчитывал, что тут никто не узнает известного Залетаева, разыгрывающего вот уже целую неделю роль тоже известного Монте-Кристо.
«А между тем, – думал он, – солнце сядет, и можно будет впотьмах, инкогнито, навести достоверную справку обо всем, что случилось в двое суток».
Ободрив себя этою мыслию, он углубился в дальнюю комнату кондитерской и потребовал, со всевозможною в его обстоятельствах развязностью, чашечку бульону.
В дальней комнате расположился он потому, что в ней никого не было; смежная с нею комната была наполнена посетителями, но, обозрев их проницательным и пугливым взглядом, он не нашел между ними ни одного знакомого лица. Только насупротив, через улицу, хитрая вывеска с изображением чайника, сухаря и сахарницы неприязненно смотрела на него и в то же время предательски приглашала зайти на минуточку покушать чайку… Но Залетаев знал, что в этом месте он уже успел заявить себя, разумеется, посредством бывшего человека, за нового графа Монте-Кристо – и что по этой причине он успел уже достаточно задолжать трактирщику, который узнал только адрес его, а денег не требовал, сказав, что, если угодно, и после пожалует к его сиятельству на квартиру…
Покидая все больше и больше прежнее свое «мстительное» направление, Залетаев вспомнил, что и там, в других местах, тоже посредством бывшего человека и настоящего адреса находил кредит, которого стоил бы даже действительный Монте-Кристо. Вообще он довольное количество долга напутал на свою шею; но самый страшный, неоплатный долг его составили визиты по адрес-календарю. Тут уже он решительно не знал, чем рассчитается…
В соседней комнате, между тем, поднялся такой шумный разговор, что он невольно услышал и узнал, о чем шло дело… разумеется, о нем же, о его карете и о том, кто такой он сам и что за вещь его карета. Страх приковал его к дивану, на котором он расположился выкушать свою чашечку бульону; он подумал было, что открыт, обнаружен, запрещен и пресечен со всех сторон, но, послушав дальше, с удовольствием убедился, что еще не вся беда обрушилась на его безрасчетную голову. Еще шел спор, были крайние недоразумения относительно того, кто именно путешествует таким странным образом; один голос утверждал, что это Карл Францевич, но не представил никаких доказательств тому, что это был действительно Карл Францевич; другой, посильнее, почти убедил всех, что не Карл Францевич, а господин Витушкин, тот самый, который бегает по кондитерским, по театрам, по улицам и всюду, где только можно встретиться с фортуной; третий, наконец, оспорив всех, убедил, что это не Карл Францевич и не господин Витушкин, а мещанин Отвагин, возвратившийся из-за тридевяти земель по миновании долгого времени, в течение которого он был забыт в Петербурге.
– А зачем же он ездил за границу? – спросили некоторые.
– Это, господа, – отвечал убедительный спорщик, – случай совершенно особый. Я готов даже рассказать его, чтоб убедить вас в том, что нынешняя знаменитая карета принадлежит ему.
– Хорошо, расскажите нам, что за человек этот ваш Отвагин.
Вслед за этим приглашением рассказчик начал историю, которая излагается здесь в приличной и возможной краткости и с совершенною точностью в отношении к факту.
Залетаев тоже осмелился узнать до конца, за кого это его принимают, и решился слушать.
VIII. Мещанин Отвагин
На Козьем болоте, у кухмистера и мещанина Степана Степановича, по прозванию господина Махаева, поселился когда-то жилец и мещанин Наум Иванович Отвагин. Он был еще молод, лет двадцати пяти, но уже успел пожить на свете, и даже в особом и весьма хорошем нумере на Невском проспекте. По наследству от покойного тятеньки он получил портрет Хозрев-мирзы, «Полный всеобщий стряпчий» и пустопорожнее место на Васильевском острове. Из Хозрева-мирзы и «Полного стряпчего» он не сделал полезного употребления, а место свое пустопорожнее продал и отлично прожил в особом нумере.
У господина Махаева нанял он комнату со столом и прислугою за сорок два рубли ассигнациями в месяц. Стол и прислуга в первые дни жительства его у господина Махаева были, в некотором смысле, удовлетворительны; потом, недели через две, стали менее удовлетворительны, а к концу месяца даже случалось, по каким-то финансовым и экономическим видам господина Махаева, решительное отсутствие стола и прислуги.
Злополучный Отвагин, с своей стороны, памятуя житейские удобства, окружавшие его в нумере на Невском проспекте, счел себя вправе протестовать против финансовых и экономических видов господина Махаева, со всевозможною, впрочем, вежливостию и без всякой лишней притязательности, а господин Махаев, который, наконец, успел совершенно разобрать и прочитать паспорт Отвагина, рассказал ему такую убедительную историю, что у него до этой самой поры жили всё люди хорошие, благородного и высокоблагородного звания, а в последнее время жил даже соляной пристав, приезжий из своего соляного места, да никто из них, из людей благородного и высокоблагородного звания, его стола и прислуги не порочил.
Выслушав эту историю, Отвагин решился было в ту же минуту выехать из квартиры господина Махаева и сосредоточился в самом себе (при этом случае он в первый раз сосредоточился), чтоб обдумать основательно, где бы такую найти квартиру, которая стоила бы не дороже сорока двух рублей ассигнациями в месяц и в которой бы не жили до него люди хорошего звания; но когда он обдумал все это основательно, оказалось, что квартиру с такими удобствами трудно найти в пределах шестой части света, следовательно, и не должно допускать себя до неисполнимых желаний, а, напротив, должно принять в соображение, что «Краткая российская азбука» недаром же испокон веку рекомендует человечеству терпение и смирение. Таким образом, он вполне удовлетворился бесцеремонным обхождением Степана Степановича Махаева и остался у него жильцом на многие годы.
Господин Махаев, простив своему жильцу господские притязания, продолжал держать его в ежовых рукавицах, чтоб он не забывался и памятовал свое темное звание. Жилец не роптал более ни на что, да и время для него наступило такое, что он и рад был заслужить у своего хозяина благосклонное мнение, по крайней мере своим совершеннейшим терпением, если не рангом и исправностию платы за квартиру.
Однако, несмотря на решительное стремление Отвагина к усовершенствованию самого себя в благонравии и воздержном житии, господин Махаев стал было поговаривать о том, что он сумел однажды в каком-то неприятном случае управиться с жильцом очень важным, чуть ли даже не с самим приезжим из своего места соляным приставом, вынул будто бы окна в его комнате в самую жестокую стужу и дело поставил на своем. Отвагин поспешил принять это обстоятельство в соображение, снес к одному благотворителю енотовую шубу на сохранение и удовлетворил претензию своего строгого хозяина. Потом он познакомился кое с кем. Они на первый случай дали ему адрес Анны Антоновны, живущей на Песках и промышляющей о пользе людей, не удрученных избытком благосостояния: Анна Антоновна брала будто бы не больше восьми процентов в месяц под залог хорошей вещи, золотой или серебряной, иногда принимала даже и рухлядь порядочную, которая имела цену по времени, например шубы и салопы в зимнее время были принимаемы ею без особого противодействия. Далее упомянутые господа, после взаимного угощения в трактире чаем, сообщили ему нечто о способах к существованию иного человека на петербургских улицах, что он и принял к сведению, с должною благодарностию к своим опытным знакомцам.
Тут вспомнил он о своих прежних сочувствователях, с которыми весьма приятно препровождал время в ресторанах Невского проспекта, и, абордировав у Доминика одного из них, самого пылкого и любезного, господина Пташкина, с совершенною откровенностию рассказал ему, какое именно время наступало для него и что бекеша с бобровым воротником отнесена к Анне Антоновне для сбережения в зимнее время от моли. Господин Пташкин вошел во все подробности его обстоятельств и вообще показался ему вновь отличным сочувствователем. Однако дальше не пошло дело между ними, и господин Пташкин, сладко улыбнувшись и подав ему для пожатия указательный палец, удалился от него с каким-то испугом, будто от кредитора.
Все эти встречи, старые и новые знакомства и в особенности постоянные попеканья со стороны господина Махаева стали, наконец, прояснять его понятия, развивать в нем способность к практической деятельности на песчаном поле, которое своенравная судьба отвела ему для жизни.
Таким образом, от простого заклада вещей у Анны Антоновны и расчета с господином Махаевым Отвагин перешел к другим операциям, более сложным и обширным. Случилось ему рекомендовать Анну Антоновну другим «неудрученным», с которыми сводил его случай, и даже людям временно несостоятельным, а впрочем, отличным и всякого уважения достойным людям. От них он даже воспользовался десятым процентом за комиссию. Далее, один степной мелкопоместный человек, который прибыл в Петербург тягаться с большим человеком и предполагал откочевать в свои родные степи в иохимовской карете, достиг в Петербурге такого благополучия, что переехал жить в гостинице на Невском, переехал на Козье болото к господину Махаеву и изъявил своему соседу Отвагину желание продать свою колымагу высокой чебоксарской работы и шубу сибирских медведей, потому, разумеется, и не иначе как потому, что для чего ему здесь, в Петербурге, медвежья шуба и чебоксарская колымага, и всего более потому, что каждый волен продать или подарить свою собственность по своему благоусмотрению. Отвагин, уже довольно навострившийся в оказании услуг ближнему, находящемуся в неудрученном положении, услужил и степному мелкопоместному человеку: сходил к некоторым известным ему с хорошей стороны промышленникам, прочитал в нескольких нумерах газет частные объявления и сбыл с рук шубу и колымагу за наличные рубли, как водится в таких случаях; только сам мелкопоместный, располагавший своею собственностию по своему благоусмотрению, благоусмотрел, что несравненно приятнее и пристойнее для него взять впридачу вместо одной сотни рублей какого-то непостижимо чудного бульдога недавно изобретенной американской породы. После этой операции мелкопоместный человек вдруг уехал куда-то в Чебоксары или в Элатьму на перекладных и увез с собою единственный результат своей тяжбы с большим человеком – американского бульдога, а Наум Отвагин по-прежнему остался у господина Махаева и возлюбил копейку, трудно добываемую.
Копейка, с своей стороны, лениво шла к Отвагину, вероятно помня неуважительное с нею обращение в былые дни благополучного жительства на Невском проспекте, в хорошем и дорогом нумере. Отвагин, совершенно запутавшись в своей практической деятельности, вовсе потерял голову, поглупел и обнищал до крайности.
А господину Махаеву до всего этого не было никакой надобности. Он знал, что всякий жилец – эгоист, любит покушать и пожить в особой комнате, а платить за квартиру не любит. По этой причине он не уставал допекать своего жильца рассказами о том, как он управился однажды с приезжим соляным приставом.
Наконец наступила для Отвагина пора совершенного безденежья. Правда, кое-где в темной будущности мелькали пред ним светлые призраки дел, мест, ваканций, но будущности-то и нельзя было ему дожидаться в добром здоровье. Господин Махаев допекал его все жарче и жарче; ему оставалось только повторять, что скоро, на этих днях или на следующей неделе, заплатит весь свой долг. Господин Махаев верил этому несколько раз, а потом уже и не поверил.
– Старая песня, сударь! – заметил он с горячностию и горечью. – Она уж мне надоела! Расплатитесь со мною сегодня, сейчас же! Вот у меня как, если уж так! – продолжал он со своею всегдашнею решительностию и энергиею.
– Я буду усердно стараться, Степан Степанович, – отвечал Отвагин плачевным голосом: – только вы уж сделайте одолжение, Степан Степанович, будьте снисходительны, дайте мне сколько-нибудь, хоть денька два…
– Ни одного! – воскликнул Степан Степанович запальчиво. – Ни одного часу я вам не дам: вот у меня как, если уж так! Важная, в самом деле, птица какая вы, сударь мой! Мещанин Отвагин! Гражданин вы этакий потомственный, почетный, да еще, может быть, чорт знает какой! Да со мной этаким манером не разделаешься! Я с вашим братом жильцом и барином всюду найду себе управу: на все такие дела у нас, слава богу, есть, сударь вы мой, кааантооора!!!
Произнеся убийственно-протяжно последнее слово «контора», господин Махаев не захотел произносить ничего более, и мещанин Отвагин, пораженный до глубины души решительным на его счет намерением своего хозяина, почти в беспамятстве бросился из своей квартиры и стал рыскать по всему столичному городу Санкт-Петербургу, чтобы достать денег для удовлетворения господина Махаева.
Но где достать деньгу в Петербурге? У Анны Антоновны, что на Лиговке, – без залога не дает; у господина Рябчикова, что в Мещанской, – без залога не дает; у Петра Ивановича, в Новой Саксонии, – то же; у тысячи и одного сочувствователя и трактирного приятеля – те не дают никоим образом, ни без залога, ни под залог, а говорят, что если как-нибудь достанешь, то не забудь, пожалуйста, поделиться со мною, а я уж тебе на будущей неделе… Бедный Отвагин!
Обегав все улицы и переулки, в которых жили надежные люди, дрожа от холода, изнемогая от голода и отчаяния, он сознался сам себе, уже вечером, что можно было предвидеть неудачу еще с утра и что нет никакой возможности разделаться скоро с господином Махаевым.
Господин Махаев этого и ожидал. Он знал всю историю Отвагина и был уверен, что не разделается с ним без решительных мер. Памятуя, какие важные люди у него живали, да и с теми умел он управиться, он решился, наконец, обойтись с своим жильцом из мещанского звания точно так же, как он обошелся когда-то, при одном подобном случае, с благородным соляным приставом. Он написал и подписал длинный счет, в начале которого сановито и солидно стояли единицы рублей, а дальше до конца рябили суммы плебейского характера – гривны и копейки. Итог этого счета составлял уважительную сумму рублей в сорок серебром, и под этим счетом размашистым почерком было написано: «ксему щоту кухмейстер Махаев сопственаручно руку прилож…», прочие буквы подразумевались в сложном ухарском крючке господина Махаева. С этим счетом господин Махаев отправился в квартиру Егора Козьмича младшего, обратился к г. Окуркину, его помощнику, и тот дал своему амфитриону дельные наставления о том, как ему дождаться Егора Козьмича, которые скоро возвратятся, как поднести на их благоусмотрение счет долгу мещанина Отвагина, и с обязательною подробностью внушил ему, что Егору Козьмичу надобно говорить о деле не этак, а так и так, чтоб Егор Козьмич теперь же отправили благонадежного и расторопного витязя за ответчиком мещанином Отвагиным.
Господин Махаев, выслушав наставление господина Окуркина, остался дожидаться прибытия Егора Козьмича и прождал его долго; но Егор Козьмич приехал как-то не в духе. По этой неприятной причине господин Махаев никак не мог отважиться поднести Егору Козьмичу свой счет и жалобу на мещанина Отвагина. Подумав, он решился обойтись покамест без пособия и заступничества Егора Козьмича и принять в отношении к виноватому жильцу некоторую домашнюю, так сказать, исправительную меру: выставить рамы из окна его нетопленной комнаты, дать грешному человеку день-другой срока на покаяние и посмотреть, что из этого выйдет.
Возвратясь домой с неудачею в попытке на уничтожение Отвагина посредством суда и расправы, господин Махаев немедленно приступил к исполнению своего второго плана: вынул из окна в его комнате обе рамы и оставил их тут же в комнате, на случай получения со стороны преступного жильца скорого удовлетворения. Ночь была темная, сырая. Дождь полосою лил даже в бедную комнату Отвагина. Самая пустота комнаты, в которой не было ничего, кроме железной кровати, старого стола и стула и дюжины пауков, свободно сновавших свою паутину, говорила как будто о крайней бедности обитателя этой комнаты. Господин Махаев даже совершенно знал об этой бедности, и на минуту жалость проникла в его сердце, так что он, по учинении своей экзекуции, стоя тут в углу с огарком сальной свечи, которая трещала от брызгов дождя, раздумывал что-то; но тут же кухарка, деревенская баба, проникнутая жалостью, заговорила, всплеснув руками:
– Ах ты боже мой, создатель! Да как же он тут, сердечный! Ну, как он, бедняжка… Ах, создатель!
Не понравилось господину Махаеву это постороннее участие, в котором он слышал упрек и осуждение своему хозяйскому распоряжению. Грубо толкнул он кухарку из комнаты Отвагина и вышел вслед за нею, приговаривая:
– Ты меня, глупая баба, не учи: я сам знаю, что такое, да мне-то что, глупая ты баба, деревенщина необразованная, необузданная!
Господин Махаев, прекратив таким образом сетования своей кухарки, отправился в свою опочивальню. Было довольно поздно, а Отвагин против своего обыкновения все еще не возвращался, что отчасти беспокоило господина Махаева, прерывало сон его тревожною мыслью: не наложил ли руки на себя несостоятельный и до крайности доведенный жилец? Не нырнул ли он в Мойку, по обычаю горюнов и темных людей? Не очень ли строго поступил с ним он сам, господин Махаев? Может быть, если б еще денек-другой потерпеть бедному человеку, то дело кончилось бы миролюбно, к удовольствию обеих сторон? А ну как в самом деле да пропал навеки мещанин Отвагин? Что тогда делать будет господин Махаев? Что скажут по этому случаю Егор Козьмич младший, Егор Козьмич старший и даже свой человек Мельхиседек Куприянович Окуркин?
Усталость и изнеможение, наконец, одолели господина Махаева. Мысли и заботы о жильце сменились обыкновенными его грезами: привиделись ему, будто наяву, все блюда, которые он стряпал в минувший день и замышлял на следующий, только и тут все представлялось ему в превратном, переваренном и пережаренном виде; даже такое сон его принял направление, что жарит он будто бы мещанина Отвагина на вертеле и рубит на порции, а тут будто бы, откуда ни возьмись, оба Егора Козьмича, старший и младший, и с ними свой человек Мельхиседек Куприянович, и стали чинить строжайшее изыскание: «А где, любезный, паспорт твоего жильца, мещанина Отвагина?» – «Вот он-с, налицо, как следует!» – «Хорошо! А где, любезнейший, твой жилец, мещанин Отвагин?» – «Вот он-с, на вертеле, как следует!» – «А! На вертеле, как следует! Ну, и это хорошо, хорошо! А знаешь ли, любезнейший, что Отвагин нынче не мещанин, а ванный пристав и, стало быть, вышел из низкого звания?» – «Не знаю-с, виноват!» – «А! Виноват! Хорошо! Гей, Квашня!»