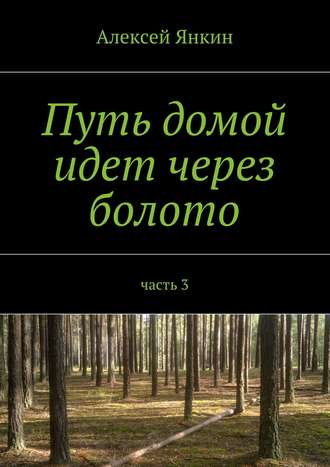
Полная версия
Путь домой идет через болото. часть 3
В левой стене, сразу за печью, скрипнула маленькая дверка. Из соседней комнатки, не вытерпев, выглянули две особы. Одна – молодая еще женщина, не больше двадцати пяти – двадцати семи лет, с очень грустными печальными глазами. У её ног, прижавшись к ней, серьезным взглядом смотрела на меня совсем крошечная девчушка лет семи, не больше. Обе одеты в самотканые некрашеные сарафаны с повязанными на головах из той же ткани платками. Встретившись со мной взглядами, особы попытались тут же нырнуть обратно, но Матвей остановил их жестом руки.
– Это Аленушка, внучка моя, – голос старика мягок и ласков, – И Настюша, – добавил после небольшой заминки, сглотнув комок, подкативший к горлу, – Вдова сына мово, Николки.
Глава 6
154
Как поведал старый Матвей, вернувшись с Совета, решено крестить меня в правильную веру и оставить в скиту. Моим согласием ни в первом, ни во втором случае никто, даже сам Матвей, поинтересоваться не посчитали нужным. Поначалу это меня не то что бы оскорбило или шокировало, скорее удивило. Как так? Неужели им безразлично по свободному ли выбору, с желанием ли человек вливается в их общину? Однако, поразмыслив, сложив в голове то, что успел увидеть и услышать, понял, что меня отнюдь никто обидеть не хотел. Напротив. Эта небольшая община уверена, что именно она только и живёт по правильным заветам и истинному установлению создателя. А там, в том, далеком и чуждом для них мире все погрязли в ереси и блуде. Почему так? Они не знали сами. Так всегда говорил Старец, так говорили их отцы и деды. Кстати ни понятия «староверы», «старообрядцы», «двоедане», «раскол», ни кто такой Никон они не ведали. Вернее не помнили. Попросту знали, что избраны хранить истинную веру, которая в миру давно искажена, а значит быть «Верой» перестала. Себя же считали не какими то «настоящими» христианами, но просто – христианами. Даже слово «православные» я за все время услышал лишь раз или два ибо они не различали понятия «православный» и «христианин», так как ты был либо «христианином», либо им не был. Все прочие вне стен скита считались мирскими. Само слово «мирской», «мирянин» произносилось с несказанным презрением и брезгливостью. Отдать дочь за мирянина, либо женится на женщине мирянке – большой грех, потеря чистоты, да и попросту вещь совершенно невозможная. С мирским не то что есть или пить из одной посуды, находиться в одном помещении – грех. Вообще каждый в общине имел свою особую посуду из которой только и ел. Если же кто вынужден был воспользоваться чужой, её после этого тщательно мыли, читая молитву, и несколько дней потом к ней не прикасались. Если же к посуде притронулся мирянин, посуду выкидывали подальше за околицу, а то и сжигали за пределами скита (но ни в коем случае не в печи!). Как я узнал впоследствии, с моей посудой, что я пользовался до крещения, хозяева в тайне от меня поступали так же.
И только они, «христяне», да их единоверцы из других известных им скитов истинно спасутся и получат вечное блаженство после воскрешения. Само общение с грешниками, слугами антихристовыми является большим грехом, требующим многочасового замаливания. Даже на встречу с мирянами с целью обменять шкурки послы получают соответствующее дозволение Старца и напутствие, какие молитвы следует читать до, какие после общения с «богохулителями» и «отступниками». На самом деле это не одно и тоже. Если первые изначально считались врагами веры христианской, то вторые, по малодушию своему, предались им, отступившись от веры истинной к мракобесию Антихристову. Первых следовало опасаться и ненавидеть, вторых дозволено жалеть и молиться за грешные души их. Моим непонятным, неустановленным статусом, а не только тем, что я просто чужак, и объясняется неподдельный страх местных предо мной. Поэтому, как все считали, община оказывает мне безмерную честь, согласившись принять в свои ряды. Основной спор на совете, по словам Матвея, велся о том, чего во мне больше, благости или греха. Перевешивало ли то, что я спас Силантия, то, что он по моей же вине чуть не погиб? К моему удивлению чашу весов в мою пользу склонил Архип. Он напомнил старикам, что я был схвачен против своей воли, а посему имел полное право, пока не знал кто они, пытаться вернуть себе свободу. Архип признал, что вина в том лежит и на нем, ибо это он вовремя не растолковал чужаку кто они. А в том, что я сам вышел к ним, виден промысел божий. Все согласились с этим. Старец вынес решение: коли я буду крещен в веру истинную, то так тому и быть – я стану одним из них. Заодно наложил епитимью на Архипа за признанный им проступок, посчитав, что большим грехом то с его стороны не является. Казалось хозяин несказанно рад тому, что все так хорошо обернулось. Особенно он остался доволен тем, что жить мне определено у него. Во всяком случае до тех пор, пока я не женюсь и не справлю свою избу.
Остаток вечера Матвей учил меня, какие мне станут задаваться вопросы на таинстве крещения и как следует на них отвечать. Как правильно креститься. Как, когда и сколько следует класть поклонов. «Никогда не клади поклон, как осеняешь себя крестным знаменьем, – наставлял старик, – Перекрестился, только затем кланяйся. Ибо в противном грех велик. Нельзя крест к земле гнуть. То понятно?». Разъяснял, пред какой иконой какие слова говорить. И, главное, о чем ни в коем случае нельзя упоминать.
Даже домашние деда, после принятого решения, облегченно, казалось, вздохнули и заметно изменили ко мне отношение. Теперь я хоть и не свой, но уже не чужак, за общение с которым последует строгое наказание. Аленка вприпрыжку бегала по избе, сначала робко, а затем все беззаботнее и радостнее. Временами она лишь, словно опомнившись, замирала и с опаской поглядывала на меня. Но через минуту вновь игралась как котенок. Даже молодая вдова, скромно опустив глаза долу, вышла из своей комнатушки и принялась хлопотать по хозяйству.
155
Рано поутру, до рассвета, Матвей поднял меня. У избы Старца собралось человек пятнадцать. Как я понял – все взрослое дееспособное мужское население скита. Вскоре вышел и сам патриарх. Он был бос и одет лишь в длинную не подпоясанную домотканую рубаху и такой же ткани штаны. Молчаливая процессия двинулась к реке, вдоль берега которой спустилась несколько ниже по течению, к небольшому заливу, метрах в пятистах от скита. Старец завел меня по пояс в воду и велел скинуть всю одежду, бывшую на мне и бросить её в воду. Затем, положив правую руку мне на голову и вполголоса читая молитву, принудил окунуться с головой. Едва я вынырнул, спросил: «Веруешь ли в отца нашего всемогущего?», Я отвечал «Верую». Он тут же второй раз погрузил меня в воду, а затем в третий. И каждый раз задавал тот же вопрос. И каждый раз я отвечал – «верую». Как ни был я взволнован происходящим, однако заметил, что Старец говорит только об Отце, Творце сущего, но не упоминает ни Исуса, ни Духа Святого. Что это – отрицание триединой сущности Создателя, принятой в большинстве христианских течений или просто сложившаяся в общине традиция?
После того, как я в третий раз ответил «верую», мне поднесли совершенно новую длинную, домотканого полотна рубаху, которую я одел прямо в воде, после чего только смог выйти. Подол рубахи спускался чуть не до колен, потому отсутствие штанов на мне не смущало ни меня, ни прочих свидетелей таинства. Меня заставили встать на колени и, читая молитвы, один из стариков остро отточенным ножом коротко пообрезал мою бороду и волосы (тут я, честно говоря, искренне возрадовался, что попал не в общину иудеев и отделался лишь потерей волос). Старец надел мне на шею простенький медный крестик без всяких рисунков и надписей. Со мной по очереди обнялись все присутствующие и двукратно расцеловали в обе щеки, приговаривая «приветствую тя, брат». Я отвечал тем же. Одежду мою, меж тем, выловили длинной палкой из воды, не позволяя коснуться берега, и бросили в разведенный специально для этого костер. Туда же последовали волосы. Пока костер догорал, уничтожая следы мирского, все, вслед за Старцем, читали молитвы и вдохновенно спели несколько псалмов. Затем пепел развеяли над рекой, а кострище забросано песком. Никакого следа от моей мирской одежды не должно осталось и в помине.
В конце церемонии мне презентовали порты – свободные штаны из некрашеной ткани, кожаные сапоги с «поддевками» (портянками) и пояс – все это символизировало то, что теперь я не только крещеный единоверец прочим, но и признан взрослым, полноправным членом общины. В ходе церемонии я как бы прошел символический путь от рождения до зрелости. Никаких крестных отцов или матерей не предусматривалось.
По возвращению в скит мы обнаружили на центральной площади два составленных встык длинных стола. На столах стояло лишь несколько больших мисок (похожих скорее на тазы), полных дымящейся каши. Возвышался горкой ломанный толстыми ломтями черный хлеб. Стояли крынки с чистой водой. Во-главе стола сел Старец. По правую руку от него, по мере убывания старшинства, старики. По левую – взрослые мужчины. Я был посажен в самом их завершении, в отдалении от Старца, так как, несмотря на то, что и стал виновником торжества, но считался младшим из взрослых членов общины, еще не доказавшим ей своей полезности. Ни вилок, ни ложек, ни ножей на столе не заметно.
Женщины еще суетились, разнося хлеб. Лишь когда расселись все мужчины, они так же разместились вокруг отдельно стоящих невдалеке столов. Там же расселись и дети обоего пола лет до пятнадцати – шестнадцати. Старец, терпеливо выждав, когда женско-детский стол угомонится, встал и возвестил примолкшим враз соплеменникам, что теперь у них де есть новый брат, который впервые сегодня преломит с ними хлеб и испьёт воды. После все помолились вполголоса, склонившись каждый над лежащим пред ним ломтем ржаного хлеба, и согласно приступили к праздничной трапезе. Я отметил, что каждый из пирующих (даже самые маленькие детишки) достал, кто откуда, свою персональную деревянную ложку и кружку и принялся есть кашу из одной из общих мисок, что была ближе к нему. Зачерпнув полную ложку горячей каши, едок нёс её к себе, удерживая над куском хлеба в другой руке. Если хоть кусочек пищи упадет на стол – очень плохая примета. И для самого ротозея и для его сокашников. Придется замаливать, причем всем, находившимся за одним столом. Действительно, сколь бы много каши не оказывалось на ложке, я ни разу не видел, что бы хоть часть из неё свалилась мимо куска хлеба на доски стола.
Ложку с кашей не засовывали в рот, а снимали с неё пищу в несколько приемов. Предо мной так же была поставлена берестяная кружка и деревянная простенькая ложка, которым предстояло стать моими личными предметами, пока я не посчитаю необходимым обзавестись другими. Теперь даже в гости я должен являться только со своим инструментом, иначе мог остаться голодным. Ни в коем случае нельзя пользоваться чужой посудой. Это не то что бы грех – просто так принято.
В ходе трапезы я имел возможность рассмотреть практически всех обитателей скита, за отсутствием Силантия, да может еще двух – трех больных и совсем немощных стариков. Даже младенцы присутствовали за столом на руках своих матерей. Общей трапезе, очевидно, придавалось большое символическое значение. Преломив совместно хлеб, отведав каши из общих блюд, люди чувствовали свое единство и сопричастность к чему-то общему, сакральному. Оказалось, что всего в общине, семнадцать взрослых мужчин, из которых пятерых можно было отнести к категории стариков. Взрослых женщин около двух десятков, да несколько молодых незамужних девушек, отличавшихся более пестрыми сарафанами да по иному повязанными платками. Четверо парней, явно уже вышедших из детского возраста, но еще не принятых во взрослое состояние, держались особнячком. Детишек всех возрастов набралось не меньше десятка. Их трудно было пересчитать, так как усидеть на месте большинство из них никак не могло и постоянно крутилось вокруг вперемешку с возбужденными собаками.
156
С этого дня я мог свободно перемещаться по поселку куда мне вздумается, однако ж, как я вскоре понял, за мной втихую все равно кто либо да приглядывал. Стоило лишь ступить за околицу, как какой либо из моих новоиспеченных «братьев» тут же навязывался мне в попутчики и, между прочим, принимался вежливо, но настойчиво отговаривать от того, чтоб отходить от скита дальше пары сотен шагов. «Да мы и сами туды ни ходим, – канючил мой сопровождающий, – Мало ли чо случится-то. Опасно-ть одному. Давай лучшо по другому разу, как охотники пойдут, такмо и мы с ними». Я понимал, что это, фактически, не просто пожелание, а приказ Старца, передаваемый мне в вежливой, но вполне определенной форме.
Первое время проведать меня заходил Архип, окидывая единым цепким взглядом всё в избе. Но каждый раз натыкался на насмешливое радушие Матвея и, потоптавшись, быстренько сворачивал свой визит. Очевидно ему велено осуществлять за мной общий надзор. Судя по всему Старец не до конца доверял моему хозяину. Как то Матвей, после очередного незапланированного визита Архипа, бросил:
– Душа то у Архипа незлоблива. Только заморожена отцом его.
– А кто его отец?
– Так Лексей и есть. Его да Федора.
– А Силантий? Архип говорил, что Силантий то же его брат.
– Силантий то? – Матвей замялся, – У Силантия мать друга. Безбрачны они были. Грех то был Лексеев. Потому недолюбливает он Силантия, ибо напоминает ему о том, даже слова не молвя. Силантию в детстве нелегко сталось. Токма ни едина слова упрека отцу никогда не сказывал. Лексей же к своему сыну хуже, чем к соседскому чаду относился. Говаривали, что мать Силантия через то и рано в могилу сошла. От слез своих да от стыда. Кто её с безмужним дитём возьмёт? Но бабой была хорошей, скромной, да вот на грех свой полюбила не того, кого следоват. Всё молилась. Не свою – свово сыночка душеньку отмаливала. За него, да за отца его беспутного молилась.
Мы помолчали. Качая головой, я спросил:
– Что ж она нашла в Старце.
– Так не был он о ту пору еще Старцем. Да и по молодости хорош собой был Лексей, тут уж ничего не скажешь. И охотник знатный. И на речи гладкий. Всем очи застил. Я-то знал его с младенчества. Приятельствовали даже. В разных передрягах побывали вместе. И, пожалуй, я, да Старец, что был допреж его, знали, что душа у Лексея с червоточинкой. Он, отходя лет десять тому, завещал старикам ни в кой не выбирать взамен него Лексея. Токмо Лексей всех опутал лестью своей. Он то умет. – Матвей махнул рукой, – А что там промеж него да Ефросиньи сталось? Как оно так сладилось? По добру ли? Да Господь ему судья. Боженько всем раздаст по заслугам их. От него не скрош ничего.
Так мои догадки насчет того, что в скиту нет уж того единомыслия, как казалось поначалу, подтвердились. Жизнь внутри общины имела много подводных течений. Имевшиеся конфликтные точки подспудно тлели и ждали лишь повода для того, чтобы вырваться наружу, вспыхнув пожаром. И лишь незаурядный политический талант Старца гасил назревавшие конфликты. Мне кажется, Матвей признавал талант друга юности и был ему даже благодарен за спокойствие в скиту. Он, как человек мудрый, понимал, что мир в общине гораздо дороже, чем чьи либо амбиции. Стоит лишь разгореться конфликту по самому пустячному поводу, как с единством, а значит с относительным благополучием общины будет покончено.
157
В скиту я занимался тем, чем скажет Матвей. Что-то починить, что-то унести, за чем-то сходить. Так как вскоре выяснилось, что у меня имеются определенные столярные способности, я стал помогать ему в изготовлении столов, лавок, полок. Это оказалось основным занятием старика. Кроме того в поселке имелся и свой гончар, который обеспечивал соплеменников крынками, тарелками, кувшинами и прочей керамикой. Женщины занимались прядением нити изо льна, крапивы, конопли, козьего пуха. Ткали на небольших домашних станочках полуметровые полоски ткани, из которых уже шилась одежда, вещмешки, одеяла, наволочки и прочее.
Не раз я слышал, как жаркую летнюю тишину вдруг раскалывал непонятный перезвон – цок-цок-бамм, цок-цок-бамм. Краткий перерыв, и сного цок-цок-бамм, цок-цок-бамм. Первый раз, услышав эти звуки, я в недоумении закрутил головой, выискивая их источник. Вскоре до меня дошло – это местный кузнец Трефилий приступил к своим обязанностям. Судя по недолго продолжающимся звукам – правит какой либо хозяйственный инструмент. Сам я в кузне до сей поры ни разу не был, но знал о ней со слов Митяя, который по благословению Старца подвизался там (без особого энтузиазма) молотобойцем. Надо будет познакомиться с Трефилием Киприянычем (его чуть ли не единственного в скиту даже за глаза величали по имени-отчеству). Навыки по работе с раскаленным металлом мне пригодятся. Меня больше интересовал даже не сам процесс ковки, а закалки и последующего отпуска металла.
Почти у каждой избы небольшой пристрой, в котором содержатся коровы, козы и куры. Иной живности, не считая своры добродушных, но вечно голодных псов, я не видел. Пасли двух первых в основном подростки, в помощь которым отряжалось несколько пацанов помладше. Девочки лет с пяти помогали матерям по дому. Кроме того, как я узнал несколько позднее, у общины имеется огород, несколько полей и даже небольшой сад. В поле, в километре от скита на одной из расширенных искусственно полян, росла рожь, лен, конопля, неплохой картофель. В огороде выращивали репу, свеклу, капусту, огурцы, лук, петрушку, еще что-то. Причем за тем, чтобы овощи не вырождались, строго следила пара старух: крикливая Прасковья да подслеповатая Марфа. Они из каждого урожая на семена тщательно отбирали наиболее крепкие и здоровые экземпляры. Причем полномочиями были наделены весьма широкими и без их согласия никто не мог, даже на своем участке, ни начать сев или посадку, ни приступить к сбору урожая. Прежде чем убрать урожай в закрома его в обязательном порядке предъявляли этим эмпирическим агрономшам. Под их руководством весьма успешно осуществлялась и подкормка земли поставляемым скотом удобрением.
В саду поселян, раскинувшемся сразу за околицей вдоль берега реки, имелось восемь прекрасных стелющихся, не боящихся местных зим яблонь и особо любимых детворой груш, десятка три кустов малины, примерно столько же черной смородины. Кажется даже две айвы.
В реке, которая называлась почему то Гремушкой, хотя представлялась вполне равнинной и тихой, во множестве водились караси, окуни, ерши, щуки, язи, лещи и чебаки. Их добыча являлась прямой обязанностью детишек, подчинявшихся одному из стариков, распоряжавшихся снастями и уловом. Вообще охота, работа на полях, огородах и в саду была общей заботой жителей, так же как поступал в общие закрома весь урожай и добыча. Домашний же скот был в распоряжении той семьи, которая его содержала. Даже сено на зиму заготавливалось каждой семьей особо на отведенном для нее лугу. Каждый год эти луга перераспределялись, дабы избежать взаимных обид и обвинений. Очевидно, что споры на этой почве случались. Особо желанными считались окруженные березнячками, ивовыми зарослями да кустами черемухи и рябины заливные луга в неширокой речной пойме Гремушки, а так же у одного из низовых озер с болотистыми, топкими по весне берегами. Все это я частично узнал сам, частично мне рассказывал во время работы Матвей – человек по житейски мудрый и очень словоохотливы. Он рад новому слушателю, готовому внимать всему, так как не знал абсолютно ничего. Меня можно удивить, казалось бы, элементарной для жителя скита информацией.
Интересное положение отводилось в общине женщинам. Они не были бесправными или забитыми, как мне показалось поначалу. Напротив – занимали вполне значимое место в скиту. Старухи, так же как и старики, имели право участвовать в собраниях, касавшихся общих вопросов и могли даже наложить вето на решение старейшин.
В семье, в отсутствии посторонних, женщины всегда ели за одним столом с мужчинами, в присутствии же гостей все женщины и девочки устраивались отдельно, за маленьким рабочим столиком, так и звавшимся – «бабий кут». Но и в этом случае женщины не упускали случая вклиниться в разговор мужчин за соседним столом и дать непрошенный теми дельный совет, либо сделать заслуженный, по их мнению, выговор. Мужики воспринимали это как должное. Вообще никакого покровительственного или презрительного отношения со стороны мужчин к женщинам я ни разу не наблюдал. Напротив, слово женщины всегда весомо и, чуть ли, не решающе. Просто у тех и других свой круг обязанностей, которым они и посвящали своё время. Мужчина не мог даже коснуться кухонной утвари или какой-либо прялки. Еду в доме подавала исключительно женщина. Даже что бы испить воды, мужчине приходилось обращался к женщине, пусть это была всего лишь его четырехлетняя дочь. Только женщина могла зачерпнуть кружкой из общей емкости воды и подать ему. Но мужики научились обходить хотя бы эту преграду, таская с собой привязанными к поясу небольшие берестяные кружечки, которыми зачерпывали воду из специального ведерка с водой, стоящего снаружи у самого порога и прикрытого каким либо кожушком. Это ведерко так и звалось – «мужицким» и служило предметом постоянных шуточек со стороны женщин. Вместе с тем женщины не должны прикасаться к орудиям труда, охоты и лова, которые хранились при доме. Что интересно, женщине вполне дозволялось участвовать в охоте по желанию, но и в этом разе она получала оружие только из рук мужчины уже вне стен избы. Сама же не могла взять его, пусть даже для этого его надо бы просто снять с крючка на стене.
Вне дома и в присутствии постороннего все женщины и молодые девушки обязательно повязывали голову платком. Способ повязывания различался у юных девушек, молодых бездетных женщин, многодетных замужних дам и вдов. Вдове, особенно молодой, в принципе не возбранялось повторно выйти замуж, но как-то это не особо приветствовалось. Жить она оставалась с родителями мужа, коли они еще оказывались живы. Но вольна была и уйти к своим родителям, если те примут её. Очевидно такое желание выказывалось с их стороны не всегда, чему не в малой степени способствовали взрослые братья вдовы, претендующие на наследство предков. Женщина же своей доли в наследстве не имела, так как считалось, что она уже получила свою часть в виде приданного. Вообще участь вдовы не очень весела. Она как бы выпадала из жизни общины. Ни кто ни в чем её не обвинял, но всяк признавал её дальнейшую бесполезность.
Иное дело – вдова преклонного возраста, заслужившая уже авторитет своими способностями и имевшая поддержку со стороны взрослых детей.
Во время общих воскресных молений в избе Старца все мужчины стояли справа, у окон, женщины слева, а детишки спереди, пред всеми. Немощные и больные сидели на лавках у соответствующей своему полу стене. Отдельно, по субботам, Старец собирал детишек лет до одиннадцати у себя в избе и читал им древнюю, чудом сохранившуюся библию в толстом кожаном переплете с полустертым тиснением. Иных книг, даже богослужебных, старец не признавал. Учить детей читать он так же не считал нужным. Этим могли заняться родители в семье, если пожелают тратить на то время и сами обучены грамоте. Вообще излишнее любопытство в отношении того, что не касалось ведения хозяйства или охоты патриарх не поощрял и пресекал тот час же. Правда я об этом узнал много позже, иначе возможно избежал бы многих неприятностей.
Религиозные воззрения в общине, за неимением постоянного общения с единоверцами, превратились в нечто максимально упрощенное. Были отвергнуты все противоречивые, на взгляд Старца и его предшественников, моменты в Писании. Всё что могло вызвать ненужные вопросы и малейшие споры отброшено. Двусмысленность изгнана. Всё должно быть ясно и определенно. Из всех таинств в службе остались лишь крещение, исповедь да отпевание усопшего. Исповедовал раз в месяц все население скита не только Старец, но и одна пожилая дама, избранная всей общиной Наставницей. Вообще роль Наставницы хоть и не явная, но очень значительная. Она занималась всеми вопросами брака, рождения и смерти. Её решение по этим вопросам не мог оспорить даже Старец. И только сама Наставница определяла время, когда ей следует просить общину о замене. При этом она не могла влиять на выборы новой Наставницы, высказывая мнение о той или иной кандидатуре. Старец же исполнял свою роль пожизненно, даже если лежал уже недвижим от хворей. Его мнение при избрании по его смерти нового Старца напротив, учитывалось, но было не обязательно.
Вместе с тем в быту вполне уживались всяческого рода суеверия и страхи перед неизвестным. Различного рода духи, как то домовые, таежные, болотные, речные, овинные, луговые, огородные и множество – множество прочих, о которых в современных селах уж и не помнят давно, почитались без рассуждений и им старались не перечить. Из особо неприятных и мстительных самым зловредным считался подпенёчный дух. Но не каждого пенька, а того только, что остался от срубленного топором дерева. Он затаил обиду на человека за отнятый у него дом и пониженный потому статус и при каждом удобном случае старался нагадить позлее. Всё злое и необъяснимое, что случалось с человеком в тайге, приписывалось большей частью Подпенёчнику. Если неприятности в этом месте повторялись, стоило найти пень и задобрить его, посадив рядом росточек такого же дерева. Дух переселится в него и, обретя утраченный дом, успокоится.




