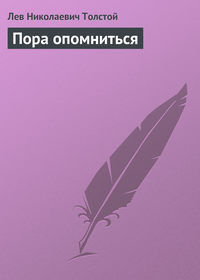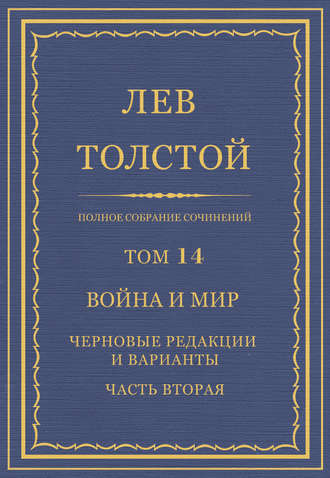 полная версия
полная версияПолное собрание сочинений. Том 14. Война и мир. Черновые редакции и варианты. Часть вторая
Вернувшись домой после своей встречи с Наташей, Пьер лег за перегородкой на приготовленную для него короткую кровать, покрытую из кусочков собранным одеялом, и, не отвечая на слова Аксиньи Ларивоновны и ее мужа, отказываясь от чая и не раздеваясь, лежал так до тех пор, пока в доме всё затихло. В середине ночи он встал, снял со стены пистолет, принесенный из его дома Аксиньей Ларивоновной, зарядил его и потихоньку вышел на двор. Ходя в темноте по двору, он несколько раз останавливался и прицеливался в невидимого врага, произнося неясные французские слова, или останавливался в покорной позе и грустно шептал что-то. Невидимый враг был Наполеон, которого Пьер намеревался убить, встретив его на улицах Москвы, и произносимые слова была та речь, которую он скажет при этом окружающим, покорная поза и грустный шопот выражали ту минуту, когда Пьера схватят и поведут расстреливать, как схватили и расстреляли того немецкого студента, который хотел также убить Наполеона.
Иногда Пьеру приходила в голову мысль, что ежели бы он хотел, он мог бы теперь ехать вместе с Ростовыми в Ярославль, быть вместе с Наташей или остаться в Москве здесь с нею (как она шутя сказала это). Но как только мысль эта приходила ему, так он[1701] поспешно обращался воображением к своему намерению убийства. «Я не поехал с ними и остался здесь, – говорил он себе, – и потому мое пребывание здесь не может остаться без значительных последствий. Я должен совершить что-нибудь великое. И это великое есть убийство злодея. 666, l’empereur Napoleon предел 42 и russe Besuhof».[1702]
[1703]На другой день, 1 сентября, Пьер проснулся, когда уже французы вступали в город. Слышны уже были выстрелы в Кремле, и ходившие смотреть домашние и соседи рассказывали, что французов видимо-невидимо вошло[1704] в город[1705] в Драгомиловскую, Пресненскую и Тверскую заставы.[1706]
В том квартале, в котором был дом Аксиньи Ларивоновны, до вечера 1 сентября не видно было ни одного француза. Как ни свободно всачивалась вода французского войска в огромную губку пустой Москвы, Москва была так велика, что от центра Кремля только ввечеру стали достигать расплывающиеся звездой французские солдаты до оконечностей Пресни.[1707]
Не отвечая ни слова на рассказы и расспросы домашних, Пьер оделся и вышел на крыльцо.
– Куда, ваше сиятельство? – спросила у него Аксюша, с засученными худыми руками, вышедшая из кухни провожать его.
– Мне надо. Прощай, Аксюша, – сказал Пьер невольно торжественным тоном.
– Что же мне делать-то, – сказала Аксюша, – коли придут? Я думаю, пустить лучше. Мавра ходила к Филипповне, сказывала, зашли трое в дом, избили старуху, чуть жива, всё унесли и корову угнали.
– Босые, веревочками подпоясаны, а с ружьями, – подтвердила высунувшаяся из двери кухарка. – Русь, русь, говорят на меня-то. Я как вдарюсь бежать.
– Что же, ведь это – беда, – сказала Аксюша.
– Ничего, – отвечал Пьер невольно тем тоном, которым говорит человек о тех беспорядках, которые он намерен прекратить. – Ничего, пройдет. Прощай, Аксюша.
И Пьер сошел с крыльца и быстрыми шагами пошел по улице.
Выйдя из вида дома Аксюши, Пьер остановился. Ужасное намерение, твердо взятое им, – убить человека – со всей ясностью действительности представилось ему. Он постоял, подумал. «Не только одного его, но всех убить имею право и должен», сказал он себе и пошел дальше. На улицах было пусто. Пьер шел по направлению к Тверскому бульвару. Выйдя на бульвар, навстречу ему показалась кавалерийская колонна французов. Пьер поспешно перешел на ту сторону, по которой шла колонна. Веселые, самодовольные, несомненно радостные лица французов неожиданно поразили Пьера. И их было так много, и все они так были уверены, что было хорошо то, что они делали, что Пьер почувствовал сомнение в справедливости замышляемого им. «Нет, всё равно, я решился», подумал он, и, быстро подвигаясь вперед к начальнику, ехавшему впереди, Пьер стал искать под кафтаном рукою пистолет. Но тут только он заметил, что пистолет-то он и забыл взять с собою в то время, как пошел убить Наполеона. Пьер[1708] повернулся и почти бегом побежал домой.
* № 212 (рук. № 95. T. III, ч. 3, гл. XXIII).[1709]
У угла[1710] Маросейки, против большого с закрытыми ставнями дома, на котором была вывеска сапожного мастера,[1711] стояло человек 10 сапожников, худых, истощенных людей в халатах и чуйках. Около сапожников собралось несколько разного пола и сословия людей, прислушивающихся к тому, что говорили сапожники.
– Он народ разочти, как следует, – говорил[1712] широкоплечий, желтый и худой[1713] мастеровой с редкой бородой и нахмуренными бровями. А[1714] что ж он нашу кровь сосал, да и квит? Нет, брат. Он нас водил, водил всю неделю. А теперь довел[1715] до конца до последнего, а сам уехал. Нет, ты расчет подай, а то мы с тобой, брат, поправимся.
– То хозяйское дело, хозяйское дело, – отвечал человек в кафтане, вероятно дворник, к которому обращался сапожник.[1716] Видно было, что[1717] этот дворник уже давно всё повторял одни и те же слова.
Толпа фабричных,[1718] окружающая целовальника, приостановилась. Целовальник,[1719] воспользовавшись тем, что....[1720] вернулся назад к своему кабаку, высокий малый[1721] продвинулся к говорившему сапожнику.
– Эх, ворона! – крикнул он на человека в кафтане, поднимая свою оголенную руку и продолжая выводить ею такт какой-то, вероятно, всё еще слушаемой им разгульной песни.[1722] – Он покажи закон, порядок покажи, на то начальства постановлена. Так ли я говорю, православные? Эх, ребята![1723] – певучим голосом вскрикивал он, всё разводя рукой и чуть заметно[1724] улыбаясь.
– Он думает, начальства нет! Разве без начальства можно? А то грабить-то их мало ли их, – одобрительно заговорили в толпе. – Он придет, либо нет, а свое дело знай. Начальник всему делу голова. Хранцуз… Эх, народ!.. Ни к чему говоришь. А, значит, я, говорит, никого не боюсь… Так его и пустили. Войсков мало, что ли, у нас…[1725]
К образовавшейся[1726] кучке людей с разных сторон подходили[1727] люди,[1728] и толпа увеличивалась.
* № 213 (рук. № 95. T. III, ч. 3, гл. XXIII).[1729]
[1730]Каждый человек из этой[1731] толпы не знал того, зачем собрался[1732] и стоит тут народ, но каждый думал, что ежели он не знает этого, то это знают другие и точно так же, глядя на него, предполагая в нем это знание, думали другие. Толпа нажималась беспрестанно то в ту, то в другую сторону на те пункты, где кто-нибудь начинал говорить или кричать, надеясь найти выражение занимавших каждого мыслей.[1733]
В Ильинских воротах послышались громкие крики, и несколько человек мужиков вышли оттуда с ружьями и копьями, которые они несли на своих плечах. Мальчишки и бабы бежали за ними. Большая толпа двинулась навстречу этим людям, и эти люди, большей частью поденные рабочие, направились к толпе и тотчас же сошлись с нею.
Мужики эти рассказывали, что раздают ружья народу, что войска ушли в обход, что сперва англичане идут, что француз на горе стоит и что под него народ собирают.
К одной стороне толпы к человеку в фризовой шинели, державшему бумагу, жалось[1734] большинство людей.
– Указ читают, указ читают, – говорили в народе.
Это читали афишу от 31 августа (стр. 177 и 178).[1735]
Никто, даже сам чтец, решительно не понимал смысла читаемого, но во всех людях, разливаясь волною по толпе, одинаково выражалось беспокойное чувство того, что что-то совершается необычайное, и радостное чувство того, что[1736] начальство есть и озабочено всеми ими.
№ 214 (рук. 94. T. III, ч. 3, гл. XXV?).[1737]
другой имел странное лицо и был в странном одеянии. На нем был больничный халат и колпак.
– Где граф? Мне нужно графа, нужно скорее: жизнь челоческая и душа человеческая зависит от этого. Где граф, – спрашивал, беспокойно поводя черными, как уголь, с опущенными зрачками глазами, человек в бобровом картузе, знакомый Евстафьичу. И еще не успел Евстафьич ответить, как человек в картузе продолжал:[1738]
– Я иду по улице и вижу Никанора Верещагина, ведомого на казнь. Он сказал мне: граф один спасет меня, беги к нему, и я нашел дом его. Где он? Где спаситель его?
– Да нету графа, я сам второй день ищу, – отвечал Евстафьич. – Да вы сами, Иван Макарыч, откуда и с кем? – прибавил Евстафьич, недоверчиво оглядывая товарища Ивана Макарыча и самого Ивана Макарыча, которого он знал прежде молодым студентом, хаживавшим вместе с другими студентами иногда к графу. Тогда он бывал одет чисто и аккуратно и держал себя скромно и робко, теперь на нем был старый серый сюртук, подштанники и прорванные сапоги с нечищенными красными голенищами. Лицо его теперь было худо, обросшее неровными клочками бороды, и желто. Черные, агатовые зрачки его бегали тревожно и низко по шафранно-желтым белкам. Говорил он не громко, так, как будто он не заботился о том, чтобы его слышали другие, а говорил только для того, чтобы говорить и самому себя слышать. Во всё время своего разговора на лице его не только ни разу не мелькнуло ничего похожего на улыбку, но очевидно было, что лицо это утратило уже возможность улыбающегося выражения. Непрестанное выражение его лица было выражение строгого осуждения.[1739]
– Откуда я? Я из желтого дома, из дома сумашедших, где по злобе и коварству людскому я содержался до сего времени. Нынешнего числа выпустили нас, и умных, и безумных (вот он – безумен, но кроток и не опасен), – он указал на товарища. – Меня выпустили, и я пошел к другу моему Верещагину. Я знал, что он содержался в яме и встретил его, ведомого к графу. Ты знаешь графа Растопчина, графа, – повторил он с отвращением в голосе. – Они мучали, томили его и повели на казнь. Он сказал: спаси меня. Где он? Где спаситель наш?
– Да, право, не знаю, Иван Макарыч, я[1740] уже везде искал, нету, вот хотел сходить на Поварскую к графу Ростову, сказывали, они не уехали, так не с ними ли граф остался.
– На Поварской, с правой стороны? Ростова? – повторил Иван Макарыч. – Идем, Жеребцов, – обратился он к своему товарищу, который робко стоял всё это время у крыльца, что-то открывая в ладони, смеясь и быстро опять закрывая. Жеребцов покорно и поспешно побежал за своим путеводителем.
Иван Макарыч был меньшой сын богатого священника одного из московских приходов. Оказав большие способности в семинарии и неохоту к поступлению в священники, он поступил в 1810 году в университет и там в особенности сошелся с двумя товарищами: молодым Ключаревым, сыном московского почтдиректора, и Верещагиным, купеческим сыном. Ключарев старик, старый масон и потому близкий человек Пьеру, познакомил[1741] всех трех молодых людей с Пьером. И в первое время своего приезда в Москву Пьер иногда видал их и через Ключарева помогал Ивану Макарычу, не имевшему никаких средств к жизни. Иван Макарыч, так как ему было уже 28 лет, был введен в ложу, и[1742] тайны масонского учения до такой степени овладели им, что он бросил учение, в котором, по словам профессоров, он оказывал необыкновенные способности, и погрузился в[1743] изыскание начал вещей. В 1812 году на Святой неделе, в дни сборов раскольников перед соборами и споров их с православными, Иван Макарыч пришел туда и, обращая на себя общее внимание своим огромным ростом и своей складной русской речью, начал проповедывать свое учение о начале начал и был взят и посажен в сумашедший дом. Иван Макарыч не был сумашедший, когда его посадили, и[1744] в[1745] 9 месяцев, которые он просидел там, не сошел с ума, хотя он и представлялся сумашедшим смотрителям и докторам заведения. Иван Макарыч не был сумашедшим, но он был то, что народ называет зачитавшимся человеком, а что психолог назвал бы человеком, презирающим решения вопросов конечных и ищущим решения только тех вопросов, которые граничат с бесконечностью. В житейских отношениях Иван Макарыч был прост, добр и кроток, как ребенок. Он отдавал всякому свое последнее, разрешал даже споры между сумашедшими, работал, записывал счеты для казначея, но всё это он делал как бы механически, не душой, а одним телом, не приписывая такого рода жизни никакого значения. Силы[1746]
* № 215 (Рук. 95. T. III, ч. 3, гл. XXV).
<В то время как граф Растопчин на быстрых лошадях ехал через Сокольницкое шоссе к Яузе, он видел странных людей,[1747] молчаливо и нерешительно движущихся по полю. Люди эти были в белых халатах и один из них, высокий, черный, побежал наперерез дрожкам графа и что-то прокричал ему о смерти, убийстве и воскресении. Это был один из сумашедших, которых в это утро распустили из желтого дома. В 4-м часу дня некоторые из этих сумашедших проникли в город и являлись странными фигурами и лицами, наводили ужас на остававшихся жителей.>
* № 216 (рук. № 94. T. III, ч. 3, гл. XXV).
«Il faut être Romain».[1748] Граф Растопчин велел вывести Верещагина на крыльцо и вслед за ним вышел сам. Толпа жадно надвинулась. Иван Макарыч стоял шагов за 30, не в силах двинуться вперед, но, благодаря своему росту, видя всё, что перед ним происходило.
На широком крыльце между двумя драгунами в синих мундирах и красных воротниках стоял[1749] молодой, белокурый человек, бледный, худой, с тонкими губами, горбатым, заостренным носиком и усталыми глазами. В прическе, в костюме его, лисьем тулупчике, в высоких с сморщенными голенищами тонких сапогах, в полуулыбке, которая остановилась на его лице, было то знакомое и неприятное всегда Ивану Макаровичу выражение щегольства, хвастовства и тщеславия, за которые Иван Макарович всегда упрекал своего друга. Он стоял, отставив ногу, согнувшись одним плечом, держал одну руку в кармане, другой с тонкими пальцами приглаживал волосы и беспрестанно приподнимал брови. Он, видимо, старался казаться небрежным. Растопчин вышел, взглянул на него, и рука Верещагина опустилась и задрожала.
– Прежде всего мне надо управиться с изменником! – закричал граф Растопчин. – Вы видите этого человека. От него погибает Москва.
Удивленные, встревоженные лица смотрели на Растопчина, в числе выдвинутых вперед лиц больше всех бросалось в глаза Растопчину лицо с большими рыжими бровями и рыжей, закрутившейся бородой кучера или извощика. Для Растопчина это было олицетворение de la plèbe, de la lie du peuple,[1750] и он к нему более обращался. Кучер утвердительно мигал бровями на каждое слово Растопчина.[1751]
– Он – изменник своему царю и отечеству,[1752] – крикнул Растопчин,[1753] торжественным жестом указывая на Верещагина, и замолк. Во время этого молчания Верещагин невольно улыбнулся грустно и покачал головой. Иван Макарович узнал этот упрямый жест, знакомый ему в спорах с Верещагиным.[1754] Этот взгляд как бы порохом взорвал Растопчина. Он отодвинулся и закричал, обращаясь к драгунам:
– Бей, руби его. Бей, я приказываю.
– Ваше, ваше… сиятельство, – проговорил трясущимися губами драгун, расставляя руки.
– Что?!! Вы[1755] головой мне ответите, – крикнул Растопчин. – Я приказываю.
– Сабли вон! – крикнул офицер драгунов, сам вынимая саблю, и вдруг Верещагин схватился за лицо и закричал страшным тонким голосом. Драгун с злым лицом толкнул его ногой с крыльца, другой замахивался на него саблей.[1756]
– Своим судом расправляйтесь с ним, – крикнул Растопчин и опять невольно взглянул на рыжего представителя de la plèbe.[1757]
Рыжий кучер, согнувшись и закрыв лицо руками, задыхаясь, теснился прочь от крыльца. Почти все, стоявшие в первом ряду, сделали то же. Но в то время, как эти теснились назад, толпа напирала вперед и те, которые не видали того, что было, особенно те, которые были с пиками и ружьями, наваливались на злодея, которого била еще команда драгун, и били его. Тем, которые были сзади, казалось, что этот злодей сейчас только что сделал ужасное. В толпе говорили, что он убить хотел Растопчина, что он царя убить хотел, что он – француз, и несколько человек пристало к драгунам, которые, схватив за ноги его тело, потащили его со двора.
Иван Макарыч дотеснился до ядра толпы и увидал[1758] разбитое и измазанное в крови и пыли, мертвое лицо, которое билось по мостовой.
– Убийцы царства божия не узрят, кто ударит мечом – от меча и погибнут, – заговорил он быстро[1759] ноющим голосом.
– Господи, прости их. Блажен Александр, яко ты царствие узришь, яко из смрада жизни через очищение муки в жизнь вечную,[1760] святую перенесен есть.
Большая толпа собралась около Ивана Макаровича.
– Люди, что вы сделали? – закричал он и, закрыв лицо руками, зарыдал и побежал из толпы.
– За что же? Кто он? – спрашивали в толпе. – Как звать? Александром. Господи помилуй.
И толпа долго теснилась около трупа, лежащего на улице и окруженного драгунами. Народ теснился, чтобы поднять и снести хоронить его, но драгуны не подпускали.
– Не велено, – говорили они.[1761]
Через час после этого граф Растопчин, успевши на быстрых лошадях своих, сопутствуемый и предшествуемый конными драгунами, очищавшими ему дорогу, съездил в свою дачу в Сокольники для домашних распоряжений и[1762] приехал к Яузскому мосту, у которого еще шли войска.
[1763]Было жарко. Кутузов, нахмуренный, унылый, сидел на лавке около моста и плетью играл по песку, когда с шумом подскакали к нему дрожки и невысокий человек в генеральском мундире и в шляпе с плюмажем смело подошел к нему и стал по-французски говорить ему о том, что вот он, граф Растопчин, явился сюда[1764] потому, что Москвы и столицы нет больше, а есть одна армия.
Кутузов взглянул на него и в лице этого беспокойного человека прочел сознание совершенного преступления; он с отвращением еще раз взглянул на него, как бы отыскивая еще признаки, и отвернулся молча.
– Я явился к вам, так как я больше – ничто, – сказал Растопчин. Опять Кутузов посмотрел на него.
– Так извольте распорядиться очищением дороги для войск, – сказал он спокойно и строго.
[1765]И, – странное дело – гордый Растопчин, беспомощно оглядываясь и стараясь улыбаться, пошел вперед к мосту и, подняв нагайку, стал разгонять толпившийся народ.
* № 217 (рук. № 94. T. III, ч. 3, гл. XXV).[1766]
[1767]Челюсть его затряслась, когда он увидал это. Он ехал, бледный и ужасенный. Но он не признал того, что причиной этого волнения было убийство, совершенное им. Ему это и в голову не приходило. Ему казалось, что его волнует весь ужас положения Москвы, отечества, le bien publique.[1768] Но этот вскрик, фамильярный и торжественный: «Граф, один бог над нами», и ему представлялось его лицо. «Нет, я расстроен бессонной ночью и всеми событиями дня. Как ужасна чернь – la populace. Il leur fallait une victime. J’ai fait ça pour le bien publique.[1769] Бог знает, что бы было, ежели бы мне не пришла эта счастливая мысль. Несомненно, что они разорвали бы меня. И тогда что было бы с Москвой, с Россией. J’ai fait ça pour le bien publique,[1770] – повторял он себе, как повторяет это понятие блага других людей всякий человек, совершивший преступление. – И не могло быть более заслужившей кары жертвы, как этот негодяй. Как он закричал, взглянул на меня! И его лицо, взгляд… Вот – труды мои. Всё пропало, всё погублено. А как ужасна чернь. Как бросились эти люди и как застонал он. Чернь, да, это – та чернь, которая делала революцию во Франции».
И мысли далекие о революции и т. д. пришли ему в голову, но представление лица Верещагина беспрестанно перебивало их. Поспешно распорядившись в Сокольниках, он ехал, продолжал думать о том и удивлялся упорству представлений о Верещагине. У Яузского моста сидел его враг, не обращая на него внимания, и злоба вскипела в нем.
* № 218 (рук. № 95. T. III, ч. 3, гл. XXV).[1771]
ны и всегда бывают исполнены. И это совершенно справедливо с точки зрения администратора, никогда не имеющего непосредственного отношения к народу. Чего бы ни желал народ, правитель всегда может не дать этому желанию выражения в административном порядке (хотя, само собой разумеется, желание это, ежели оно есть потребность, найдет всегда обход административному неразрешению и найдет себе удовлетворение в действительности) и всё, что ни прикажет правитель, всё будет исполнено в административном порядке[1772] (т. е. одно звено передаст, очищая себя в ответственности неисполнения, приказание другому, другое – третьему звену администрации и т. д. до последнего, которое по свойству своему, сливаясь с народом, обойдет приказание, ежели оно не согласно с потребностями народа). По общему всем людям свойству[1773] считать себя каждому центром всего мироздания, каждый администратор, кроме того, постоянно уклоняется от того непосредственного сближения с массами, которое бы могло показать ему несостоятельность его власти, и привыкает к деятельности той условной иерархии, в которой одно звено отражается на другое, передавая друг другу силу, но не передавая ее главному предмету усилий.
Графу Растопчину во время его управления Москвою казалось, что он держал ее вот как! Он сжимал кулак. «Она мысли мои понимала». Ему казалось, что, когда он велел[1774] вывезти всех французов и раздать всем оружие и вывезти присутственные места и деньги, что он это действительно сделал. В сущности же те, которым он приказал это, исполнили приказание только в том смысле, что их нельзя было упрекнуть в неисполнении, а французы, именно те, которых он хотел выслать, остались, присутственные места и деньги остались, и на оружие нашлись купцы, и оружие осталось французам.
1-го сентября Растопчин с недоумением почувствовал, что большой корабль Москвы заколыхался сам собой и что шест, которым он думал двигать его, не достает до него, что он остается один, и, вместо источника силы и руководителя событий, он остается один и беспомощен. Еще прежде, после Бородинского сражения, приезжавшие генералы говорили Растопчину, что Москву защищать нельзя, но граф Растопчин так был увлечен своей деятельностью руководителя, что он не оценил этого известия. 1-го сентября на Поклонной горе Растопчин видел, что все генералы убеждены в необходимости оставления Москвы, но всё еще не понимал значения этого события. Он воображал в себе олицетворение всей силы огромной столицы, обещал выйти против врага. Но, вернувшись в этот вечер в Москву, увидав разбитые кабаки и услыхав, что этого нельзя остановить, он почувствовал, как почва уходила из-под его ног. В эту ночь Кутузов положительно уведомил его, что Москву оставляют. Всё, что делалось в это время в Москве, еще сильнее, чем письмо[1775] Кутузова, убеждало Растопчина, что Москву оставляют и уже отчасти оставили, не спрашивая его и даже не заботясь о нем. Некоторые из чиновников уехали, другие уезжали и увозились, для приличия спрашивая главнокомандующего, третьи, очевидно, приготавливались встретить неприятеля. Народ бушевал по улицам. Запасы хлеба грабили и предлагали жечь. Увезти всего не было возможности, и каждый по своей части распоряжался, как он знал. Некоторые только для сложения с себя ответственности и приходили за приказаниями к графу.
«Я-то? Я-то что? – спрашивал себя граф. – Мне что делать? Я – ничто теперь. Я – пешка». И в горе этого перехода от власти и величия к ничтожеству граф Растопчин искал виновников этого положения. «Ежели бы все делали свое дело, как я, этого бы не было». Он чувствовал себя оскорбленным.
№ 219 (рук. № 95. T. III, ч. 3, гл. XXVI).[1776]
<Передовой отряд уж занял Кремль, но задние всё еще продолжали двигаться по Арбату.
[1777]Долохов в сибирке стоял, прислонившись к углу церкви Николы Явленного, и[1778] смотрел на проходившую пехоту.[1779] Французский офицер,[1780] проходя подле него, взглянул ему в лицо. И, вероятно, выражение злобы, бывшее на этом лице, поразило офицера: он приостановился и посмотрел, прошел несколько шагов и опять посмотрел.
– Une vrai figure de cosaque,[1781] – сказал он[1782] солдату, шедшему подле. Солдат поглядел и остановился.
– Dites donc, – сказал он, махая к себе рукой Долохова, – Kremlin ici?[1783]
Долохов усмехнулся и, повернувшись,[1784] пошел по переулку.
Лицо его приняло еще более злобное выражение, как только он перестал быть видим французами.[1785]
Недалеко в переулке был дом его матери. Он вошел в калитку и кликнул Артема.[1786]
– Ну, смотри ж, как смеркнется, – сказал он вышедшему к нему мужику.[1787]
– Слушаю.
– И, коли войдут, пускай.
– Слушаю.
– А старуха не выехала?
– Никак нет-с. Спрашивали, можно ли прачешную перевесть к нам.
– Дура, – сказал Долохов и, выйдя из калитки, подошел к воротам соседнего небольшого домика.>
* № 220 (рук. № 95. T. III, ч. 3, гл. XXVII).[1788]
[1789]<Пьер убежал из дома для того, чтобы быть свободным. И он получил теперь эту свободу в доме И[осифа] А[лексеевича].[1790] Он хотел быть свободным для того, чтобы ничто не мешало ему отдаться вполне своим мыслям и намерениям.[1791]