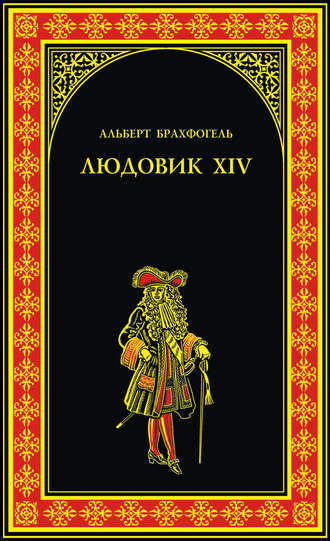
Полная версия
Людовик XIV, или Комедия жизни
– Но как вы могли прийти к такому безрассудному решению? Что дает вам повод думать, будто я вас больше не люблю, будто я ставлю свою супругу выше вас? Мое письмо недостаточно ли сказало вам о моем несчастии? Почему вы хотите еще эту обиду прибавить ко всем моим горестям?
– Вы, может быть, еще не настолько любите принцессу, чтобы решиться оттолкнуть меня, но я не хочу выжидать этой минуты. Когда-нибудь вы полюбите ее, да уже и теперь вы ее любите: не будь этого, вы бы, конечно, не закрыли бы передо мной свою дверь после недельного отсутствия! Вам бы не было совестно явиться рядом со мной перед лангедокским дворянством, как бывало прежде, вы не стеснялись вместе со мной объезжать войска. Я хочу облегчить вам этот шаг. Когда меня не будет, – она обратила к нему свой влажный, голубиный взор, – вы скоро меня забудете.
– Весь свет, кажется, в заговоре против меня! – вне себя воскликнул принц. – К черту все это величие, которое дает мне только одно горе и страдание! Да или нет, любите ли вы еще меня, Флоранс? Отвечайте по совести!
– Если вся моя жизнь не дала еще вам ответа на этот вопрос, Арман, так знайте, что наша разлука будет, может быть, смертью для меня!.. Ведь это не первая жертва, которая принесется всепоглощающему кардиналу.
– Клянусь вам, милая Флоранс, пока чувство еще живет во мне, моя любовь неизменно будет принадлежать вам.
Вы будете моей единственной радостью. Никогда не оставляйте Пезенаса и распоряжайтесь мною так, как будто я никогда и не видел мазаринского дома. Желаете вы этого?!!
– Если только вам не тяжело будет переносить тиранию моей любви! – засмеялась она, прислонившись головой к его плечу.
– Никогда, о, никогда! Если бы Мазарини даже золотыми цепями приковал меня к себе, то и тогда мое сердце не будет в его власти! – Он обнял ее в сильнейшем волнении. – Но я должен попросить у вас одну вещь. Это маленький медальон с моим портретом, я, – он покраснел, – обещал его одному приятелю в Париже.
– Приятелю или приятельнице, монсеньор? Это единственный ваш подарок, который я бы не отдала при расставании.
– Конечно, приятелю. Зачем вам этот портрет? Ведь вы постоянно будете иметь перед собой оригинал! Да к тому же я обещаю вам в самом непродолжительном времени другой, хотя бы должен был для этого выписать самого Лебрена из Парижа. Позвольте мне самому взять его! – Он распутал, смеясь, на шейке красавицы золотую цепочку и снял с ее груди покрытый бриллиантами портрет, который поспешно спрятал. – Нарядитесь же получше, моя милая! Я за обедом хочу вас представить своим гостям. Вы сделали мне сюрприз, вызвав сюда труппу Бежар, это прекрасно. Пускай они дают свои представления, пока не надоедят нам. Но я велел перевести их в город: им невозможно оставаться здесь, не стесняя наших гостей.
– Как прикажете, дорогой принц. Но в таком случае нужно заплатить за их стол и квартиру, потому что без этого условия они ни за что не приехали бы из Лиона.
– Все, моя дорогая, хорошо, что бы вы ни сделали.
Вы должны быть полной госпожой в моем доме. Вот еще что: я взял двух мальчиков себе в пажи, двух братьев, Лорена и Марсана. Революция похитила у них отца, им нужно дать приличное воспитание. Аббат будет их учить, вы же возьмите младшего Марсана себе в пажи. Он еще ребенок и довольно ограниченный, его нескромности опасаться нечего.
– О, позовите его сейчас сюда, я хочу доказать, как ценю ваши подарки.
– Сию минуту, еще слово к вам, аббат. Сожалею, что оно будет так строго. Вы служитель церкви, и потому с вашей стороны неблагодарность, неверность и измена преступнее, чем со стороны кого-либо другого. Будьте откровенны со мной, никто, кроме мадам, вас не услышит, и я прощу вас, хотя, конечно, уже не потерплю вашего присутствия в моем доме.
– Что угодно вашему высочеству?
– Вы знаете, что моя секретная переписка была украдена необъяснимым образом. Кардинал показал мне эти самые бумаги после свадьбы у себя в кабинете и сжег их.
– Бумаги? Кардинал?! – Даниель побледнел.
– И вы, клятвопреступник, вы отдали их Мазарини! Сознайтесь!
Аббат стоял со сложенными руками, бледный и неподвижный.
– Нет, это невозможно, принц! – воскликнула госпожа Кальвимон. – Я ручаюсь, что он не способен на такую низость.
Даниель оправился:
– Ваше высочество, я не знаю, каким образом бумаги очутились у эминенции.
– Так ли? Поклянетесь ли вы в правдивости ваших слов?
– Клянусь, принц!
– В таком случае простите мне мое подозрение… Пойдемте со мной и приведите сюда Марсана. До свидания, милая Флоранс, я сам поведу вас к столу!
Он поцеловал ее руку, вошел в свой кабинет, дверь которого уже не затворял, и передал Марсана священнику.
Когда аббат и Флоранс остались вдвоем, оба вздохнули с облегчением.
– Ну-с, Даниельчик, не крепче ли он теперь у меня в руках, чем прежде?
– Падаю ниц перед вашим умом и находчивостью.
– Ха-ха, теперь ничто на свете не поколеблет слепой привязанности ко мне Конти.
Даниель улыбнулся, поклонился и оставил красавицу одну заняться своим туалетом.
Задумчиво вошел принц в свой рабочий кабинет, где дожидались Гурвиль и Фаврас. Он вынул портрет из кармана, мрачно взглянул на него и подошел к письменному столу. Лорен подскочил к нему и придвинул кресло.
– Что вам угодно, господа?
– Вы приказали нам дожидаться здесь, ваше высочество, кроме того, я должен доложить, что Серасин приехал, полицейский служитель тоже здесь с двумя людьми.
– Хорошо, Гурвиль, а вы, Фаврас?
– Труппу Бежар перевезли в город, чем она очень недовольна. Содержательница и Мольер, их доверенное лицо и режиссер, явились сюда объясниться по этому поводу с вашим высочеством.
– Пустяки! Пусть подождут, мне нужно остаться одному на полчаса. Позаботьтесь, Гурвиль, чтобы один из слуг приготовился ехать сейчас же в Париж. Он должен отвезти письмо в монастырь девы Марии. Надеюсь, что это будет исполнено со всей аккуратностью.
– Не сомневайтесь, ваше высочество!
Интендант и шталмейстер удалились в переднюю, а принц стал писать письмо своей супруге.
«Мадам!Верный своему слову, посылаю вам немедленно по приезде обещанный портрет, хотя и сомневаюсь, что вы удостоите его того места, на котором носила его до сих пор прежняя обладательница. Вы удивили меня при прощании неожиданным, скажу более, в высшей степени невероятным признанием. Если это признание искренне, то для меня становится очень интересным вопрос: каким образом заслужил вашу любовь человек, которого вы никогда не видели и с которым вас связала только воля вашего дяди? Я желаю, чтобы вы не насиловали ни себя, ни меня, и считаю себя вправе, как честный человек, ожидать от вас полнейшей откровенности.
С великим почтением остаюсь покорным слугой вашего высочества
Арман де Конти».Бессердечно и язвительно написанная эпистола эта тем не менее взволновала писавшего. Он непременно хотел выйти из глупого хаоса чувств, освободиться от сердечной слабости, овладевшей им под влиянием горячих взглядов Мартиноци. Конти думал, что, вложив портрет в пакет и передав его Гурвилю, он действительно сделал великий шаг к своей независимости и теперь уже не имел надобности думать о черных глазах. Это убеждение сделало его веселее.
– Впустите теперь актеров, Фаврас!
На пороге кабинета показалась тридцатичетырехлетняя женщина со стройными еще формами, некогда, вероятно, красивая, но теперь уже сильно поблекшая от излишнего употребления румян; цвет лица ее приобрел тот грязноватый, свинцово-сероватый оттенок, который так безобразит немолодых уже актеров; к тому же у нее были красные волосы. Ее одежда, далеко не грубая и не бедная, отличалась излишней пестротой и безвкусием.
Несмотря на некоторую сдержанность и боязливость в присутствии принца, в ее движениях и взглядах проглядывало известное нахальство, которое она тем менее могла скрыть, чем более чувствовала себя оскорбленной высылкой труппы из замка в город. Это была девица (по тогдашним полицейским уставам всякая актриса была девицей) Мадлена Бежар, содержательница тех странствующих актеров, которые стяжали в Лионе такую большую известность. Принц едва удостоил Мольера взглядом, но не смог скрыть улыбки, когда ему представили Мадлену.
– Вас не совсем-то вежливо лишили квартиры, мадемуазель. Сожалею об этом. Но мне нужны комнаты, и вы согласитесь, что дворян негоже стеснять из-за вашего странствующего общества.
– Мы, конечно, обязаны подчиниться приказаниям вашего высочества. Но я должна заметить, что заключенный именем вашего высочества контракт обязывает доставить нам отдельное содержание, квартиру, за каждое представление четыреста ливров и прогоны туда и обратно. Вот этот контракт!
– Оставьте его у себя: я уже знаю, в чем дело. Все, обещанное вам моим именем, будет исполнено. Но что же вы будете играть?
– «Сида», «Теодору», «Дон Санхес», Пьера Корнеля, «Собственного стража», «Дона Яфета из Армении», «Поля Старона», наконец, – она показала на своего товарища, – сочинения Мольера, члена нашей труппы, «Доктора поневоле», «Ревность Барбульеса» и «Безрассудного», который, несмотря на Гвильон Гароку, заслужил общее одобрение.
– Так как земские чины соберутся не ранее будущего месяца, – вежливо присовокупил Мольер, – я могу еще написать новую пьесу «Le depit amoureux»[3].
Конти внезапно выпрямился и с неприятным удивлением посмотрел на говорившего.
– Вас зовут Мольером?
– К вашим услугам.
– Это не настоящее ваше имя!
– Имя и рождение, ваше высочество, не даются нам с нашего согласия, в противном случае счастье не было бы так редко на земле. Но это имя я дал себе сам, и никто его не носил, кроме меня. Разве это дурно, ваше высочество?
– Дурно стыдиться и отказываться от своего собственного имени, дурно бросать свое семейство и почтенное звание, чтобы сделаться шутом и бродягой. Вы сын Поклена, королевского обойщика и камердинера, – не скрывайтесь! Вы, Шанель, Берье в Хеннольте были моими сотоварищами в Клермонтской коллегии, потом вы были адвокатом и бросили свое почтенное звание, чтобы променять его на позор и нищету.
– Не всякому арлекину идет его наряд, ваше высочество, мне же вовсе не шла адвокатская мантия. Никто не видел, впрочем, чтобы я стыдился или презирал свое звание. Каждый человек имеет свои понятия о чести.
– Я нисколько не интересуюсь вашими понятиями, – резко воскликнул Конти. – И объявляю вам, чтобы вы не выставляли мне напоказ своих произведений. Я не хочу смотреть ни на вас, ни на всю эту труппу! Вы получите деньги, квартиру и содержание на четыре недели, но с условием оставить Пезенас через два дня, если не хотите быть удалены более бесцеремонным образом!
Мольер побледнел и отступил в испуге.
– Так неужели же этот человек, милостивейший государь, должен составить наше общее несчастье? – закричала Мадлена. – Чем мы виноваты, что он случайно был вашим товарищем? Вы, конечно, можете деньгами зажать нам рот, и мы не имеем средств противодействовать вам, потому что вы повелитель всего Лангедока. Но куда мы теперь ни придем, нам везде скажут, что вы отправили нас за негодностью. Кто тогда заплатит, ваше высочество, за потерю нашей артистической карьеры и доброй славы? О, дозвольте нам по крайней мере три представления. И если мы и тогда вам не понравимся, – ну тогда мы уедем безропотно!
Девица, вошедшая так храбро и самонадеянно, лежала теперь в слезах и рыданиях у ног принца.
Конти отвернулся с презрением и прошелся несколько раз по комнате.
– Ну хорошо! – воскликнул он с сердцем. – Дозволяю вам эти три представления, но только без Поклена или этого Мольера, как он теперь называется!
– Ваше высочество! Если я причина вашего гнева и вы стыдитесь моей скромной особы, то легко этому помочь, я уеду из Пезенаса и оставлю своих товарищей, с которыми так давно уже делю горе и радость. Мое несчастье не должно их касаться.
– Это ваше дело, мое решение вам известно.
– Соизвольте в таком случае, чтобы я получил в вашем присутствии от этой девицы все рукописи и роли тех пьес, которые писал до сих пор для труппы Бежар. Это дети моей мысли, мое единственное земное достояние. Пренебрегая моей особой, вы, конечно, пренебрежете и моими поэтическими произведениями.
– Я ничего не имею против вашего желания. Отдайте ему его сокровища, мадемуазель!
– Ни за что, ваше высочество. Я заплатила за них!
– Но ты не имеешь права отнимать у меня мое состояние и пользоваться им.
– Запрещаю всякий спор: подобные сцены здесь неуместны. Если вы имеете право разыгрывать произведения этого человека, делайте это, а если он хочет протестовать, то пусть обращается к суду. Через два дня вы покинете город, господин Поклен!
– Ваше высочество, – воскликнул Мольер. – Неужели вы дозволите наглый грабеж? Соглашаясь терпеть нужду, чтобы не подвергать своих товарищей вашей немилости, я теперь должен лишиться единственного средства помочь себе, единственного источника моего будущего счастья!
– Идите! Довольно дерзко предполагать, что я должен заботиться о счастье подобных вам людей!
Слезы выступили на глазах у Мольера.
– Извините, ваше высочество, если во мне было ребяческое убеждение, будто такой высокопоставленный принц охотно позаботится о счастье бедного человека! Горе бедняку, участь которого в руках сильного!
Он поклонился и вышел.
Девица Бежар последовала за ним. При последних словах Мольера Конти просто остолбенел от такой дерзости. Находясь уже и без того в состоянии нервного раздражения и сильнейшего неудовольствия, страстная его натура окончательно пробудилась, и жилы на лбу налились кровью.
– Позови Гурвиля, Лорен! – закричал он.
Паж, стоявший безмолвно в отдалении, полетел к двери и позвал шталмейстера.
Вошел Гурвиль и за ним секретарь Серасин, приехавший ночью из Безьера.
Беда, если у гордых вспыльчивых господ упрямые слуги, а Серасин был из их числа. Родом из Сен-Леона в Пиренеях, характером и темпераментом больше испанец, чем француз, он и держался прежних нравов своей родины. Одет он был по французской моде: короткие, узкие панталоны и штиблеты, узкая курточка с серебряными пуговицами, волосы в сетке и широкий кожаный кушак.
На левой стороне кушака висел серебряный письменный прибор, указывающий на профессию, а на правом боку качался в кожаном чехле широкий нож, его национальное оружие, в руках держал он шляпу с отвислыми полями. Его черты отличались неподвижностью и выражали упорство; лицо было мрачно. Он знал, зачем его вызвали, знал, что ему предстоит выдержать гнев принца, но не сознавал себя виновным в каком бы то ни было проступке.
Его вид еще более раздражил Конти, но сначала он сдерживался, хотя внутреннее волнение его было так велико, что это ему стоило больших усилий. Он бросил на Серасина убийственно холодный взгляд, потом стал ходить взад и вперед, подошел к камину, бросился в кресло и начал вертеть в руках каминную лопатку.
– Я велел позвать одного вас, Гурвиль!
– Извините, ваше высочество, я думал, вы желаете видеть Серасина.
– И я тоже, – сухо сказал Серасин, – покорнейше попросил бы покончить со мной. А то пезенасскому полицейскому служителю долго придется ждать!
– Покончить, сударь, – я этого и хочу! Оставьте нас одних, Гурвиль!
Шевалье удалился.
– Наше дело простое и ваше вступление доказывает, что вы знаете, в чем оно заключается.
– Я мог по крайней мере догадаться об этом, меня увезли ночью из Безьера и сочли нужным обращаться, как с уличенным преступником.
– Да, я так и смотрю на вас и докажу, почему! Кто дал вам приказания делать приготовления в Безьере к земскому собранию?
– Господин аббат! Он объявил мне, что ваше высочество выразили это желание в своем письме, и я не смел ослушаться его. Но, кроме того, не стану скрывать, что аббат Даниель предвидел, что на меня обрушится ваш гнев и искал предлога удалить меня отсюда, пока ваше высочество не будете лучшего мнения обо мне.
– Собственный страх за себя, бездельник, заставил тебя удалиться, трусость и сознание вины написаны у тебя на лице!
Серасин вздрогнул, и лицо его налилось кровью, но он сдержал себя.
– Не знаю, почему бы это могло быть, ваше высочество. Я служу вам десять лет и в продолжение этих десятилетних трудов во время войны я ничем не опозорил себя. Мне более всего совестно и прискорбно, что эта переписка была украдена в самое дурное для вас время, и больно, что подозрение ваше падает при этом на меня, которого вы могли бы лучше знать, который в…
– Молчи ты со своими сладкими речами! Отвечай на доказательства!
– Где они?
– Станешь ты отвергать, что день и ночь ты напевал мне, чтобы я примирился с правительством, что, когда Даниель прибыл из Парижа с брачным предложением Мазарини, ты употребил всю силу своего красноречия, чтобы заманить меня в ловушку хитрого кардинала? Станешь ты утверждать противное?
– Нет, ваше высочество. Но и аббат делал то же самое. Подумайте же, если бы вы не поступили, как советовала вам моя преданность и заботливость о вас, в каком ужасном положении находились бы вы теперь, вместо того чтобы быть губернатором Лангедока!
– О, прекрасно! Привести меня именно в это ужасное положение, заставить выбрать между моей погибелью и рабством – вот подлое дело, на которое ты был подкуплен!!!
– Ваше высочество, я – писец, а вы – принц. Но во мне течет благородная кровь гидальго, который на подозрение в подлости и измене отвечает ударом ножа!
С этими словами он судорожной рукой схватился за нож, но тотчас же выпустил его. Он страшно побледнел.
– Напрасно все это хвастовство. Переписку, украденную из моего рабочего кабинета, из надежного шкафа, и о существовании которой ты торжественно поклялся ничего не знать, я нашел после свадьбы в руках Мазарини!
– Боже милосердный, в собственных руках Мазарини?
О, адская проклятая низость!
– А, наконец-то ужас открытой вины овладевает тобой!
На колени и признавайся, что Мазарини подкупил тебя совершить это воровство и предать меня, беззащитного, в его руки!
– Ваше высочество, берегитесь быть в одно время обвинителем и судьей, преследуемая жертва может с отчаяния сама ответить за себя! Эта рука чиста от всякого предательства. Моя вина только в том, что я советовал вам хорошее.
– Чья же была эта воровская рука?
– Много других людей находятся постоянно в вашей близости, они могли знать, где лежали бумаги и как достать их. Аббат Даниель тоже имеет пальцы, а на поповские проделки – поп годится!!!
– Только страх загрязнить себя удерживает меня, а то бы я убил тебя собственной рукой! Низкий клеветник, так-то ты уважаешь священнический сан? Час назад Даниель поклялся мне, что не принимал никакого участия в этом мошенническом деле!!!
– Так. Он поклялся? Ха-ха. А если я произнесу такую же клятву, будет ли она иметь меньше значения перед Богом потому только, что у меня не выбрита часть головы? Ну да пусть будет, что будет! Если Даниель не солгал и не украл писем, так украла их госпожа Кальвимон и…
При этих словах принц, не владея уже собой, вскочил в бешенстве и, подняв каминную лопатку, закричал:
– Ты мне заплатишь жизнью за эти слова, бездельник!
Но не успел он исполнить своей угрозы, как Серасин выхватил в таком же бешенстве свой нож и в мгновение ока нож этот пролетел мимо головы принца и вонзился в противоположную стену. Насилие не осталось без ответа. Принц железной рукой швырнул лопатку в голову Серасина.
– Пресвятая Мария!
Он пошатнулся, развел руками по воздуху и грянул о землю: кровавая лужа образовалась вокруг него. Конти остановился бледный, дрожащий.
– Убит!!! – закричал бледный Лорен. – Он убил его! Помогите, помогите! – Он бросился к двери, с силой дернул ее, и голос его раздался на дворе.
В одно мгновение все было на ногах. Интендант, шталмейстер, кавалеры и служители наполнили комнату. Принц ничего больше не видел и не слышал, а Серасин с помертвевшим взором лежал перед ним и с умоляющим видом протягивал ему руку. Конти наконец наклонился к нему.
– О, принц, вы отняли у меня жизнь, а я был вам верен! Позовите аббата, пусть он повторит в моем присутствии, что не украл ваших писем, не предал вас!
Страшная мысль промелькнула в голове Конти, мысль, что он убил невинного.
– Аббата сюда! – закричал он. – Доктора! Позовите графа д’Аво и президента! Положите его на диван, оставьте меня одного с ним!
Все разбежались. Одни положили тяжелораненого на постель, другие поспешили за аббатом. Кто мог, бежал от этой ужасной сцены. Конти стал на колени подле своей жертвы и сжал ее худые руки.
– Дорогой принц, велите обыскать мой дом, найдется ли там хоть один ливр, который бы дал мне Мазарини в награду за преступление. У меня никогда не было ничего, кроме того, что я получал от вас. Я умираю бедняком. Сжальтесь над моей женой и моими детьми!
– Серасин, прошу тебя, не заставляй меня думать, что я убил самого верного из своих слуг! Не лишай меня Божьего милосердия! – говорил принц, сжимая его похолодевшие руки.
Гурвиль и Фаврас привели бледного аббата Даниеля. Вне себя принц вскочил.
– Во имя вечного суда и мучений ада сознайся перед этим умирающим, этим несчастным, убитым мною, – ты или он украл для Мазарини мою переписку? Проклятие здесь и там да падет на того, которого вид этой ужасной смерти не заставит сказать правду!
Даниель зашатался, он не мог стоять без помощи кавалеров.
– Я, я украл их для Мазарини, страх сделал меня клятвопреступником!
– Серасин, друг, товарищ, и я убил тебя! – воскликнул Конти, рыдая, и с отчаянием схватился за голову.
– Уберите священника… Я не ручаюсь за себя! О Мольер, Мольер! Горе бедному, чья судьба в руках сильного!
Почти без чувств опустился он перед умирающим, голова его склонилась на тяжело дышавшую грудь Серасина.
Серасин слабо и печально улыбнулся, его руки в последнем пожатии обвились вокруг неблагодарного господина.
– Простите мою горячность, она одна была всему виной, нож в стене тому доказательство! Ах, но дайте мне умереть спокойно: простите аббату. Он поступил дурно, но хотел вам добра! Перед Богом, поверьте мне еще в этом! Позже, позже узнаете вы это! О, жена моя!
В эту минуту в комнату вошли жена Серасина, бледная, испуганная, и его дети. Граф д’Аво и президент следовали за ними.
– Президент, – сказал Конти, – я, я убийца и ваш пленник!
– Нет, он совершил это по необходимости, – простонал Серасин. – Я первый напал на него! Там, в стене… – Раненый не договорил, он сделал последнее усилие, и его не стало.
Арман же, принц Конти, всемогущий губернатор Лангедока, лишился чувств.
Глава V. Благие последствия юмора
К вечеру второго дня, последовавшего за печальной аудиенцией Мольера и кровавой кончиной Серасина, отверженный актер стоял перед дверью маленькой гостиницы в той части Пезенаса, которая лежала у канатного моста над Херольтом.
На противоположном берегу этой реки главная улица разветвлялась на два направления, из которых одно вело прямо с севера на Ним, а другое, повернув направо, тянулось вдоль берега и потом шло к западу, через виноградный холм, на Монпелье. Мольер смотрел с грустной задумчивостью на освещенную закатом солнца красивую местность, которую он должен был покинуть, не зная еще, куда направиться. Недалеко от него, опираясь на палку, стоял полицейский служитель. Он по приказанию его высочества дожидался солнечного заката, чтобы вывести актера из городской черты. Трогательно простился актер со своими товарищами, только одна Мадлена осталась равнодушной к его отъезду. Чувствительная девица испытывала даже настоящее облегчение и удовольствие, отделавшись от того, которого восемь лет назад она же с помощью всяких женских хитростей и кокетства соблазнила оставить Париж и начать скитальческую жизнь. Стоя у окна своей комнаты в нижнем этаже, она безучастно следила за сборами изгнанника. Но даже великое несчастье не остается без утешения и ни одно горе не лишено надежды. Все покинули Мольера, которому были так многим обязаны, он остался без всяких средств, а между тем Шарль Койпо, седой площадной певец, седлал уже своего осла Иеремию и приговаривал: «Ну, брат, я, по крайней мере, поеду с тобой! Ты в счастье все делил со мною, а теперь я хочу узнать, не сможет ли мое горло содержать тебя». Наконец серый Иеремия был готов, дорожная сумка, в которую актер уложил свое скудное достояние, привешена к седлу. Койпо взял гитару в руки, насмешливо снял шляпу перед негостеприимной гостиницей и низко поклонился полицейскому служителю.
– Прощай, благородный Пезенас, я по всем ветрам разнесу молву о твоем великодушии! Прощай, достохвальное начальство, благодетельная, уважаемая полиция! Слава о твоей справедливости должна разойтись по всей Франции! И в других местах зреет виноград и радуются люди острому словцу!

