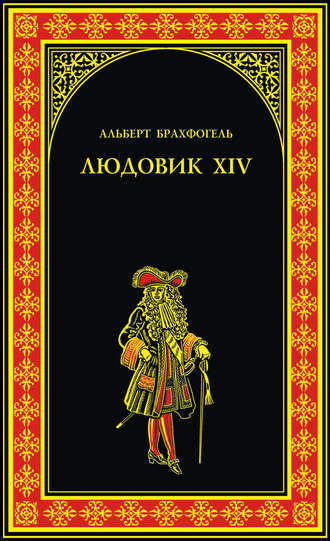
Полная версия
Людовик XIV, или Комедия жизни
Сказав это, он ударил по струнам и пошел, танцуя, вперед, а осел Иеремия и Мольер, комедиант и сочинитель, следовали за ним. Никто, кроме Мадлены, не проводил их взглядом, а взгляд этой женщины не выражал никакого сожаления.
Старый король РенеСидит печально дома,На всякое он словоРифмы не находит,Помогите, дон Фигерас,Посоветуйте, дон Фигерас,О, рифма, ах, рифма,Тяжела она Рене Ратату!Так пел Койпо свою тирольскую песню и шел вперед. Вот прошли уже и старый канатный мост. Полицейский служитель остановился у берега и смотрел им вслед. Солнце зашло за горы, и долина скоро покрылась, как во всякой гористой местности, голубоватой тенью. Законная стража видела, что невольные путешественники замешкались по ту сторону реки. Песня Койпо умолкла, он некоторое время о чем-то оживленно спорил со своим товарищем, потом оба пошли вдоль правого берега реки.
– Гм, так они идут в Монпелье? Это надо записать и сообщить в замок на случай, если что произойдет.
Полицейский служитель посмотрел на монастырь Святого Гвилома и, когда на его золотом кресте исчез последний солнечный луч, он взял пику на плечо и важно, с сознанием исполненной обязанности повернулся к ратуше. Но только он ушел со своего поста, как зашелестел ивняк, густо покрывавший отлогий берег вплоть до самой воды. Двенадцатилетняя девочка быстро вынырнула оттуда, осмотрелась кругом блестящими глазками, отстранила свои красно-белокурые волосы и, подняв узелок, поспешно побежала через мост и пропала в темноте противоположного берега.
Два часа спустя, когда часть общества Бежар печально сидела в верхнем этаже гостиницы, содержательница Мадлена вбежала туда подобно мегере.
– Где Арманда? Мое дитя, Арманда? Видела ты ее, Женевьева?
Луи, младший брат ее, встал испуганно с места.
– Мы? Нет. Мы не видели ее с обеда! Не внизу ли она?
– Я видела, как она связывала в узелок платья, это было под вечер, – поспешно отвечала Женевьева Бежар, двадцатилетняя сестра ее.
– Узелок с платьем? Бесстыдница бежала с Мольером?
О, противная девчонка! Недаром он ласкал ее, когда я ее била! Недаром вешалась она вечно ему на шею! Мое дитя, я хочу, чтобы она вернулась! Поезжай, Жозеф! Ты должен привезти наше дитя!
Мосье Жозеф горько засмеялся:
– Наше дитя? Ха, ха, твое дитя, хочешь ты сказать! Если ты нуждаешься в отцовской помощи, чтобы поймать ее, обратись к маркизу де Модена или герцогу д’Эпернону в Бордо, и они решат между собой, кому принадлежит эта честь!
– Негодный плут, я за тем разве кормила тебя так долго, чтобы ты теперь восстал против меня и отказался от супружеских обязанностей, которые, однако, охотно брал на себя, когда голод гнал тебя лизать мне руки?! Сейчас же запряги лошадей в карету, или я выгоню тебя из труппы и ты пойдешь нищенствовать, подобно вероломному бездельнику Мольеру! Иди и исполни свои обязанности.
Жозеф Бежар с неудовольствием сошел вниз.
– Тарильер, – сказала, вздыхая, директорша, – вы всегда были мне другом и ничего, кроме хорошего, не видели от меня. Скажите, бога ради, не знаете ли вы, куда мог направиться Мольер? Арманда у него, это не подлежит сомнению…
– Мольер хотел идти прямой дорогой в Ним!
– Они, верно, и пошли туда, – заметил де Круасси. – Я видел из окошка, как они проходили мимо монастыря.
– Так в Ним! Завтра утром мы вернемся, и я заставлю поплясать под розгой негодную девчонку! Она уже больше не убежит от меня!
Директорша поспешно вышла, оставив своих товарищей предаваться дальнейшим размышлениям.
Между тем изгнанный Мольер продолжал свой печальный путь вместе с Койпо. Сначала он действительно шел прямо к Ниму, желая быть как можно дальше от Пезенаса, но потом сдался на просьбы Койпо и повернул к Монпелье.
– У меня там старые добрые друзья, милый сын, которые помогут нам, и там все меня любят – и сильные и слабые. Смотри, надежда, может, опять обернулась к тебе, и кто знает, не последует ли за тобой твое счастье из Пезенаса?
– Глупости, Койпо. Счастье преследует только тех, кто в нем не нуждается. Хотя я и не заслужил своей горькой судьбы, но перенесу ее без ропота. У меня уже вертится в голове план, который, по моему мнению, не совсем дурен. Мне больно только то, что ни один из моих старых товарищей сердечно не простился со мной, ни один не одарил меня на прощание слезою, исключая кроткой Дебрие. Даже Арманда не плакала, а я очень любил этого ребенка!
– Вот есть о чем горевать! Ты плохо знаешь комедиантов! Кто раз упал, через того, смеясь, перелезают другие – это всегда так и было. Арманда, несмотря на свою молодость, такое же негодное создание, как и ее мать. Ну веселее смотри вперед на дорогу, а не назад! А скажи-ка лучше, в чем состоит твой план?
– Я согласился идти в Монпелье только потому, что мне оттуда рукой подать в Сетжу, где за дешевую цену меня возьмет с собой шкипер в Прованс. Затем я поеду в Авиньон, туда хотел направиться Гаржу.
– Гаржу? Ты с ума сошел! Идти к Гаржу, когда он твой злейший враг!
– Он им больше не будет. Я виноват в его погибели, и если меня постигло и в Пезенасе то же, что его в Лионе, то я вижу в этом справедливое возмездие, поражающее нас тем же оружием, которым мы раним другого. Я помирюсь с ним, мы соберем новую труппу, я буду писать для него пьесы, и мы увидим, кто в конце концов останется в выигрыше: труппа Бежар или наша.
Мольер остановился.
– Послушай, кто-то зовет нас!..
– Пустяки! Это, верно, была кукушка.
– Мне послышалось, однако, мое имя.
– Ну вот еще! Так ты думаешь перейти к Гаржу? Как бы не так! Неужели ты думаешь, что я за тем пошел за тобой? Нет, не будет этого: я позабочусь, чтобы ты не попал в руки бездельника. Спроси де Круасси и Лагранжа, спроси тех, кто его знает, не самый ли он коварный, жадный, низкий человек. Если он еще…
– Мольер, Батист! – раздалось очень явственно позади них.
– Черт побери, это что такое? Сюда! Здесь! Как будто женский голос.
Они остановились. На ближайшем холмике с узелком в руках появилась двенадцатилетняя дочь Мадлены.
– Арманда?! – воскликнул Мольер и поспешил к ней навстречу. – Дитя мое, что ты делаешь? Ты убежала из дома!
– Наконец-то я поймала тебя! – Она уронила узелок и бросилась к нему на шею. – Ха-ха-ха, конечно, я убежала. Я хочу остаться с тобой, ты меня любишь, я не хочу больше, чтобы старая била меня, и пойду с тобой, мой друг, мое сокровище!
Она целовала его с какой-то вакхической страстью, смеялась, плакала и едва могла говорить от усталости. Сердце ее сильно билось, и она страшно запыхалась. Мольер был глубоко тронут. Девочка эта, его любимица, осталась верна ему, она бросила родителей и привольную жизнь, чтобы делить с ним заботы и лишения. Чувство горячей, ревнивой, полуотеческой, полубратской любви загорелось в его сердце к этому запыхавшемуся, дрожавшему ребенку, который не мог достаточно нацеловаться с ним и был так счастлив.
– Будь благоразумна, милочка, – сказал он, слегка покраснев и отстраняя волосы с ее лица. – Пойдем, уже становится поздно, и ты очень утомлена, бедняжка!
Он больше потащил, чем повел, ее к Койпо.
– Она едва стоит на ногах.
– Шарль, я лучше сам понесу свою сумку, а ты посади ее на Иеремию, пока она не отдохнет.
– Как хочешь, – проворчал Койпо, – но эта девчонка причинит нам только одно беспокойство! Подумаешь, право, какая приятная обуза!
С этими словами он снял с осла различную поклажу, и Мольер посадил на седло Арманду, которая молча взяла повод в руки. Оба мужчины понесли вещи и, не говоря больше ни слова, продолжили свой путь.
– Ну скажи ты мне, негодная девчонка, – вырвалось наконец у Койпо, – и с чего ты выдумала бежать за нами? Дьявольщина, что мы будем делать с тобой? Ты слишком еще молода, чтобы зарабатывать себе на хлеб, и слишком уже велика, чтобы бегать так за мужчинами!
– Почему я бегу за Мольером, папа Шарль? Ха-ха, потому что хочу! Я хочу теперь иметь свою волю и стоять на собственных ногах! Теперь уже навсегда останусь с Мольером. Что ж, я разве не могу петь и плясать? Не правда ли, Батист, ты скоро сделаешь из меня прекрасную актрису? А ты думал, Койпо, что я хочу быть вам в тягость. Нет, у меня тоже есть своя гордость. Если же вы меня приведете обратно домой, я все-таки убегу от старой! Где вы переночуете?
Мольер колебался между умилением, тягостным беспокойством и замешательством. Он давно знал, что Арманда – сумасбродное существо, которое трудно обуздать, и знал также, что она могла быть чрезвычайно сердечной. Самостоятельность же ее, страстность и понятия, несвойственные ее возрасту, немало смущали его.
– В Пти-де-Пре, там, внизу, – отвечал он коротко. – Нам осталось еще добрых три четверти часа до того места, Шарль.
Вдруг на кустах и на дороге показался свет. Путешественники обернулись с испугом. Лошадиный топот раздавался недалеко от них.
– Нас преследуют, – воскликнул Койпо, – и, верно, благодаря этой проклятой девчонке! Это люди принца.
– Которые обвинят нас в том, что мы тебя отняли у матери, Арманда!
– Ну, этого не будет!
И девочка соскользнула с Иеремии.
– Прощайте, я побегу вперед, чтобы они не нашли меня с вами.
– Но я скажу, что ты была здесь и помогу разыскать тебя. Твоя мать имеет на тебя права, и я не хочу, чтобы меня считали похитителем детей!
– В таком случае я скажу им, что убежала сама. Мать, конечно, прибьет меня до крови и запрет, но, как только я буду свободна, я опять убегу и отыщу тебя.
Тут девочка с решительным видом пошла навстречу всадникам, которые приближались к ним в числе десяти или двенадцати человек.
– Это он, мы нашли его! – закричало несколько голосов, и шевалье де Фаврас подскакал к Мольеру.
– О, милостивый государь, – воскликнула Арманда, – не делайте ему ничего. Я ведь сама убежала от матери!
– Мы не заманивали ее, честью заверяем вас, господин! – с умоляющим видом обратился к ним Койпо. – Возьмите ребенка и оставьте нас спокойно продолжать путь, мы честные люди.
– Но, боже мой, – сказал Фаврас, – я не понимаю, о чем вы говорите! Что нам за дело до девочки и кому она принадлежит? Мы приехали за господином Мольером, нам приказано немедленно везти его обратно в Пезенас. Его высочество только что узнал о вашем отъезде и пожелал опять видеть вас. Вы должны ехать.
– Принц хочет видеть меня?! Честный господин, из милости прошу, отпустите меня! После аудиенции я не желаю иметь еще подобную.
– Не могу помочь вам, Мольер, приказание слишком строго на этот счет, а болезненное состояние принца заставит нас даже прибегнуть к силе, если вы не захотите ехать добровольно.
Не бойтесь ничего! Ручаюсь вам за самый лучший прием.
Ни вы, ни кто-либо из ваших друзей не должны оставить Пезенас с горькими чувствами. Вы, право, сделаете доброе дело, Мольер, если пойдете с нами к его высочеству.
Мольер, Арманда, Койпо и старый Иеремия вернулись наконец в сопровождении всадников около полуночи в Пезенас и, прежде чем вернулась Мадлена, Арманда нашла уже себе ночной приют у удивленной девицы Дебрие. Мольера же привезли со всем его имуществом в замок и поместили в веселенькой, хорошо меблированной комнате.
– Отдохните тут спокойно до завтра! Все, что вы ни пожелаете, будет к вашим услугам. Вы здесь не пленник, а гость принца. Его высочество объявил, что не заснет, пока не узнает о вашем приезде. Спокойной ночи.
– Но какие же намерения его высочества?
– Завтра вы больше узнаете об этом. Верьте только моему слову, что намерения самые лучшие, и будьте спокойны.
Задумчиво лег актер в постель. Прошло немало времени, пока усталость не победила наконец возбужденное состояние его духа. Ему снилось, что Фортуна была великаншей, а он – карликом. Она играла им как мячиком, и он находился в смертельном страхе, что вот-вот она уронит его, и медное колесо, на котором она каталась по свету, переедет через него и раздавит. У Фортуны было безжалостное лицо принца.
Существуют испокон века благородные, богато одаренные натуры, воззрения и понятия которых так противоречат их воспитанию, обстановке и положению в свете, что они становятся похожими на человека, носящего железное платье. Это платье принуждает к движениям, не имеющим ничего общего с внутренним миром, и заставляет всегда поступать против свободной воли. Такие люди обыкновенно находятся в борьбе с собой и выходят из нее такими же рабами обстоятельств, какими были прежде. Только большое несчастье способно заставить их взглянуть на жизнь с другой точки зрения. Оно приводит их к сознанию собственного ничтожества и, разрывая все прежние, стесняющие оковы, возвращает человеку его собственный, лучший, до тех пор извращенный характер.
Такая натура была у принца Конти, и таким тяжелым испытанием была для него смерть Серасина. Его сокрушение и самоосуждение были ужасны!.. Счастье еще, что его прежний противник, граф д’Аво, и энергичный президент де Бокер находились при нем. Оба действовали не только как честные слуги правительства, но смотрели еще на Конти как на нравственно больного, и чем больше в эти ужасные дни заглядывали они в глубину его потрясенной души, тем больше могли и оценить его. Можно было подумать, что Конти обратит весь свой гнев на аббата Даниеля как на действительного виновника этой незаслуженной смерти и что неприязненные его чувства к Мазарини усилятся. Аббат очень этого боялся, но на деле вышло иначе. Для глубоко чувствующей души Конти при ее нравственном пробуждении последние слова Серасина стали законом. Первым его делом, когда разум несколько пришел в себя и физические страдания поутихли, было послать от собственного своего имени донесение Мазарини, в котором, говоря о прискорбном происшествии, он убедительно просил освободить его от важных обязанностей, возложенных на него королем. Он после такого происшествия не считал уже себя способным представлять королевское достоинство и внушать доверие, которое необходимо для исполнения этих высоких обязанностей. Он просил кардинала только об одной милости, а именно: помочь ему искупить перед семейством умершего совершенную против него несправедливость. Граф д’Аво сам повез это послание в Париж.
На второе утро принц пожелал увидеться со вдовой Серасина. Их встреча была потрясающа. Счастье, что бедной женщине слишком хорошо был известен характер ее мужа. Она сознавала, несмотря на свое горе, что если б нож Серасина попал в принца и убил его, она бы стала женой преступника, которого во всяком случае постигло бы позорное наказание, и она с детьми была бы также несчастна. Сильное отчаяние принца несколько уменьшило ее собственное, а пожалованное ей самым трогательным образом в дар богатое поместье Petit des Pres по ту сторону Пезенаса вызвало с ее стороны полнейшую признательность.
– Если бы вы решились, сударыня, смотреть на меня несчастного, похитившего у вас ваше лучшее достояние, как на друга, который всю свою жизнь будет вспоминать о вашем супруге с любовью и раскаянием, вы бы сделали доброе дело и поддержали бы меня настолько, что я смог бы более спокойно прожить остаток дней. Позволите ли вы мне иногда видеться с вами и считать себя опекуном ваших детей?
– Я сделаю это, ваше высочество, – отвечала она, глубоко тронутая, – и убеждена, что этим исполнится только воля моего мужа.
Так они расстались. Конти вскоре после того вспомнил о Мольере и приказал с почти лихорадочным нетерпением ехать за ним. Затем вечером велел позвать дрожащего аббата и успокоил его:
– Я желаю, чтобы вы продолжали исполнять в Пезенасе прежние свои обязанности. Не хочу подвергать вас другому наказанию, как угрызениям собственной совести.
Но он отклонил визит госпожи Кальвимон, несмотря на ее частые просьбы – через Марсана – увидеться с ним. Его мнение о ней и об аббате Даниеле проявлялось весьма сдержанно, но выражало такую сухость и холодность, что ясно было видно, насколько он утратил доверие к своим прежним приближенным. Он сделал исключение только в пользу одного человека, чье низкое происхождение, казалось, не оправдывало вовсе этих чувств, но они-то внезапно и возвели его на такую высоту, о которой он никогда и не мечтал.
Когда на другое утро паж Лорен пришел звать Мольера к принцу, Мольер почувствовал не страх, но какое-то стеснение сердца. Собственный опыт, смерть Серасина и его знание знатных людей и их причуд привели к тому, что он не особенно доверял своему прежнему школьному товарищу. Между тем Мольер был актер, следовательно, смелости у него было довольно; никто не знал лучше него человеческого сердца, и сам он не находился уже в том положении, в котором испытывают страх: терять ему было нечего. Принц сидел один в своем кабинете. Он был весь в черном и очень бледен. Его черты ясно обнаруживали томительную душевную борьбу. Он встал.
– Оставь нас вдвоем, Лорен.
Медленно подошел он к Мольеру, вставшему с глубоким поклоном у дверей, и положил ему руку на плечо.
– Я не думал, Мольер, что ваше мнение насчет людей, мне подобных, так скоро оправдается. Слишком поздно для моего спокойствия является сознание, что могущественные и высокорожденные могут возбуждать иногда больше сожаления и презрения, чем актер, зарабатывающий балагурством свой скудный хлеб. Батист, товарищ моего детства, простите мне мою несправедливость! Облегчите мое сердце по крайней мере в этом отношении.
Он с волнением протянул ему руку. Мольер поцеловал ее.
– Одно сознание, монсеньор, что вы нуждаетесь в прощении бедного комедианта, уже достаточно, чтобы искупить вашу вину. Но вы неверно судите о себе. Вы не более как больной, который должен быть сам своим врачом. Разве ваш дух недостаточно силен, чтобы уврачевать те раны, которые вы нанесли себе?
– Этой-то силы и недостает во мне! Никто так не беспомощен, как я! Сердце, в котором развились такая сильная ненависть к себе самому, такое отвращение к жизни и такое сознание своей пустоты, разбито навеки и его никто не вылечит!
– Скажите лучше, что вы не хотите вылечить себя.
Не взяться ли мне за это дело? Позволите ли вы такому маленькому человеку, как я, быть вашим врачом?
– О, садитесь и выслушайте меня, – сказал принц. – Много людей окружает меня, и все уверяют в своей преданности, но нет ни одного, на которого я мог бы вполне положиться. Между тем я нуждаюсь в честной душе и совершенно открытом сердце, которому бы мог довериться, перед которым мог бы свободно излить свою душу, которое бы стало моим помощником и руководителем, не заставляя опасаться, что оно злоупотребит моим доверием. Таким человеком был для меня покойный, и я сам лишил себя его. Займите его место, старый мой товарищ, бросьте вы это несчастное звание, которое вовсе не соответствует вашему образованию, и станьте моим секретарем!
Лицо Мольера выразило безграничное удивление.
– Ничто не могло быть для меня неожиданнее и лестнее этого предложения, ваше высочество! И именно его-то я никак не могу принять. Если бы я даже взял на себя эту обязанность, то не сумел бы ее исполнить.
– Вы не хотите быть моим поверенным, Мольер! – воскликнул Конти, и его глаза увлажнились. – Единственный человек, на которого я рассчитывал, бежит от меня! Правда, я и не подумал, что вы можете опасаться участи Серасина!
– Неужели, принц, вы допускаете, что во мне говорит страх за свою жизнь? Как, однако, вы плохо знаете самого себя! Вам, по-видимому, и в голову не приходит, что такому благородному человеку, как вы, достаточно один раз совершить тяжкую ошибку, чтоб потом никогда в жизни не повторять ее! Если бы не смерть Серасина, вы, вероятно, совершили бы еще тысячи несправедливостей, погубили бы и оскорбили множество невинных людей, думая в своем небрежном высокомерии, что действуете совершенно справедливо. Теперь вы не обидите и самого ничтожного человека: смерть Серасина сделала вас чувствительнее к судьбе ближних и пробудила в вас человека. Итак, не страх удерживает меня принять ваше предложение, а сознание своей неспособности.
– Если дело только за этим, то вам нечего колебаться. Нет сомнения, что бывший адвокат имеет достаточно знаний и опыта, чтобы быть мне хорошим помощником. Ведь ваше настоящее положение не очень завидно?
Мольер улыбнулся.
– Оно не хуже и не лучше миллионов других, но только более соответствует моим вкусам. Я охотнее стану играть самую плохую комедию, чем сяду за деловой стол. Кто уже истаскал пару сапог на сцене, тот не годится для обыденной жизни. Положим, что ради вас я и совершил бы насилие над собой, но вы скоро стали бы тяготиться мною, а я – вами. Деликатность удержала бы вас отказать мне, благодарность воспретила бы мне покинуть вас. Наши отношения делались бы с каждым днем натянутее, стеснительнее и стали бы наконец так невыносимы, что мы бы обрадовались первой возможности расстаться. Став вашим придворным, я мало-помалу приобрету все пороки тех людей, которые вас окружают и которых вы презираете. Оставаясь же актером, я могу надеяться, что мои шутки иногда понравятся вам и рассеют ваше мрачное настроение. Для меня нет большего наслаждения, как подмечать слабости и пороки людей, представлять их в смешном виде, смеяться самому и заставлять хохотать других над собственными недостатками. Я не считаю себя ни великим актером, ни замечательным писателем, но все же я не променяю своих занятий ни на какие блага мира. О, ваше высочество, не отнимайте у меня этой радости, этого счастья! Я ни на что другое не способен.
– Но вы можете быть по крайней мере моим другом, удивительный человек!
– Эх, ваше высочество, я давно уже ваш друг в душе.
Но это – актерская дружба, а она очень свободна. Вам нельзя будет пожаловаться, если впоследствии вы убедитесь, что я еще эгоистичнее других.
– Ну я готов испытывать этот эгоизм. Но слушайте, Мольер, если ваш гений, как сочинителя и комика, так же велик, как богато ваше воображение и остроумие, то я предсказываю, что вы будете когда-нибудь величайшим писателем Франции, а, может быть, и всего света. Но все это еще впереди, а пока, так как я благодаря вашему уму и веселости так же нуждаюсь в вас, как пациент в докторе, то вот какое я делаю вам предложение: следуйте своему призванию, оставайтесь здесь и играйте с труппой Бежар, а в свободное время будьте всегда со мною.
– Дорогой, прекрасный принц, – воскликнул тронутый Мольер, – вашей милостью и благоволением вы возвышаете меня в собственных глазах! И если впоследствии вы и в самом деле пожалеете, что отличили таким образом комедианта Мольера, то счастье заслужить вашу привязанность останется неизгладимым в моем воспоминании и, подобно солнцу, осветит мрачные часы моей жизни.
– Итак, решено – вы мой гость, – сказал Конти, крепко пожимая руку Мольера. – Вы женаты?
– Благодаря Богу, нет, но тем не менее влюблен!
– Ха-ха, ну это ваши частные дела. Может быть, вы желаете, чтобы кто-нибудь из труппы жил с вами, тогда, пожалуйста, не стесняйтесь. Я позабочусь, чтобы вы чувствовали себя хорошо и всякий обращался бы с вами, как с человеком, который мне очень понравился. Сколько времени я еще останусь в Пезенасе и сколько буду управлять Лангедоком – неизвестно. Я просил о своем увольнении после печальной кончины Серасина.
Но как бы там ни было, а о вас позаботятся. Кроме служителей и моих кавалеров, в доме живет еще аббат. Он неблагодарный бездельник, но тем не менее умный человек, общество которого очень приятно. Я еще должен упомянуть об одной даме – моей приятельнице!
– Которую я вполне уважаю, но… – Мольер внезапно замолчал.
– Но что же?!
– Которая тем опаснее для вас, что она или умнее аббата, или… простите ваше высочество… вы слепы.
– Как, Мольер? Почему вы так думаете?
– Эх, принц, если все, окружающие вас, глупцы и интриганы, то почему же именно эта дама будет ангелом добродетели? Подобные женщины никогда почти не бывают верны и преданны. Да было бы и глупо, если б она не пользовалась своим положением и не старалась вознаградить себя как следует.
– Этого нет у Флоранс Кальвимон. Она верна до самопожертвования, потому что любит меня. Она это доказала в бедственные времена Фронды, и я уважаю ее.
– Ха-ха, стало быть, и вы, принц, принадлежите к числу людей, которые закрывают всегда глаза перед теми предметами, которых не хотят видеть и воображают потом, что их совсем не было.
– В этот раз, друг мой, ваше знание человеческого сердца совершенно ошибочно. Если б я когда-нибудь увидел, что Флоранс обманывает меня, я бы не закрывал глаза, а расстался бы с ней скорее, чем вам нужно, чтобы переодеться в антракте. Но я никогда не сделаю подобного открытия.
– Ну конечно, ваше высочество. Дама эта тем увереннее может предаваться своим страстям, чем крепче держит высокого поклонника в своих сетях.
Принц с неудовольствием вскочил с места.
– Вы говорите так, как будто вам что-нибудь известно!
– Мне? Ничего! Что может мне быть известно? Перед вашим приездом я провел всего дня два в Пезенасе. Я заметил только, что эта госпожа находит очень интересным Лагранжа, нашего актера. А он не такой человек, чтобы женщина могла избегнуть его влияния, если это ему обещает приключение.

