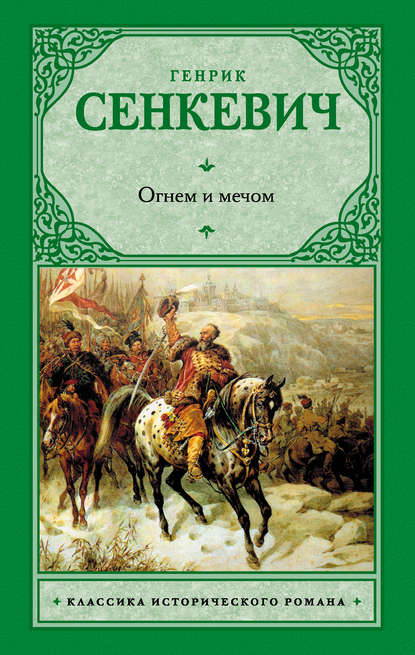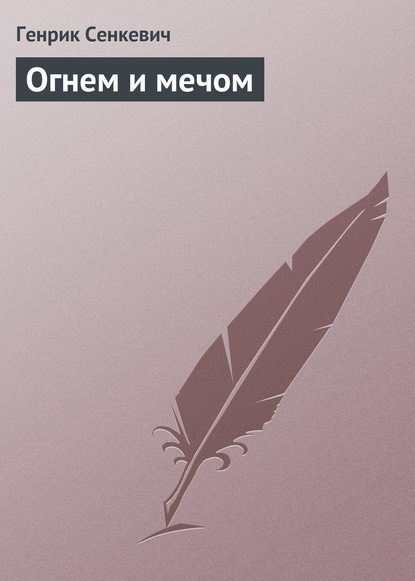полная версия
полная версияПан Володыевский
Это были гости по большей части опечаленные; но не было недостатка и в веселых гостях. Ксендз Каминский на Масленицу прислал в Хрептиев на попечение Баси свою племянницу, панну Камивскую, дочь звенигородского ловчего, и, кроме того, в один прекрасный день как с неба свалился молодой пан Нововейский, который, узнав о пребывании отца в Хрептиеве, тотчас же взял у пана Рущица отпуск и поспешил на свидание с отцом.
Молодой Нововейский очень изменился за последние годы; во-первых, на верхней губе и у него зачернели короткие усы, которые, хотя не закрывали ряды белых волчьих зубов, все же красиво вились. Во-вторых, хотя парень и всегда был высокого роста, но теперь он стал почти великаном. Казалось, что такая густая и всклоченная шевелюра только и могла удержаться на такой огромной голове, как у него, а такая огромная голова – только на таких сказочных плечах могла найти должную опору. Лицо у него было смуглое, загорелое от ветра; глаза сверкали, как угли; на его лице была написана удаль и лихость. Когда он брал большое яблоко, он мог так спрятать его в своей огромной руке, точно его там и не было; а когда клал на колени горсть орехов и нажимал на них рукой, от них оставался только порошок. Все ушло у него в силу; а в общем он был худощав, со впалым животом, и только грудь у него была как каменная.
Он легко ломал подковы даже без особенного напряжения и скручивал железные прутья на шее солдат; он казался еще выше, чем был на самом деле; когда он ступал, под ним трещали половицы; если он случайно задевал скамью, то от нее отлетали щепки.
Словом, это был здоровенный парень, в котором жизнь, здоровье, отвага и сила кипели так, как кипяток в котле. Казалось, у него – огонь в груди, от которого он может вспыхнуть. Не прочь он был и выпить. В битву он шел со смехом, напоминавшим ржание коня, а рубился так, что солдаты после каждой битвы осматривали всех, кого он убивал, чтобы подивиться его необыкновенным ударам. С детства привыкший к степи, к войне, к сторожевым постам, он, несмотря на свою горячность, был осторожен и проницателен; знал все татарские уловки, и после пана Володыевского и Рущица считался лучшим загонщиком. Старик Нововейский, вопреки всем своим угрозам и предупреждениям, принял сына не очень сурово; он боялся, как бы сын не обиделся и опять не ушел от него на одиннадцать лет. В сущности, самолюбивый шляхтич был доволен таким сыном, который денег из дому не брал, сам превосходно умел устраиваться в жизни, снискал славу между товарищами, гетманскую благосклонность, дослужился до офицерского чина, до которого не могли дослужиться многие, несмотря на протекцию. Отец полагал также, что сын, одичавший в степи и в войнах, пожалуй, не захочет покориться родительской власти, и потому счел за благо не подвергать его испытанию. Сын хотя и упал к ногам отца, как это следовало, но смело смотрел ему в глаза и без всяких обиняков на первые же укоры отвечал:
– Отец, на словах ты меня коришь, а в душе небось радуешься: имени твоего я не опозорил, и если я убежал в полк, то на то я и шляхтич.
– А может, и басурман, коли ты одиннадцать лет глаз домой не показывал, – сказал старик.
– Не показывал, боясь наказания, а оно опозорило бы мое офицерское звание. Я ждал письма с прощением. Не было письма – не было и меня!
– А теперь уж не боишься? Молодой воин только засмеялся.
– Здесь распоряжается военная власть, и перед ней даже родительская должна уступить. Знаете что, благодетель, лучше обнимите-ка меня, уж я вижу, что вам этого хочется.
Сказав это, он раскрыл объятия, а пан Нововейский-отец не знал, что ему делать. Он как-то терялся перед этим сыном, который убежал мальчиком из дому, а теперь возвращался зрелым мужем, покрытым воинской славой. Многое льстило отцовскому самолюбию пана Нововейского, и он рад бы прижать сына к своей груди, и если колебался еще, то не желая уронить авторитет отца. Но сын схватил его в объятия. Затрещали в этих медвежьих объятиях кости старого шляхтича, и это окончательно растрогало старика.
– Что делать?! – воскликнул он. – Сам чует, шельма, что на собственном коне ездит, и в ус не дует. Если бы это было у меня в доме, я бы, конечно, так не размяк, а здесь что делать? Ну, поди-ка сюда!
И они снова обнялись, после чего молодой Нововейский стал спешно расспрашивать про сестру…
– Я велел ей держаться в стороне, пока не позову, – отвечал отец, – девка на месте усидеть не может!
– Ради бога! Где она?! – воскликнул сын.
И, открыв дверь, он стал звать так громко, что эхо ответило ему.
– Эвка! Эвка!
Эвка, которая ожидала в соседней комнате, вбежала тотчас, но не успела она вскрикнуть: «Адам», как сильные руки подхватили ее и подняли на воздух. Брат всегда очень любил ее; часто, защищая от жестокости отца, он принимал на себя ее вину и получал следовавшую ей порку. Вообще пан Нововейский был деспотом в семье, почти жестоким, и теперь девушка приветствовала в этом могучем брате не только брата, но и будущего заступника и защитника. Он целовал ее в голову, в губы, целовал ее руки, по временам отстранял ее от себя, смотрел на нее и весело восклицал:
– Красивая девка! Ей-богу!
Потом еще прибавлял:
– Ишь, выросла! Печка, а не девка!
А она вся сияла от радости. Потом они стали быстро разговаривать о долгой разлуке, о доме, о войнах. Старый пан Нововейский ходил вокруг них и ворчал про себя. Сын очень импонировал ему, но минутами им овладевало беспокойство за свою будущую власть. Это были уже времена, когда родители имели огромную власть над детьми, впоследствии власть эта стала даже безграничной. Но пан Нововейский сразу понял, что этот сын его – загонщик, солдат из диких станиц – действительно «ездил на собственном коне». Пан Нововейский ревниво дорожил своей властью. Он был, конечно, уверен, что сын всегда будет почитать его, что он будет отдавать ему должное уважение. Но будет ли он ему подчиняться так, как подчинялся, будучи подростком? «Ба! – думал старик. – Разве я сам посмею обращаться с ним как с подростком? Этот шельма, поручик, импонирует мне, ей-богу!» К тому же пан Нововейский чувствовал, что его отцовское чувство с каждой минутой растет и что он скоро будет питать слабость к этому великану сыну.
Между тем Эвка щебетала, забрасывая брата вопросами: когда он вернется, не поселится ли он у них совсем, не женится ли? Она, конечно, ничего не знает, но слыхала, что воины очень влюбчивы. Она даже вспомнила, что ей говорила это пани Володыевская. Какая она прелестная и добрая, эта пани Володыевская! Красивее и лучше ее во всей Польше не найти. Разве что одна Зося Боская может с нею сравниться…
– Кто это, Зося Боская? – спросил Адам.
– Она гостит здесь с матерью, ее отца взяли в плен. Ты увидишь ее и полюбишь!
– Давайте сюда Зосю Боскую! – кричал молодой офицер.
Отец и Эвка громко захохотали над такой готовностью, а сын сказал им:
– Как от любви, так от смерти, никто не уйдет. Я еще молокососом был, а пани Володыевская панной, когда я в нее влюбился. Господи боже! Как я любил эту Баську! Да что же? Признался я ей как-то – и точно мне по морде дали: «Ты это, мол, куда лезешь!» Оказалось, что она уже тогда любила пана Володыевского, – и что тут говорить! – она была права.
– Почему это? – спросил старый Нововейский.
– Почему? Потому что я, не хвастаясь, на саблях никому не уступлю, а он со мной и двух минут баловаться бы не стал. И кроме того, загонщик он несравненный, которому сам пан Рущиц в пояс должен кланяться. Что там Рущиц? Сами татары его обожают! Это величайший воин во всей Речи Посполитой.
– А как они любят друг друга! Ай, ай, даже смотреть завидно! – прибавила Эвка.
– Ишь, оскомину набила. Да и то сказать – тебе пора! – воскликнул Адам. И, подбоченившись, он, как конь, стал мотать головой и подсмеиваться, а она ответила скромно:
– У меня и в уме этого нет!
– Ведь тут и офицеров, и хорошего общества немало!
– Да, кстати, не знаю, говорил ли тебе батюшка, что здесь Азыя? – спросила Эва.
– Азыя Меллехович? Липок? Я его знаю. Он хороший солдат.
– Но ты не знаешь, – сказал старик Нововейский, – что он не Меллехович, а тот Азыя, который с тобой воспитывался!
– Господи боже! Что я слышу! Скажите пожалуйста! Иной раз мне это приходило в голову, но мне сказали, что его зовут Меллехович, и я сейчас же подумал: «Это не тот, – а Азыя у татар имя обыкновенное». Столько лет я его не видал, – неудивительно, что я не был уверен. Наш был некрасив и приземист, а этот красавец!
– Наш-то он наш, – говорил старик Нововейский, – но знаешь ли, что оказалось? Чей он сын?
– Почем я могу знать?
– Великого Тугай-бея!
Молодой Нововейский ударил себя руками по коленкам.
– Ушам не верю! Великого Тугай-бея? Значит, он князь и родственник ханов? Во всем Крыму нет более благородной крови, чем Тугай-беева!
– Вражья кровь!
– Врагом был отец, а сын служит нам. Я сам видел его чуть не двадцать раз в сражении. Пан Собеский хвалил его в присутствии всего войска и назначил сотником. Я очень рад буду его повидать. Славный солдат! От всего сердца рад буду его встретить.
– Но только ты не фамильярничай с ним слишком.
– Почему же? Разве он мой или наш слуга? Я солдат, он солдат, я офицер, он офицер. Ба! Будь это какой-нибудь мещанинишка из пехоты – это другое дело! Но если он Тугай-беевич, то ведь в его жилах течет не какая-нибудь кровь. Князь, и баста, а о шляхетской грамоте сам гетман для него похлопочет. Как же мне задирать перед ним нос, коли я побратим с Кулак-мурзой, с Башки-агой, с Сулиманом? А все они вместе не постыдились бы пасти овец у Тугай-беевича…
Эвке почему-то захотелось расцеловать брата, она села возле него и стала гладить своей красивой рукой его косматые волосы. Приход Володыевского прервал эти ласки.
Молодой Нововейский быстро вскочил, чтобы приветствовать старшего офицера, и сейчас же стал оправдываться, почему он раньше не явился к коменданту: он приехад в Хрептиев не по службе, а как частный человек. Володыевский ласково обнял его и сказал:
– Кто же станет обвинять тебя, товарищ, что после стольких лет разлуки с отцом ты прежде всего бросился к его ногам. Другое дело служба, но от Рущица у тебя, вероятно, никаких поручений нет?
– Только поклоны! Пан Рущиц отправился к Ягорлыку – ему дали знать, что там было найдено на снегу много конских следов. Письмо вашей милости он получил и немедленно отправил в орду к своим родственникам и побратимам, чтобы они там искали и расспрашивали; сам он не писал, потому что, он говорит, у него рука тяжелая, никакого навыка в этом искусстве у него нет.
– Он этого не любит, я знаю, – сказал Володыевский. – У него сабля – первое дело!
Тут маленький рыцарь пошевелил усиками и не без хвастовства прибавил:
– Но ведь за Азбой-беем вы гонялись более двух месяцев – и все даром!
– А ваша милость его проглотили, как щука плотичку, – с восторгом сказал пан Нововейский. – Бог, верно, у него разум отнял, если он от пана Рущица бежал сюда к вашей милости. Вот так попал! Ха, ха!
Эти слова приятно пощекотали самолюбие маленького рыцаря, и, желая за любезность отплатить любезностью, он обратился к пану Нововейскому-отцу и сказал:
– Господь Бог не дал мне до сих пор сына, но если бы когда-нибудь он это сделал, то я желал бы, чтобы он был похож вот на этого кавалера!
– Ничего особенного! Ничего особенного! – ответил старый шляхтич. Но, несмотря на это, даже засопел от удовольствия.
– Тоже редкость нашли!
Между тем маленький рыцарь погладил Эвку по щеке и сказал:
– Видите ли, ваць-панна, я не юноша, но Баська моя почти одних лет с вами, вот почему я иной раз считаю нужным доставлять подобающие ее возрасту удовольствия… Здесь ее все любят, и я надеюсь, что и вы согласитесь, что есть за что?
– Боже мой! – воскликнула Эвка. – Во всем свете не найти такой, как она! Я только что об этом говорила.
Маленький рыцарь обрадовался, лицо у него просияло, и он сказал:
– Вы в самом деле это говорили? – спросил он.
– Ей-богу, говорили! – воскликнули вместе отец и сын.
– Ну тогда оденьтесь понаряднее, я потихоньку от Баси выписал музыкантов из Каменца. Я приказал им инструменты в солому спрятать, а ей я сказал, что приехали цыгане ковать лошадей. Сегодня вечером плясать будем вовсю! Она это любит, хоть и корчит из себя степенную матрону.
Сказав это, пан Михал начал потирать руки и был очень доволен собой.
XIII
Снег падал такими густыми хлопьями, что совсем засыпал станичный ров и частокол. На дворе стояла темная и вьюжная ночь, а дом хрептиевского коменданта был ярко освещен. Оркестр состоял из двух скрипок, контрабаса, двух чеканов и одной валторны. Скрипачи лихо водили по струнам, раскачиваясь во все стороны, у чеканистов и валторнистов надувались щеки и наливались кровью глаза.
Старшие офицеры и все старшее общество сидели на скамьях у стен, друг возле друга, как сидят белые голуби на краю крыши, и, попивая мед и вино, смотрели на танцующих. В первой паре шел с Басей пан Мушальский, несмотря на свои пожилые годы, такой же страстный танцор, как и стрелок. Одетая в белое парчовое платье, обшитое горностаем, она была похожа на розу в снегу. Дивились ее красоте и стар, и млад, и восклицания восторга невольно вырывались из груди рыцарей; хотя Нововейская и Зося были несколько моложе ее и тоже необыкновенно красивы, но она все же была красивее их. В глазах ее светились радость и веселье; проходя мимо маленького рыцаря, она улыбкой благодарила его за удовольствие, и из-под ее полуоткрытых розовых губ виднелись белые зубки, и вся она в белой парче сверкала, как белое пламя, и ослепляла своей красотой: красотой ребенка, женщины и цветка…
Развевались за ней откидные рукава, точно крылья большой бабочки, а когда она, приподняв слегка платье, приседала, делая поклон своему кавалеру, она казалась видением, уходящим в землю, призраком ясной летней ночи…
Снаружи дома солдаты, прильнув к освещенным стеклам своими усатыми лицами, глядели в комнату. Им очень льстило, что их обожаемая пани всех затмила своей красотой. Все они были ярые сторонники Баси, а потому не скупились на колкие замечания насчет Боской и Нововейской, и громким криком приветствовали каждое ее приближение к окну.
Володыевский был полон счастливой гордости; при всяком движении Баси он кивал в такт головой; пан Заглоба, стоявший возле него с кубком, притопывал, проливая вино на пол; минутами они переглядывались в немом восторге.
А она мелькала и мелькала по комнате, все веселее, все прекраснее. Вот так пустыня! То битва, то охота, то веселье и танцы, и музыканты, и столько воинов, а муж – самый великий между ними, и любящий, и любимый! И чувствовала Бася, что все ее любят, все восхищаются ею, все обожают, что маленький рыцарь счастлив этим, сама она чувствовала себя такой счастливой, как птичка, которая с наступлением весны порхает в майском воздухе с громким и-радостным щебетанием.
Во второй паре танцевала, одетая в малиновый кунтуш, Нововейская с Азыей. Молодой татарин не говорил с нею ни слова; он был совершенно упоен белым видением, мелькавшим в первой паре; но Эва думала, что у него захватывает дыхание от волнения, и старалась ободрить его сначала легкими, потом более сильными пожатиями руки. Азыя отвечал на эти пожатия порою так сильно, что она едва удерживалась от крика, но делал он это машинально, потому что думал только о Басе, видел только ее и в душе повторял страшное обещание, что если бы ему пришлось сжечь половину Речи Посполитой, то он сожжет, только бы она была его.
По временам, когда к нему возвращалось сознание, у него вспыхивало желание схватить Эвку за горло, душить ее и издеваться над ней за ее пожатия и за то, что она становилась между ним и Басей. Тогда он пронизывал ее своим жестким соколиным взглядом, и ее сердце начинало биться сильнее: она думала, что он от любви смотрит на нее такими хищными глазами.
В третьей паре танцевал молодой пан Нововейский с Зосей Боской. Она, похожая на незабудку, семенила возле него с опущенными глазами, а он походил на дикую лошадь и скакал, как дикая лошадь. Из-под его каблуков летели щепки, волосы его поднялись вихрем, лицо раскраснелось, ноздри раздувались, и он кружил Зосю, как вихрь кружит лист, и поднимал ее на воздух. Он так разошелся, что не знал уже меры, и так как он, живя на окраине Диких Полей, по целым месяцам не видал женщин, то Зося с первого взгляда так ему понравилась, что он в одну минуту влюбился в нее без ума. Время от времени он глядел на ее опущенные глаза, на ее разрумянившееся личико и даже фыркал от удовольствия и все сильнее стучал каблуками, все сильнее прижимал ее на поворотах к своей широкой груди и хохотал от радости, и все сильнее любил.
А Зося даже испугалась, но этот испуг не был ей неприятен: ей тоже понравился этот вихрь, который подхватил и носил ее. Настоящий дракон! Она видала разных кавалеров в Яворове, но такого огненного она никогда еще не встречала, ни один из них так не танцевал, ни один так не прижимал к груди. Настоящий дракон! Что делать с таким, разве можно такому сопротивляться?
В следующей паре танцевала с одним красивым кавалером панна Каминская, а далее пани Керемович и пани Нерсесович; хотя они и были мещанки, но их тоже пригласили – обе они были прекрасно воспитаны и обе были богаты. Степенный Навираг и два анардрата все с возраставшим изумлением смотрели на польские танцы. Старшие, попивая мед, беседовали все шумнее, но оркестр заглушал все голоса. В комнате веселье с каждой минутой росло.
Вдруг Баська, оставив своего кавалера, вся запыхавшись, подбежала к мужу и, сложив руки, сказала:
– Михалок, солдатам так холодно на дворе, прикажи дать бочку!
Маленький рыцарь был так весел, что начал целовать ее руку и воскликнул:
– Чтобы тебе угодить, я и крови своей не пожалею!
Потом он сам бросился во двор, чтобы сказать солдатам, кто выхлопотал для них бочку вина: он хотел, чтобы они были благодарны Басе и тем сильнее ее любили.
Когда же в ответ все солдаты подняли такой крик, что снег стал сыпаться с крыши, маленький рыцарь закричал им:
– Да гряньте из мушкетов в честь пани!
Вернувшись в комнату, он застал Басю танцующей с Азыей. Когда липок обнял рукой ее нежную фигуру, когда он почувствовал ее горячее дыхание, глаза у него почти совсем закатились, и весь мир закружился перед ним; он готов был отказаться от рая, от вечной жизни, от всех наслаждений, всех гурий и хотел только ее.
Вдруг Бася, увидев мельком малиновый кунтуш Нововейской и сгорая от любопытства, объяснился ли Азыя в любви девушке, спросила:
– Вы еще не делали предложения?
– Нет.
– Почему?
– Еще не время, – ответил татарин со странным выражением лица.
– Вы очень любите?
– Больше жизни! Больше жизни! – ответил татарин тихим, хриплым голосом, похожим на карканье ворона. И они продолжили танцевать вслед за Нововейским, который шел теперь в первой паре. Другие успели уже переменить дам, а он все еще не выпускал Зоей; по временам только он сажал ее на скамейку отдохнуть и перевести дыхание, а потом плясал опять.
Наконец он остановился перед оркестром, одной рукой обнял Зосю, другой подбоченился и крикнул музыкантам:
– Краковяк, музыканты! Ну же!
Музыканты не смели ослушаться и заиграли краковяк. Тогда Нововейский, притопывая, запел громким голосом:
Тонут реки в море,Ветер волны гонит, —Так в любви да в гореСердце парня тонет! У-ха!И это «У-ха!» крикнул так по-казацки, что Зося чуть не присела от страха. Испугался также стоявший поблизости степенный Навираг, испугались и два ученых анардрата, а пан Нововейский все продолжал танцевать; он сделал два круга по комнате и, остановясь перед музыкантами, снова запел.
– Очень хорошие стихи, – заметил пан Заглоба. – Я знаток по этой части, ибо сочинял их немало. Тони, кавалер, тони! А когда совсем потонешь, я тебе спою такую песенку:
Парень, знай, – огниво!Панна – трут, к примеру!Высекайте живо,Будет искр не в меру!– Виват! Виват пан Заглоба! – крикнули офицеры так громко, что испугался степенный Навираг, испугались и два ученых анардрата и с удивлением стали переглядываться.
Но пан Нововейский опять сделал два круга и, наконец, посадил на лавку задыхавшуюся и испуганную смелостью кавалера Зосю. Очень он ей нравился; такой молодец, такой искренний, настоящий огонь, но именно потому, что она до сих пор не встречала таких кавалеров, ею овладело такое смущение, что она еще ниже опустила глазки и совсем притихла.
– Что вы молчите, ваць-панна? Почему вы так грустны? – спросил пан Нововейский.
– Папаша в неволе! – ответила Зося тоненьким голоском.
– Это ничего, – сказал молодой человек, – потанцевать все же не мешает! Посмотрите, ваць-панна, в этой комнате столько кавалеров, и, пожалуй, ни один не умрет своей смертью, но погибнет или от стрел басурманских, или в неволе. Сегодня один, завтра другой. Каждый из них лишился кого-нибудь из своих, а все же они веселятся, чтобы Господь Бог не подумал, будто они на судьбу ропщут. Вот оно что! Потанцевать не мешает! Улыбнитесь, ваць-панна, взгляните на меня, а то я подумаю, что вы меня ненавидите.
Зося глаз не подняла, но понемногу кончики ее губ стали подниматься, а на ее румяных щеках образовались две ямочки.
– Любите ли вы меня хоть немножко, ваць-панна? – снова спросил кавалер.
– Лю… люблю! – ответила Зося почти шепотом.
Услыхав это, пан Нововейский даже подпрыгнул на скамье и, схватив руки Зоей, стал горячо их целовать.
– Все пропало! – говорил он. – Говорить нечего! Я без ума влюбился в вас, ваць-панна! Никого не хочу, кроме вас! Прелесть моя! Спасите, святые угодники! Как я вас люблю! Завтра же паду к ногам матушки. Что завтра? Сегодня же! Только бы мне быть уверенным, что вы мне друг!
Страшный грохот выстрелов заглушил ответ Зоей. Это солдаты палили в честь Баси. Задрожали окна, затряслись стены, и в третий раз испугался степенный Навираг и с ним два анардрата, но Заглоба, который тут же стоял, стал их успокаивать по-латыни.
– Apud polonos, – сказал он, – nunquam sine clamore et strepitu gaudia fiunt![24]
Казалось, все только и ждали этого грохота ружей, чтобы развеселиться до последней степени. Обычная шляхетская светскость стала теперь уступать место степной дикости. Музыка гремела; танцоры носились, как буря, глаза разгорелись, пар носился над головами. Даже старики пустились в пляс, то и дело раздавались громкие крики, и пили, гуляли, пили за здоровье Баси из ее башмачка, стреляли из пистолетов в каблуки Эвы. Гудел, гремел и пел Хрептиев до самого утра, так что звери в ближайшей пуше попрятались со страха в самые глухие места.
А так как это было чуть не накануне страшной войны с турецким могуществом, так как над головами этих людей висела гроза и гибель, то удивлялся польским воинам степенный Навираг, удивлялись не менее его и два ученых анардрата.
XIV
На следующий день все спали долго, за исключением дежурных солдат и маленького рыцаря, который никогда и ни для чего не манкировал службой. Молодой пан Нововейский тоже вскочил довольно рано – Зося Боская была для него милее сна. С самого утра, одевшись понаряднее, он отправился в ту комнату, где вчера танцевали, чтобы послушать, нет ли шума и движения в смежных комнатах, где помещались дамы.
В комнате, которую занимала пани Боская, слышно было движение, но нетерпеливому юноше так безумно хотелось повидать Зосю, что, схватив кинжал, он стал выковыривать им мох и глину между балками, чтобы хоть сквозь щель одним глазком поглядеть на Зосю. За этим занятием застал его пан Заглоба, который вошел с четками в руках. Поняв сразу, в чем дело, он на цыпочках подошел к молодому человеку и стал хлестать его по спине сандаловыми четками.
Тот стал убегать, увертываться, делая вид, что смеется, но на самом деле он был несколько смущен, а старик гонялся за ним, бил его и повторял:
– Ах, турок ты этакий, а татарин! Вот тебе! Вот тебе! А где нравственность? За женщинами будешь подглядывать. Вот тебе! Вот тебе!
– Благодетель! – воскликнул Нововейский. – Не годится святые четки вместо плетки употреблять. Оставьте меня – у меня грешных мыслей не было!
– Не годится, говоришь, бить святыми четками! Неправда! Верба в Вербное воскресенье тоже вещь святая, а ею бьют. Ха! Это были когда-то языческие четки, но под Збаражем я их отнял у Супангази, а затем папский нунций освятил их. Посмотри, настоящий сандал!
– Если настоящий, то пахнет!
– Для меня-то четки пахнут, а для тебя девушка! Надо еще похлестать тебя по спине, нет лучшего средства изгонять дьявола, как четки.
– У меня грешных мыслей не было – вот провалиться мне на этом месте!
– Так ты, значит, из набожности дырку в стене ковырял?
– Не из набожности, но от любви столь исключительной, что боюсь, как бы меня не разорвало, как гранату. Что уж тут скрывать! Оводы летом не докучают так лошадям, как мучит меня это чувство.