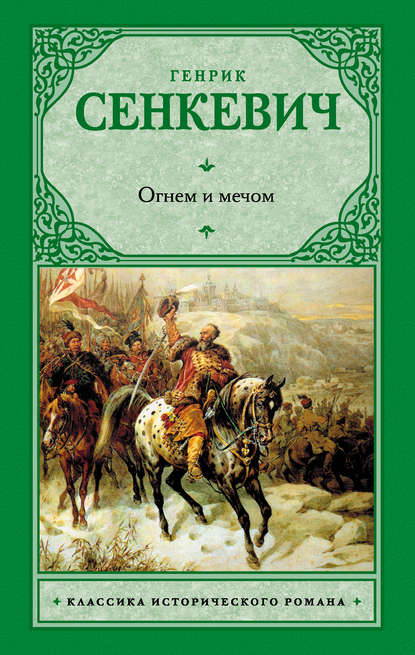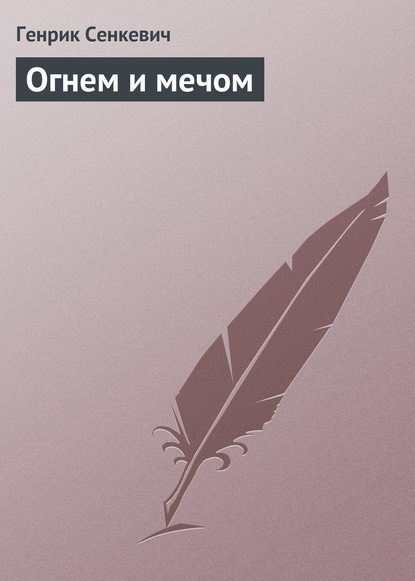полная версия
полная версияПан Володыевский
– Если бы старый хан был жив, – сказал пан Ненашинец, – все уладилось бы еще легче, так как он был к нам очень расположен, а о молодом говорят совсем другое. Вот и эти армянские купцы, за которыми должен ехать пан Захарий Петрович, взяты в плен в самом Бахчисарае, уже в царствование молодого хана, и по его повелению.
– Изменится молодой, как изменился старый, который, прежде чем убедился в благородстве нашего народа, был злейшим врагом польского имени! – сказал Заглоба. – Я это лучше всех знаю, так как семь лет просидел у него в неволе.
Сказав это, Заглоба подсел к пани Боской.
– Пусть одно мое присутствие ободрит вас. Семь лет! Это не шутка, а все же я возвратился и столько этих собачьих сынов нарубил, что за каждый день неволи я по крайней мере двоих отправлял в ад, а на воскресенья и праздники, пожалуй, по три и по четыре придется! Вот как!
– Семь лет! – повторила со вздохом пани Боская.
– Умереть мне на этом месте, если я хоть один день прибавил. Семь лет я в самом ханском дворце просидел, – подтвердил Заглоба, таинственно подмигивая своим глазом. – И надо сказать вам, что этот молодой хан – это мой… Тут Заглоба стал шептать что-то на ухо пани Боской и вдруг разразился громким: «Ха, ха, ха!» и начал хлопать себя по коленам; наконец, увлекшись, он похлопал и пани Боскую и сказал:
– Хорошее было время! В молодости чуть выйдешь на площадь – вот и неприятель, и каждый день новая шалость! Ха, ха!
Степенная матрона очень смешалась и слегка отодвинулась от веселого рыцаря; молодые женщины потупили глаза, догадавшись сразу, что шалости, о которых говорит пан Заглоба, не совсем отвечают их врожденной скромности, тем более что офицеры громко расхохотались.
– Надо поскорее послать к пану Рущицу, – сказала Бася, – чтобы Петрович застал в Рашкове наши письма.
А пан Богуш ответил:
– Спешите с этим делом, пока зима: во-первых, зимой чамбулы не выходят, и дороги безопасны, а во-вторых, одному Богу известно, что может случиться весной.
– Были у пана гетмана какие-нибудь известия из Царьграда? – спросил Володыевский.
– Да, но об этом нам надо поговорить наедине. Верно одно, что с теми ротмистрами надо кончать поскорей! Когда вернется Меллехович? Многое зависит от него…
– Ему надо только перерезать остальных разбойников, а потом похоронить павших. Он должен вернуться еще сегодня или завтра утром. Я велел ему хоронить только наших, а людей Азбы оставить так – идет зима и заразы бояться нечего. Наконец волки их приберут.
– Пан гетман просит, – сказал пан Богуш, – чтобы Меллеховичу не ставили никаких препятствий в его работе; каждый раз, когда он захочет поехать в Рашков, пусть едет. Пан гетман просит также доверять ему во всем, ибо уверен в его чувствах к нам. Он великий воин и может сделать много хорошего.
– Пусть себе едет в Рашков или куда ему угодно, – ответил маленький рыцарь. – Раз Азба уже разбит, Меллехович нам не очень-то и нужен. Теперь уже до весенней травы шайки нас тревожить не будут.
– Значит, Азба разбит? – спросил Нововейский.
– Да, и я даже не знаю, удалось ли бежать хоть двадцати пяти людям из его шайки, а их мы переловим поодиночке, если Меллехович их уже не переловил.
– Я очень этому рад, – сказал Нововейский, – теперь, по крайней мере, можно будет безопасно ехать в Рашков.
Тут он обратился к Басе.
– Письма, про которые вы изволили говорить, мы можем отвезти пану Рущицу.
– Благодарю вас, – ответила Бася, – но у вас всегда бывает оказия, мы и нарочных посылаем.
– Все команды должны находиться между собой в постоянных сношениях! – пояснил пан Михал. – Но позвольте, следовательно, вы едете в Рашков с этой прекрасной панной?
– Ну уж и нашли красавицу! – ответил пан Нововейский. – А в Рашков мы едем, потому что там сын мой, негодный, служит в отряде пана Рущица. Вот уже десять лет, как он бежал из дому и только в письмах своих молил меня о прощении.
Володыевский даже руками всплеснул.
– Я сейчас же догадался, что вы отец пана Нововейского, все хотел спросить, да только мы все время были заняты горем пани Боской! Я сейчас же догадался, потому что и сходство есть. Скажите, пожалуйста, так он ваш сын?
– Так, по крайней мере, меня уверяла его мать, покойница, а так как она была женщина добродетельная, то сомневаться в этом нет причины.
– Такому гостю я вдвойне рад! Только, ради бога, не называйте вашего сына негодным: это знаменитый воин и достойный кавалер, которым вы можете гордиться. После пана Рущица это первый загонщик в полку; вы, должно быть, не знаете, что он любимец гетмана? Уж и теперь ему поручают целые отряды. И из каждого дела он всегда выходит с честью!
Пан Нововейский покраснел от удовольствия.
– Мосци-полковник, – сказал он, – не раз отец бранит сына только для того, чтобы кто-нибудь с ним заспорил, и полагаю, что ничем так нельзя порадовать родительское сердце, как отрицая порицание. До меня уже доходили слухи о славной службе Адама, и то, что я слышу подтверждение этих слухов из уст столь славного рыцаря, несказанно меня радует. Говорят, что он не только храбрый солдат, но и степенный человек, чему я даже удивляюсь, ибо он всегда был ветер. С детства у него, у шельмы, была наклонность к военной жизни, а лучшее доказательство – то, что он еще почти ребенком убежал из дому. Признаюсь, что если бы я тогда поймал его, я бы задал ему pro memoria[19], но теперь надо это оставить, а то он, пожалуй, опять спрячется от меня лет на десять, а мне, старику, скучно без него.
– Неужели он столько лет не заглянул домой?
– Потому что я ему запретил. Но теперь уж с меня довольно, и я сам еду к нему, так как он, будучи на службе, не может. Я хотел просить ваши милости приютить на это время мою девку, а сам хотел ехать в Рашков, но раз вы говорите, что везде безопасно, то я возьму ее с собою. Сороке этой очень любопытно мир повидать, – ну, и пусть повидает.
– И люди пусть на нее поглядят! – заметил Заглоба.
– И глядеть нечего, – ответила девушка, между тем как ее черные смелые глаза и ее губы, сложенные как для поцелуя, говорили нечто совсем другое.
– Так, мордочка! – сказал Нововейский. – Но чуть красивого офицера увидит, ее так и подбрасывает. Вот почему я ее и взял с собой, тем более что молодой девке оставаться одной дома небезопасно. Но если мне придется без нее ехать в Рашков, так я буду просить вас, мосци-пани, держать ее на веревке, а то сбежать может.
– Я сама была не лучше, – ответила Бася.
– Ее прясть заставляли, а она, если не с кем было, с веретеном танцевала! – сказал Заглоба. – А вы, пан Нововейский, веселый человек! Баська, я бы хотел с паном Нововейским чокнуться, люблю я побалагурить.
Но прежде чем подали ужин, дверь отворилась и вошел Меллехович: пан Нововейский не сразу заметил его, он был занят разговором с паном Заглобой, но Эвка тотчас его увидала и вспыхнула сначала, а потом побледнела.
– Пан комендант! – сказал Меллехович Володыевскому. – Согласно приказанию, беглецы пойманы.
– Хорошо. Где они?
– Согласно приказанию, я велел их повесить.
– Хорошо. А твои люди вернулись?
– Часть их осталась хоронить убитых, остальные со мной.
В эту минуту пан Нововейский поднял голову, и на лице его отразилось необычайное изумление.
– Ради бога, что я вижу?! – воскликнул он.
Потом встал, направился прямо к Меллеховичу и сказал:
– Азыя, а что ты тут делаешь, бездельник?!
И поднял руку, чтобы схватить липка за ворот, но он вспыхнул в одну минуту, как порох, брошенный в пламя, потом побледнел, как смерть, и, схватив своей железной рукой руку Нововейского, сказал:
– Я вас не знаю! Кто вы такой?
И оттолкнул пана Нововейского с такой силой, что тот отшатнулся на середину комнаты. Некоторое время от бешенства он не мог произнести ни слова, наконец перевел дыхание и стал кричать:
– Пан комендант! Это мой человек, и притом беглый! Он жил в моем доме с детства!.. Бездельник! Отпирается! Это мой слуга! Эва, кто это такой? Говори!
– Азыя! – сказала, дрожа всем телом, Эва.
Меллехович даже не взглянул на нее. Он впился глазами в пана Нововейского и, раздувая ноздри, с невыразимой ненавистью смотрел на старого шляхтича и сжимал рукоятку ножа.
От движения ноздрей усы его начали дрожать, а из-под усов сверкали белые зубы, точно клыки у разъяренного зверя.
Офицеры окружили их. Бася выскочила на середину комнаты между Меллеховичем и Нововейским.
– Что это значит? – спросила она, морща брови. Вид ее несколько успокоил противников.
– Пан комендант, – сказал Нововейский, – это значит, что он мой человек, его зовут Азыей – он беглый. Смолоду, служа в войске на Украине, я нашел его полуживого в степи и приютил. Он татарчонок. Двадцать лет он воспитывался в моем доме и учился вместе с моим сыном. Когда сын бежал, он выручал меня по хозяйству, пока ему не вздумалось амурничать с Эвкой; заметив это, я приказал его выпороть, и он бежал. Под каким именем он здесь?
– Меллехович.
– Это вымышленное имя. Он – Азыя, и только! Он говорит, что меня не знает, но я его знаю, и Эва знает.
– Господи! – сказала Бася. – Да ведь сын ваш много раз его видел, как же он его не узнал.
– Сын мой мог не узнать: когда он убежал из дому, обоим им было по пятнадцати лет, а Меллехович еще шесть лет жил у меня; за это время он очень изменился, вырос, усы вот есть. Но Эва сейчас же его узнала. Уж вы, Панове, скорее должны верить мне, гражданину, чем этому крымскому бродяге!
– Пан Меллехович – гетманский офицер, – сказала Бася, – это нас не касается.
– Позвольте мне расспросить его. Audiatur et altera pars[20], – сказал маленький рыцарь.
Но пан Нововейский разозлился.
– Пан Меллехович! Какой он пан! Мой слуга, который здесь живет под чужим именем! Завтра же я этого пана своим псарем сделаю, а послезавтра велю выпороть этого пана, и в этом препятствовать мне сам гетман не может – я шляхтич, и свои права знаю!
На это пан Михал повел усами и уже несколько резче сказал:
– А я не только шляхтич, но и полковник, и тоже знаю свои права! Своего человека вы можете искать по закону, можете даже обратиться к гетманскому суду, но здесь могу приказывать только я, и никто другой!
Пан Нововейский сразу опомнился, сообразив, что он говорит не только с комендантом, но и с начальником своего сына, и притом с самым славным рыцарем Речи Посполитой.
– Пан полковник! – сказал он уже более мягким тоном. – Ведь я его вопреки вашей воле не возьму, я только заявляю мои права, которым прошу верить!
– Меллехович, что ты скажешь на это? – спросил Володыевский.
Татарин уставился глазами в землю и молчал.
– Что тебя зовут Азыя, мы все знаем! – прибавил Володыевский.
– Что тут искать других доказательств, – сказал Нововейский. – Если он мой человек, то у него на груди наколоты синей краской рыбы.
Услыхав это, пан Ненашинен широко открыл рот и глаза и, схватившись за голову, воскликнул:
– Азыя Тугай-беевич!..
Все оглянулись на него, а он дрожал весь, точно у него открылись все его прежние раны.
– Это мой пленник! Он Тугай-беевич! Боже! Это он!..
А молодой липок гордо поднял голову, обвел всех присутствующих своими соколиными глазами и, разорвав жупан на своей широкой груди, сказал:
– Вот рыбы… Я сын Тугай-бея!
VIII
Все умолкли: так велико было впечатление, произведенное именем страшного воина. Ведь это он вместе с грозным Хмельницким потрясал всей Речью Посполитой; он пролил море польской крови; он истоптал копытами своих лошадей всю Украину, Волынь, Подолию и галицкие земли, разрушал замки и города, сжигал деревни, десятки тысяч людей брал в плен. Сын этого человека стоял теперь перед ними в Хрептиевской станице и сказал всем прямо в глаза: «Вот у меня на груди синие рыбы… Я, Азыя, – плоть от плоти Тугаевой!» Но люди того времени так преклонялись перед людьми высокой крови, что, несмотря на весь ужас, какой внушало им имя славного мурзы, Меллехович вырос в их глазах, точно все величие отца перешло на него.
Все смотрели на него с изумлением, особенно женщины, для которых всякая тайна имеет особую прелесть; он же стоял гордо, не опуская головы, как будто после этого признания вырос в собственных глазах; наконец он сказал:
– Этот шляхтич (тут он указал на Нововейского) говорит, что я его слуга, а я ему скажу на это, что отец мой на коня садился со спин людей познатнее его! Впрочем, он правду говорит, что я у него жил; да, я у него жил и под его плетью моя спина обливалась кровью, чего я ему не забуду, помоги мне бог! Я назвался Меллеховичем, чтобы избежать его преследования. Я мог бы бежать в Крым, но так как я кровью и жизнью служу этой отчизне моей, то теперь я ничей, как только гетмана. Мой отец – родственник ханов, и в Крыму меня ожидали богатство и роскошь, но я остался здесь в унижении, ибо люблю эту мою отчизну, люблю и пана гетмана, люблю и тех, кто никогда ничем меня не оскорбил.
Сказав это, он поклонился Володыевскому, а перед Басей склонился так низко, что чуть не коснулся головой ее колен; затем, взяв саблю под мышку, он вышел из комнаты, ни на кого не взглянув.
С минуту продолжалось молчание; первым заговорил пан Заглоба:
– Ха! Где пан Снитко? Я говорил, что этот Азыя волком смотрит, а оказывается, он волчий сын…
– Львиный сын! – ответил Володыевский. – И кто знает, не пошел ли он в отца?!
– Панове! Ведь вы заметили, как у него зубы засверкали, – точь-в-точь, как у старого Тугая, когда он гневался, – сказал пан Мушальский. – Уже по этому одному я узнал бы его: я часто видел Тугай-бея!
– Но не так часто, как я! – сказал Заглоба.
– Теперь я понимаю, – вставил пан Богуш, – почему он пользуется таким влиянием у липков и черемисов. Они чтут имя Тугая как святыню. Как Бог свят, если бы этот человек захотел, он мог бы всех их переманить на службу султану и причинить нам много вреда.
– Этого он не сделает, – ответил Володыевский, – потому что любит нашу страну и гетмана, – и это правда. Иначе он не служил бы нам, ведь он мог бы уйти в Крым и пользоваться там всеми земными благами. Здесь его не очень-то баловали!
– Конечно, не сделает! – повторил пан Богуш. – Если бы он хотел, он давно бы это сделал, ему никто не мешал.
– Напротив, – прибавил пан Ненашинец, – я теперь верю, что он вернет Речи Посполитой тех изменников – ротмистров!
– Пан Нововейский, – сказал вдруг Заглоба. – Если бы вы знали, что он сын Тугай-бея, может быть, вы того… может быть, вы так… э?
– Я велел бы ему дать вместо трехсот тысячу триста плетей! Разрази меня гром, если бы я этого не сделал! Мне странно, что он, щенок Тугай-бея, не убежал в Крым. Скорее всего, он недавно об этом узнал, – когда он жил у меня, он не знал ничего. Мне это странно, но Богом вас заклинаю, не доверяйте ему! Ведь я его знаю лучше вас, и скажу вам только одно: дьявол не столь коварен, бешеная собака не столь яростна, волк не столь жесток и злобен, как этот человек… Он еще всем здесь насолит!
– Что вы говорите! – сказал Мушальский. – Мы его видели в деле при Кальнике, Умани, Брацлаве и в сотне других сражений!
– Он никогда не простит обиды… Всегда отомстит!
– А сегодня как он брил азбовых бродяг! Что вы говорите!
Между тем лицо Баси так и горело: до того заинтересовала ее история Меллеховича; но Басе хотелось, чтобы и конец был достоин начала, а потому, толкнув Эву Нововейскую, она шептала ей на ухо:
– Эвка, ведь ты его любила? Признайся! Не отпирайся! Любила, да? И теперь любишь? А! Я уверена! Будь со мной откровенна. Кому же тебе довериться, как не мне, женщине? Он почти царской крови. Пан гетман выхлопочет ему не одну, а десять шляхетских грамот. Пан Нововейский противиться не будет. Азыя, наверное, любит тебя еще. Уж я знаю, уж я знаю, знаю! Не бойся! Он мне доверяет. Я сейчас его пытать начну. Да он и без пытки скажет. Ведь ты его ужасно любила? И теперь еще любишь?
Эва была словно в каком-то дурмане. Когда Азыя в первый раз объяснился ей в любви, она была еще почти ребенком, потом она не видела его много лет и перестала о нем думать. У нее осталось о нем воспоминание как о вспыльчивом подростке, который был наполовину товарищем ее брата, наполовину слугой. Но когда она теперь увидала его снова, перед ней стоял юноша, прекрасный и грозный, как сокол, к тому же офицер и славный загонщик, потомок хоть и чужого, но все же княжеского рода. Молодой Азыя стал теперь для нее совсем другим человеком: его вид ошеломил ее, но вместе с тем ослепил и опьянил. Снова проснулись прежние воспоминания. Сердце ее не умело полюбить юношу в одну минуту, но в одну минуту почувствовала она, что оно готово полюбить.
Бася никак не могла допытаться и увела Эву вместе с Зосей Боской в свою спальню и там снова настаивала:
– Эвка! Говори скорее! Скорей, скорей, скорей! Ты его любишь?
Лицо панны Эвы пылало. Это была черноволосая и черноокая девушка с горячей кровью, и кровь эта при каждом упоминании о любви волной приливала к ее щекам.
– Эвка, – говорила уже в десятый раз Бася, – ты его любишь?
– Не знаю, – отвечала панна Нововейская после минутного колебания.
– Но ты не отрицаешь? Ого! Уж я знаю! Ты не дрожи… Я сама сказала Михалу, что люблю его, и ничего… и хорошо… Вы, должно быть, прежде ужасно любили друг друга. А, теперь я понимаю! Это он с тоски по тебе всегда такой угрюмый, как волк. Чуть не иссох бедняга! Что произошло между вами? Говори!
– В кладовой он мне сказал, что любит меня, – шепнула панна Нововейская.
– В кладовой? Вот как! А потом что?
– Потом схватил меня и начал целовать! – продолжала еще тише панна.
– А чтоб его! А ты что же?
– А я боялась закричать.
– Боялась закричать! Слышишь, Зоська… Когда же открылась ваша любовь?
– Отец вдруг вошел, ударил его обухом, избил и меня, а его велел высечь так, что он пролежал две недели.
Тут панна Нововейская расплакалась, отчасти от обиды, отчасти от стыда. При виде ее слез растрогалась и добрая Зося, и ее голубые глаза наполнились слезами. Бася начала утешать Эву.
– Все это кончится хорошо, я беру это на себя. И Михала впрягу в это дело, и пана Заглобу. Не бойся, я их уговорю. Никто не устоит перед остроумием пана Заглобы. Ты его не знаешь! Не плачь, Эвка! Сейчас подадут ужинать…
Меллеховича за ужином не было. Он сидел в своей комнате и грел на огне водку с медом, которую потом переливал в маленькую жестяную кружку и попивал, закусывая сухарем. Пан Богуш пришел к нему поздно ночью, чтобы переговорить с ним относительно новостей.
Татарин посадил его на скамью, обитую овечьей шкурой, и, поставив перед ним полную кружку горячего напитка, спросил:
– А пан Нововейский все еще хочет сделать из меня своего слугу?
– Об этом уже и речи быть не может, – ответил пан Богуш. – Скорее уж пан Ненашинец мог бы заявить на тебя свои права, да и ему ты не нужен – сестра его или умерла уже, или, может, не захочет изменить свою судьбу. Пан Нововейский не знал, кто ты был, когда наказывал тебя за любовь к его дочери. А теперь он точно оглушен, ибо, хотя отец твой сделал много зла нашей отчизне, все же он был великий воин. Ей-богу, тебя пальцем никто не тронет до тех пор, пока ты верен нашей отчизне, тем более что у тебя везде есть друзья.
– Почему бы мне не служить верно? – ответил Азыя. – Мой отец вас бил, но он был язычник; я же верую во Христа.
– В том-то и дело! В том-то и дело! Ты в Крым уже вернуться не можешь, разве что изменив веру, что связано с потерей блаженства, а этого никакие блага земные заменить тебе не могут. Правду сказать, ты должен благодарить и пана Ненашинца, и пана Нововейского, ибо первый из них вырвал тебя из среды язычников, а второй воспитал тебя в истинной вере.
Азыя ответил на это:
– Я знаю, что я должен им быть благодарен, и постараюсь отплатить. Вы изволили заметить верно, что я здесь нашел много благодетелей!
– Ты говоришь точно с горечью, – сосчитай сам, сколько у тебя здесь друзей.
– Его милость пан гетман и ваша милость на первом плане; это я буду повторять до самой смерти. А кто еще, не знаю…
– А здешний комендант? Неужели ты думаешь, что он выдал бы тебя кому-нибудь, если бы ты даже не был сыном Тугай-бея? А она? А пани Володыевская? Ведь я слышал, что она про тебя говорила за ужином. И еще раньше, когда тебя узнал пан Нововейский. Она сразу стала на твою сторону. Пан Володыевский все бы для нее сделал, ибо он души в ней не чает, а сестра не может больше любить брата, чем она тебя! Во все время ужина ты не сходил у нее с языка.
Молодой татарин нагнулся и стал усиленно дуть на горячий напиток; а когда он при этом оттопырил свои слегка синеватые губы, в лице его было столько татарского, что пан Богуш даже сказал:
– Но боже мой, как ты сейчас похож на старого Тугай-бея, – это даже трудно себе представить. Я его прекрасно знал. Видал его и в ханском дворце, и на поле битвы, и около двадцати раз ездил в его сихень.
– Да благословит Бог праведных, и да истребит зараза обидчиков! – ответил Азыя. – Здоровье гетмана!
Пан Богуш выпил и сказал:
– Здоровье и многая лета! Правда, у него нас немного, но зато мы все настоящие солдаты. Даст Бог, мы не поддадимся этим дармоедам, что только сеймовать умеют и обвинять пана гетмана в измене перед королем. Шельмы! Мы день и ночь стоим лицом к лицу с врагом, а они только ложками с кашей воевать умеют. Вот их дело! Пан гетман шлет посла за послом, взывая о помощи для Каменца, и как Кассандра предсказывает падение Илиона и народа Приамова, а они ни о чем не думают и только доискиваются, кто провинился перед королем…
– О чем вы говорите, ваша милость?
– Так просто. Я сделал сравнение между нашим Каменцем и Троей, но ты, верно, про Трою и не слышал. Пусть только немного успокоится, и пан гетман непременно выхлопочет тебе шляхетство, даю тебе голову на отсечение! Времена теперь такие, что случай всегда найдется, если только ты захочешь прославиться!
– Или имя мое покроется славой, или я покроюсь землей! Вы услышите еще обо мне, как Бог свят!
– Ну а что те? Вернутся? Не вернутся? Что они теперь делают?
– Сидят в сихенях: одни в Ужийской степи, другие дальше. Трудно им сноситься, – расстояние велико. Отдан приказ всем им весной явиться в Адрианополь, захватив с собой возможно больше припасов.
– Господи! Это очень важно, ибо если весной в Адрианополе будет воинский сбор, то война с нами неминуема. Надо сейчас же известить об этом пана гетмана. Он тоже думает, что война будет; а это уж верный признак!
– Галим говорил мне, что там у них поговаривают, будто и сам султан приедет в Адрианополь.
– Да славится имя Господне! А у нас войска только горсточка! Вся надежда на Каменецкую крепость. Разве Крычинский ставит новые условия?
– Они больше жалуются, чем ставят условия: общее помилование, возвращение всех прав и привилегий шляхетских, какими они пользовались в былые времена, кроме того, возвращение прежних чинов ротмистрам – вот чего они хотят. Но так как султан обещал им больше, то они колеблются.
– Что ты говоришь? Как же султан может дать им больше, чем Речь Посполитая? В Турции абсолютная монархия, и все права зависят от фантазии султана. Если бы даже тот, который теперь царствует, сдержал все свои обещания, то наследник его, если захочет, может все нарушить. Между тем у нас привилегия – святая вещь, и кто получит шляхетство, у того и сам король ничего не может отнять.
– Они говорят, что они были шляхтичи, однако с ними обращались не лучше, чем с простыми драгунами; старосты приказывали им отбывать различные повинности, от которых освобождена не только шляхта, но и мещане.
– Но если гетман им обещает…
– Никто из них не сомневается в великодушии гетмана, и все они в душе его любят; но они думают так: шляхта самого гетмана называет изменником; при дворе короля его ненавидят; конфедерация грозит ему судом – что же он может поделать?
Пан Богуш почесал затылок.
– Ну так что же?
– Они сами не знают, что им делать!
– И останутся у султана?
– Нет.
– Кто же им велит вернуться в Речь Посполитую?
– Я.
– Как так?
– Я – сын Тугай-бея!
– Милый Азыя! – сказал, помолчав, пан Богуш. – Я не отрицаю, что они могут любить в тебе славу Тугай-бея, хотя они наши татары, а Тугай-бей был нашим врагом. Все это я понимаю, ибо и у нас есть шляхта, которая с гордостью говорит о том, что Хмельницкий был шляхтич и что он не казацкого, а польского рода. Ведь это была такая шельма, какой и в аду не найти, но так как он был знаменитый воин, то все рады признать его своим! Такова уж натура человеческая. Но для того, чтобы Тугаева кровь в тебе давала тебе право повелевать всеми татарами, я не вижу оснований.
Азыя некоторое время молчал, потом, опустив руки на колени, сказал:
– Я вам скажу, пан подстолий, почему меня слушается Крычинский и слушаются другие. Потому что, кроме того, что они простые татары, а я князь, во мне есть сила и мощь… Об этом не знаете ни вы, ни пан гетман…