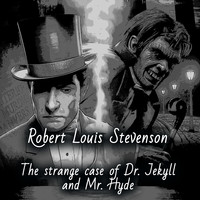полная версия
полная версияПринц Отто
– Ага! – воскликнул он радостно. – Наконец-то!
И сделал шаг навстречу госпоже фон Розен. Но графиня молча вошла в комнату, кинулась в стоявшее на ее пути большое и глубокое кресло и скрестила вытянутые вперед ножки. Вся закутанная в кружево и бархат, в красиво обрисовывающих ее далеко выдвинутые вперед ножки тонких черных шелковых чулках, кокетливо выделявшихся на снежно-белом фоне ее юбок, с пышной округлостью ее тонкого, стройного, почти девического стана, она представляла собой странный контраст с этим громоздким, тяжеловатым черноволосым сатиром, гревшимся у огня.
– Сколько раз вы посылали за мной? – крикнула она. – Это, наконец, компрометирует меня!
На это Гондремарк добродушно рассмеялся.
– Ну, раз мы заговорили об этом, – сказал он, – то какого черта вы делали все это время? Ведь вас до самого утра не было дома!
– Я раздавала милостыню, – сказала она, двусмысленно усмехаясь.
Барон опять громко и весело захохотал.
Дело в том, что в домашнем обиходе это был большой весельчак.
– Какое счастье, что я не ревнив! – заметил он. – Ты знаешь мое правило: свобода действий и удовольствий обыкновенно идут рука об руку, а чему я верю, тому я верю! Ты знаешь, что я верю не особенно многому, но все же кое-чему я верю! А теперь перейдем к делам. Читала ты мое письмо?
– Нет, – сказала она, – у меня голова болела.
– Ах так! Ну, в таком случае у меня есть для тебя интересные новости! – воскликнул Гондремарк, заметно оживляясь. – Понимаешь, я положительно с ума сходил от желания тебя видеть всю ночь вчера и все это утро, а тебя, как назло, не было дома! А потом ты чуть не до этих пор спала. Дело в том, что вчера днем я наконец довел свое большое дело до желанного конца; наш корабль благополучно вернулся в порт! Теперь всего еще одно последнее усилие, вернее, один последний удар, и я перестану таскать и носить все под ноги этой заносчивой принцессе Ратафии. Да, теперь можно сказать, что дело сделано и вся эта предварительная работа закончена! Я получил желанное предписание; мало того, у меня теперь в руках ее собственноручный приказ; я храню его у себя на груди. Ровно в двенадцать ночи сегодня принца Пустоголового возьмут, вынут потихоньку из кроватки и, как младенца, как бамбино, стащат и усадят в повозку; а на следующее утро он уже будет любоваться сквозь решетки своего окна в романтическом Фельзенбурге на роскошные окрестности этого живописного замка. Тогда прощай, Пустоголовый! Война пойдет своим чередом, а эта глупая девчонка-принцесса – у меня в руках. Долгое время я был лицом необходимым, теперь я буду единственным! Долго я нес на своих плечах эту сложную интригу, как Самсон нес на своих плечах городские ворота Газы, но теперь я сброшу с себя эту ношу и встану перед народом, выпрямившись во весь рост!
Графиня вскочила на ноги, несколько побледнев от волнения.
– И это правда?! – воскликнула она.
– Я тебе сообщаю факт, совершившийся факт, – подтвердил он, – шутка сыграна.
– Нет, я никогда этому не поверю! – запротестовала она. – Указ? Собственноручный указ? Нет, нет, Генрих, это невероятно! Это совершенно невозможно! На это она никогда не решится.
– Ну клянусь тебе! – сказал Гондремарк.
– О, что значат твои клятвы или мои! Ну чем ты можешь поклясться? Вином, женщинами и песнями? Да? Все это не ахти какие страшные клятвы! Такая клятва никого не связывает, – засмеялась она. Затем она подошла совсем близко к нему и положила руку ему на плечо. – Ты знаешь, я охотно тебе верю во всем, – сказала она. – Я знаю, насколько ты ловок и искусен, но что касается этого указа – нет! Нет, Генрих, этому я никогда не поверю! Мне кажется, что я скорее умру, чем поверю подобной вещи. У тебя есть какая-то задняя мысль; угадать ее я сейчас не в состоянии, но я понимаю, что ты хочешь ввести меня в обман, и ни единое слово из того, в чем ты теперь хочешь меня уверить, не походит на правду.
– Хочешь, я тебе покажу этот указ? – спросил он.
– Хочу, но ты не покажешь, потому что такого указа у тебя нет! – настаивала она.
– Ах ты, неисправимая маловерка! – воскликнул он. – На этот раз я берусь тебя убедить! Ты сейчас своими глазами увидишь этот указ. – Он направился к креслу, на которое сбросил свой придворный мундир, из его кармана вытащил бумагу и протянул ее графине: – На, читай сама!
Она жадно схватила бумагу, и глаза ее вспыхнули ярким недобрым огнем, в то время как она ее пробегала.
– Ты подумай, – воскликнул барон, – ведь это гибнет династия! И это я скосил ее! И после нее я и ты, мы двое, наследуем все, все, что они не сумели удержать в своих руках!
Казалось, что Гондремарк при этом становился еще больше, еще объемистее, он как будто вырастал и ширился вместе со своим честолюбием. И он вдруг снова громко рассмеялся и протянул руку за бумагой:
– Дай мне сюда это смертоносное оружие, этот кинжал, разящий династию.
Но вместо того чтобы исполнить его приказание, она вдруг быстрым движением спрятала бумагу за спину и, подкравшись поближе к нему, глядя ему прямо в глаза испытующим взглядом, проговорила решительно и властно:
– Нет, прежде я желаю выяснить один вопрос: скажи, пожалуйста, ты что же, считаешь меня за дуру или, может быть, думаешь, что я слепа? Ты думаешь, что я не понимаю, что она могла дать эту бумагу только одному человеку – своему любовнику! Да, только своему любовнику, только ему одному она не могла бы отказать в этом, а всякому другому она отказала бы наотрез, если бы у него хватило смелости потребовать от нее подобный указ. И вот ты стоишь здесь передо мной – ее союзник, ее соучастник, ее любовник и ее господин! О, я этому легко могу поверить, потому что я знаю твою силу – да! Но что же такое представляю собой в данном случае я?.. – крикнула она. – Я, которую ты все время обманывал, которой ты прикрывался, как ночной вор прикрывается плащом!
– Ревность! Сцена ревности? – удивленно воскликнул Гондремарк. – Анна! Да ты ли это? Вот чему бы я никогда не мог поверить. Успокойся, уверяю тебя всем, что есть самого достоверного на свете, что я никогда не был ее любовником; я мог бы быть им, я полагаю, но до сего времени я ни разу не рискнул сделать ей признания. Она, видишь ли ты, представляется мне чем-то совсем нереальным; это какой-то подросток, девчонка, какая-то жеманная кукла! Она то хочет, то не хочет: на нее никогда ни в чем нельзя положиться; каждую минуту у нее какая-нибудь новая фантазия или причуда. Уговорить ее вообще нетрудно, но положиться, понадеяться на нее нельзя! До сих пор я умел заставлять ее поддаваться мне без содействия любви и приберегал это оружие на самый крайний, решительный момент, в том случае, если бы какое-нибудь отчаянное средство могло мне понадобиться. И я говорю тебе, Анна, – добавил он строго и серьезно, – в этом ты должна переломить себя и подобных, никогда не бывавших у тебя приступов ревности больше не допускать. Между нами не должно быть никаких возмущений, никаких вздорных волнений и препирательств. Я держу это жалкое маленькое существо под гипнозом моего обожания к ней, и если бы только она пронюхала о наших с тобой отношениях… Ведь ты знаешь, она такая сумасшедшая, такая вспыльчивая и при этом такая собака на сене, что она способна, невзирая ни на что, испортить нам всю игру!
– Все это прекрасно, – отозвалась графиня, – но я спрашиваю вас: с кем вы проводите все ваши дни? И чему прикажете вы мне верить – вашим ли словам или вашим поступкам?
– Анна, да я тебя не узнаю, черт бы тебя побрал! Да неужели же ты сама не видишь? – воскликнул Гондремарк. – Ведь ты же меня знаешь. Разве это похоже на меня, чтобы я мог увлечься такой недотрогой? Мне положительно горько и обидно думать, что, после того как мы столько лет были близки с тобой, ты все еще можешь считать меня каким-то трубадуром. И если есть на свете нечто, что мне особенно противно и отвратительно, так это именно вот такие фигурки из берлинской шерсти, как эта принцесса. Мне нужна настоящая женщина, из плоти и крови, из нервов и мускулов, с крепким, сильным, выносливым телом и крепкой и сильной волей – такая, как ты! Ты мне пара! Ты как будто нарочно была создана для меня; ты меня забавляешь не как кукла или игрушка, а развлекаешь, затягиваешь и опьяняешь как азартная игра! И какой мне расчет притворяться с тобой или обманывать тебя? Если бы я не любил тебя, то на что ты мне? Ведь это же ясно как божий день!
– Так ты действительно любишь меня, Генрих? – спросила она, смеясь. – Действительно? Да?
– Да говорю же я тебе, что люблю! – воскликнул он пылко, как юноша. – Я люблю тебя больше всего и больше всех на свете после себя. Если бы я потерял тебя, я положительно растерялся бы окончательно; я был бы совершенно выбит из колеи!
– А если так, – сказала фон Розен, спокойно складывая указ и кладя его в свой карман, – то я готова тебе поверить и принять участие в этом заговоре. Можешь положиться на меня. Так, значит, ровно в полночь? Ведь так ты сказал? И ты, конечно, поручил это дело Гордону? Превосходно! Он ничем не смутится, и к тому же он чужестранец, ему решительно все равно, кто здесь будет управлять государством – принц или принцесса, ты или я.
Гондремарк недоверчиво следил за ней; что-то в ее поведении казалось ему подозрительным.
– Зачем ты взяла указ? – спросил он. – Дай его сюда.
– Нет, – ответила она, – я намерена оставить его у себя, потому что я должна приготовить всю эту проделку. Вы не сможете сделать это дело без меня, иначе вам придется прибегнуть к насилию, а ведь это едва ли желательно. Для того чтобы быть вам действительно полезной, я должна иметь этот указ у себя в руках. Где я найду Гордона? У него на квартире? Хорошо!
Она говорила с несколько лихорадочным самообладанием.
– Анна, – сказал он мрачно и сурово, тем строгим желчным тоном и с тем же выражением лица и манерой, которые были свойственны ему в роли придворного временщика, заслонившего теперь более добродушного и более чистосердечного Гондремарка домашнего обихода и часов отдохновения, – я прошу тебя отдать мне эту бумагу. Раз, два, три!
– Берегись, Генрих! – сказала она, горделиво выпрямясь и глядя ему прямо в лицо. – Я не потерплю никаких требований и предписаний. Я тебе не покорная раба! Мне нельзя приказывать – ты, кажется, знаешь, что приказывать я сама умею!
В этот момент оба они имели вид двух опасных животных, готовых померяться силами друг с другом; оба молчали, и это напряженное молчание длилось довольно долго. Затем она вдруг поспешила заговорить первая; и, рассмеявшись чистым, звонким, откровенным смехом, она сказала почти ласковым голосом:
– Да не будь же ты таким ребенком! Ты меня положительно удивляешь. Если все то, в чем ты меня сейчас уверял, правда, то ты не можешь иметь никакого основания не доверять мне, точно так же, как я не могу иметь никакого расчета подвести тебя. Самое трудное во всей этой затее – это выманить принца из дворца без шума и скандала Ты отлично знаешь, что его слуги преданы ему телом и душой. Его камергер – это его раб, он положительно боготворит своего принца, и стоит только ему крикнуть, как вся ваша затея полетит к черту!
– Необходимо осилить всю эту челядь, – сказал барон, невольно следуя за ее мыслью. – У нас на это хватит людей, и все эти его приверженцы должны исчезнуть вместе с ним.
– И весь ваш план тоже вместе с ними! – докончила графиня. – Ты думаешь, что все это может обойтись без шума? Что эти люди могут исчезнуть бесследно и что никто не хватится их? Никто не спросит о них? Ведь не берет же он их всех с собой на охоту? Малому ребенку это сразу бросилось бы в глаза; весь двор, а затем и весь город догадаются, в чем тут дело! Нет, нет и нет; этот план положительно не выдерживает критики; это идиотство – проделать нечто подобное! Без сомнения, его придумала эта индюшка Ратафия! Нет, ты выслушай меня. Ты знаешь, конечно, что принц за мной ухаживает?
– Да, знаю, – сказал Гондремарк. – Бедный Пустоголовый, видно, мне на роду написано стоять ему везде и во всем поперек дороги.
– Ну так вот, – продолжала она, – я могу выманить его одного под предлогом тайного свидания куда-нибудь в дальний уголок парка, ну, скажем, хотя бы к статуе Летящего Меркурия. Гордон может спрятаться со своими людьми где-нибудь поблизости в чаще деревьев; карета может ожидать за греческим храмом; и все обойдется без крика, без суматохи, без топота ног, просто и мило. Принц выйдет в полночь на свидание и исчезнет! Ну, что ты на это скажешь? Пригодная ли я для тебя союзница? Могут ли мои beaux veux при случае сослужить тебе службу? Ах, Генрих, мой тебе совет, старайся не потерять твоей Анны! У нее тоже есть немалая власть!
Гондремарк громко хлопнул ладонью по мрамору каминной доски.
– Чародейка! – воскликнул он восхищенный, весь просияв. – Другой такой, как ты, не сыщешь! Нет тебе равной на всякие дьявольские проделки в целой Европе! У тебя всякое дело катится как по рельсам.
– Ну так поцелуй же меня покрепче и отпусти поскорее! Мне нельзя прозевать моего принца, – сказала она.
– Постой, постой! Не так скоро! – остановил ее барон. – Я хотел бы, клянусь тебе моей душой, вполне поверить тебе; но ведь ты и войдешь и выйдешь и всякого вокруг пальца обведешь. Ты такой увертливый и ловкий чертенок, что я, право, боюсь. Нет, как хочешь, я не могу, Анна, я не смею!
– Ты мне не доверяешь, Генрих? – гневно крикнула она, и в тоне ее было что-то вызывающее, что-то похожее на угрозу.
– Это не совсем подходящее слово – «не доверяешь», но я тебя знаю, и раз ты уйдешь отсюда с этой бумагой в кармане, кто может сказать, что ты с ней сделаешь? И не только я, но даже и ты сама, ты этого не знаешь! Ты сама видишь, – добавил он, покачивая головой, – ведь ты изменчива, капризна и притворна, как обезьянка.
– Клянусь тебе спасением моей души! – воскликнула она.
– Мне отнюдь не интересно слышать, как ты клянешься, – сказал барон.
– Ты полагаешь, что у меня нет никакой религии? Ты очень ошибаешься! Ты думаешь, что у меня нет чести, нет совести! Ну хорошо, смотри же, я не стану с тобой спорить, но говорю тебе в последний раз: оставь указ в моих руках, и принц будет арестован без шума, без хлопот, без скандала; если же ты возьмешь у меня указ, то так же верно, как то, что я теперь стою перед тобой и говорю с тобой, я испорчу вам всю вашу затею. Одно из двух: или верь мне, или бойся меня! Предоставляю тебе выбор.
С этими словами она достала из кармана указ и протянула его ему.
Барон в величайшем затруднении и в нерешительности стоял перед этой женщиной, которую даже он не мог ни сломить, ни победить, ни покорить своей воле. Он стоял перед ней и мысленно взвешивал обе опасности. Была минута, когда он уже протянул руку к бумаге, но сейчас же опять опустил ее.
– Ну, – сказал он, – если это называется, по-твоему, доверием…
– Ни слова больше, – остановила она его, – не порти своей роли и теперь, так как ты в этом деле вел себя как подобает порядочному человеку, не зная даже, в чем дело, я, так и быть, соблаговолю разъяснить тебе свои причины, то есть те причины, которые заставляли меня настаивать на том, чтобы ты оставил указ в моих руках. Я сейчас прямо отсюда направлюсь к Гордону; но, скажи мне на милость, на каком основании стал бы он мне повиноваться и исполнять мои приказания? А затем, как могу я заранее назначить час? Возможно, что это будет в полночь, но возможно также и тотчас после того, как стемнеет. Все это дело случая, все зависит от обстоятельств; а чтобы действовать разумно и успешно, я должна иметь полную свободу действий и держать в своих руках все пружины этого задуманного вами предприятия. Ну вот, а теперь бедный Вивиан уходит, как говорится в комедиях. Посвяти же меня в рыцари свои!
И она раскрыла ему свои объятия, лучезарно улыбаясь своей манящей, многообещающей улыбкой.
– Ну, – сказал он, поцеловав ее с особым удовольствием, – у каждого человека бывает свое безумие и свой конек, и я благодарю Бога за то, что мое такое, какое оно есть! А теперь вперед!.. Можно сказать, что я дал ребенку зажженную ракету. Но что же делать!..
Глава 12
Спасительница фон Розен: действие второе – она предупреждает принца
Первым побуждением госпожи фон Розен, когда она вышла из дома барона Гондремарка, было возвратиться на свою виллу и приодеться. Что бы там ни вышло из всей этой затеи, она решила непременно повидаться и побеседовать с принцессой. И перед этой женщиной, которую она так не любила, графиня желала появиться во всеоружии своей красоты. Для нее это было делом всего нескольких минут. У госпожи фон Розен был на этот счет, то есть насчет женского туалета, так сказать, командирский глаз; с первого взгляда она умела уловить и заметить, чего недостает в туалете и что следует добавить или убрать в нем; она отнюдь не принадлежала к числу тех женщин, которые часами сидят в нерешительности, роясь в своих нарядах и уборах, не знают, что надеть и чем себя украсить, и в конце концов после столь долгих размышлений появляются в обществе безвкусно выряженные. Один беглый взгляд в зеркало, небрежно спущенный локон, грациозно взбитые на висках волосы, клочочек тонких старинных кружев, чуть-чуть румян и красивая желтая роза на груди – и все как нельзя лучше! Точно картина, вышедшая из рамы.
– Так хорошо, – решила графиня. – Скажите, чтобы мой экипаж заехал за мной во дворец; через полчаса он должен ожидать меня там, – приказала она мимоходом лакею.
На улице уже начинало темнеть, и в магазинах стали зажигаться огни, особенно в тех, что вытянулись длинным беспрерывным рядом витрин и окон вдоль тенистой аллеи главной улицы столицы принца Отто. Отправляясь на свой великий подвиг, графиня чувствовала себя весело настроенной; ее радовало и интересовало задуманное предприятие; и это настроение, это возбуждение придавали еще большую прелесть ее красоте, и она это хорошо знала. Она шла по тенистой аллее главной улицы, остановилась перед сверкающим бриллиантами магазином ювелира, полюбовалась некоторыми камнями, затем заметила и одобрила выставленный в другом магазине дамский наряд, и когда наконец дошла до густой липовой аллеи, под высокими тенистыми сводами которой мелькали торопливые и ленивые прохожие, то села на одну из скамей и стала обдумывать, предвкушая и оттягивая предстоящее ей удовольствие. Вечер был свежий, но госпожа фон Розен не чувствовала холода, ее согревала внутренняя теплота. В этом тенистом уголке ее мысли светились и сверкали лучше и ярче бриллиантов там, в витрине ювелира; шаги прохожих, раздававшиеся у нее в ушах, сливались для нее в своеобразную музыку.
Что она сделает теперь, спрашивала она себя. Бумага, от которой теперь зависело все, лежала у нее в кармане, и вместе с ней в кармане, можно сказать, лежала судьба и Отто, и Гондремарка, и Ратафии, и даже самого государства, словом, всего этого маленького княжества. И все это весило так мало на ее весах, как пыль; стоило ей положить свой маленький пальчик на ту или другую чашу весов, чтобы вскинуть на воздух все, что лежало на другой чаше! И она радовалась и упивалась своим громадным значением и своей властью и смеялась при мысли о том, как бессмысленно и бесцельно можно было растратить эту громадную власть. Дурман и опьянение властью, эта болезнь кесарей, охватывала минутами ее рассудок. «О, безумный свет! Глупая игрушка пустых случайностей, иногда – пустого женского каприза или прихоти!» – подумала она и довольно громко рассмеялась.
Ребенок с пальцем во рту остановился в нескольких шагах от нее и смотрел со смутным любопытством на эту смеющуюся барыню. Она подозвала его, приглашая подойти поближе, но ребенок попятился назад. Моментально, со свойственной большинству женщин в подобных случаях необъяснимой и беспричинной настойчивостью, она решила приручить маленького дикаря; и действительно, не прошло и нескольких минут, как малыш вполне дружелюбно сидел у нее на коленях и играл золотой цепочкой ее медальона.
– Если бы у тебя был глиняный медведь и фарфоровая обезьянка, – спросила она ребенка, двусмысленно улыбаясь, – которую из двух игрушек ты предпочел бы разбить?
– У меня нет ни медведя, ни обезьянки, – сказал ребенок.
– Но вот тут у меня есть светленький флорин, – сказала она, – на который можно купить и то и другое. Я подарю тебе обе эти игрушки, если ты мне скажешь, которую из двух ты не пожалеешь разбить. Ну же, ответь скорее – медведя или обезьянку?
Но бесштанный оракул только пялил глаза на блестящую монету, которую нарядная барыня держала в руке, и не мог отвести от нее своих больших вытаращенных глаз. Никакие ласки и увещевания не могли подвигнуть этого оракула хоть на какой-нибудь ответ. Тогда графиня поцеловала малютку, подарила ему флорин, спустила его на землю и, встав со скамьи, пошла дальше своей легкой пластичной походкой.
«Которого же из двух я разобью? – спрашивала она себя, и при этом она с особым наслаждением провела рукой по своим пышным, тщательно причесанным волосам и, лукаво улыбаясь прищуренными глазами, снова спросила себя: – Которого? – И она взглянула на небо, словно ища там указания или ответа. – Разве я люблю их обоих? Немножко?.. Страстно?.. Или нисколько?.. Обоих или ни того ни другого?! Мне кажется, обоих! – решила она. – Но во всяком случае, этой Ратафии я досажу порядком, будет она меня помнить!»
Тем временем графиня миновала чугунные ворота, поднялась к подъезду и уже поставила ногу на первую ступень широкой, украшенной флагами террасы. Теперь уже совершенно стемнело. Весь фасад дворца светился ярко освещенными рядами высоких окон, и вдоль балюстрады фонари и лампионы горели ярко и красиво. На самом краю западного горизонта еще светился бледный отблеск заката, янтарно-желтый и зеленоватый, как цвет светляков; и она остановилась на дворцовой террасе и стала следить, как там, вдали, догорали и бледнели эти последние светлые точки.
«Подумать только, – размышляла она, – что здесь стою я, как воплощенная судьба, как воплощенный рок, и вместе с тем и Провидение и спасительница – смотря по моему желанию, – и я стою и сама не знаю, за кого мне вступиться и кого погубить! Какая другая женщина на моем месте не считала бы себя связанной обещанием, но я, благодарение Богу, рождена без предрассудков! Я чувствую себя свободной от всяких обязательств, и мой выбор свободен!»
Окна комнат Отто тоже светились, как и остальные окна дворца; графиня взглянула на них и вдруг почувствовала прилив неизъяснимой нежности, которая помимо ее воли подымалась и росла в ее душе.
«Бедный, милый безумец! – подумала она. – Каково-то теперь будет у него на душе, теперь, когда он поймет и почувствует, что все отрекаются от него… Эта девчонка положительно заслуживает того, чтобы он увидел этот ее собственноручный указ! Да, пусть он увидит его, и пускай решит сам».
И, не раздумывая больше ни секунды, она вошла во дворец и послала сказать принцу, что она просит его принять ее немедленно по спешному делу. Ей сказали, что принц находится в своих апартаментах и желает быть один, что он приказал никого не допускать к себе. Но графиня все-таки приказала передать ему свою карточку. Немного погодя камердинер принца вернулся и доложил, что его высочество очень просит извинить его, но что он в настоящий момент никого принять не может, потому что чувствует себя нездоровым.
– В таком случае я напишу ему, – сказала фон Розен и набросала на листке бумаги несколько строк карандашом; она писала принцу, что дело, по которому она хочет его видеть, есть дело чрезвычайной важности, не терпящее отлагательств, что это вопрос жизни и смерти. «Помогите мне, принц, никто, кроме вас, мне в этом помочь не может», – гласила ее приписка.
На этот раз человек вернулся с большой поспешностью и пригласил графиню фон Розен следовать за ним.
– Его высочество изволил изъявить особенное удовольствие видеть графиню у себя, – объявил слуга, отворяя перед ней дверь.
Графиня застала принца в оружейной, той самой большой комнате, в которой все стены были увешаны старинным оружием и которую особенно любил принц. При неровном свете пылавшего в камине огня это оружие светилось то здесь, то там странными, капризными отблесками, придавая что-то фантастическое обстановке этого зала. Отто сидел в глубоком низком кресле перед камином; на лице его были заметны следы слез и глубокого душевного волнения, оно было красиво и печально, даже трогательно. Отто даже не встал и не пошел ей навстречу, как всегда, а только привстал и поклонился и приказал слуге удалиться.
То чувство безотчетной нежности, которое заменяло графине все сердечные порывы и даже совесть, охватило ее теперь с удвоенной силой при виде этой безмолвной пришибленности, этого убитого горем милого, печального принца. Едва только слуга успел уйти и запереть за собой дверь, едва только она осталась с глазу на глаз с принцем, как, сделав решительный шаг вперед и сопровождая свои слова великолепным жестом, графиня воскликнула: