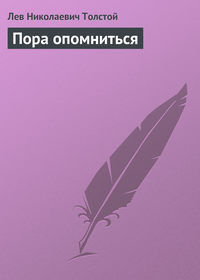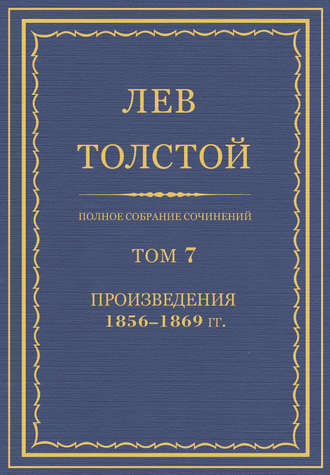 полная версия
полная версияПолное собрание сочинений. Том 7. Произведения 1856–1869 гг.
Родивон – вероятно, Родион Кузьмич Копылов, ясно-полянский крестьянин, действительно торговавший вином и чаем и пускавший к себе приезжих на постой.
Старик Ермил – яснополянский крестьянин, Ермил Антонович Зябрев, родоначальник богатой крестьянской семьи, получивший по нему прозвище Ермилиных; один из его сыновей был бурмистром в Ясной поляне; другой – волостным старшиной.
Мисоедово (Мясоедово) – деревня в 7 в. от Ясной поляны.
Отрывок печатается впервые.
4. «Как скотина разбрелась…»
Рукопись (Папка 37, 26а), автограф Толстого, занимает отдельный полулист почтовой бумаги, такого же формата, цвета и качества, как и в предыдущем случае; оторван нижний правый угол, отчего несколько пострадал текст. Почерк довольно крупный и размашистый.
Упоминаемый в отрывке Герасим, – это яснополянский крестьянин Герасим Иванович Копылов, носивший прозвище «бабник»; упоминаемый в предыдущем отрывке Родион Копылов приходился ему родным племянником.[430]
Ясенки – деревня в 5 в. от Ясной поляны.
Отрывок печатается впервые.
5. «Это было въ суботу…»
Рукопись (Папка 37, 26б), автограф Толстого, занимает два отдельных полулиста почтовой бумаги (4 страницы), такого же формата, цвета и качества, как и те, на которых написаны два предыдущих отрывка. Это обстоятельство, так же как и сходство почерка, заставляет думать, что эти три отрывка написаны приблизительно в одно и то же время, вероятнее всего в 1861—1862 гг.
Кочак – ручей, протекающий недалеко от Ясной поляны и впадающий в речку Воронку.
Впервые отрывок был напечатан по не совсем исправной копии в качестве варианта к рассказу «Тихон и Маланья» в изд. «Посмертных художественных произведений Л. Н. Толстого», под редакцией В. Г. Черткова и А. Л. Толстой. М. Том II, стр. 244—245.
Н. М. Мендельсон
«СОН».
Упоминания Толстого о работе над «Сном» находятся в Дневнике 1857 г. под 24 ноября и 19—30—31 декабря.
Первая запись говорит: «Дописал сон не дурно». Во второй читаем: «Писал Николинькин сон. Никто не согласен, а я знаю, что хорошо!» По мнению В. И. Срезневского,[431] в обеих записях идет речь об одном и том же произведении, но в разных его редакциях, причем толчком к художественному замыслу Толстого, по всей вероятности, был сон, рассказанный ему братом Николаем Николаевичем.
4 января 1858 г. Толстой пишет В. П. Боткину в Рим большое письмо, где говорит, что в обществе «происходит небывалый кавардак, поднятый вопросом эманципации», что он сам «устал от толков, споров, речей и т. д.». «В доказательство того, – продолжает Толстой, – при сем препровождаю следующую штуку, о которой желаю знать ваше мнение. Я имел дерзость считать это отдельным и конченным произведением, хотя и не имею дерзости печатать». Непосредственно за этим идет текст «Сна». «Ежели Тургенев еще с вами, то прочтите это ему и решите, что это такое, дерзкая ерунда или нет», – добавляет Толстой.[432]
Мнения Боткина и Тургенева нам неизвестны. Вероятно, они были неблагоприятны: в противном случае едва ли бы «Сон» был забыт и оставлен Толстым на пять лет.
После двух беглых упоминаний в письмах к гр. А. А. Толстой (в марте 1858 г.),[433] «Сон» вновь привлекает внимание Толстого лишь в 1863 г. Он несколько переделывает его и решается напечатать, но анонимно. «Сон» был переписан рукой С. А. Толстой, подписан буквами Н. О. и отправлен в редакцию газеты «День», издававшейся И. С. Аксаковым, от имени Нат. Петр. Охотницкой (дворянка-приживалка, жившая в Ясной поляне при Т. А. Ергольской). Вот что значилось в препроводительном письме: «Милостивый Государь Иванъ Сергѣичъ, посылаю для напечатания в вашей газете мой первый литературный опыт, разумеется, если вы найдете это удобным. Прошу вас покорно дать ответ по следующему адресу: В Тулу. Наталье Петровне Охотницкой. До востребования».
Аксаков ответил отказом: «Статейка ваша «Сон» не может быть помещена в моей газете. Этот «Сон» слишком загадочен для публики, его содержание слишком неопределенно, и может быть вполне понятен только самому автору. Для первого литературного опыта слог по моему мнению недурен, но сила вся не в слоге, а в содержании».
В 1864 или 1865 гг. Толстой хотел использовать «Сон» для романа «1805 год»; отрывок должен был послужить материалом для рассказа о падении Николая Ростова. Но этот эпизод не вошел в печатный текст.
В последний раз Толстой вернулся к «Сну», работая над той главой «Войны и мира», где рассказывается, как Пьер ночует в доме своего умершего «благодетеля» Баздеева. И на этот раз «Сон» не вошел в роман.
Упомянув о попытках Толстого использовать «Сон» для «Войны и мира», необходимо отметить предположения о связи «Сна» с «Альбертом», точнее – «Сон» в редакции, посланной Боткину, с заключительными страницами повести.
Такого именно взгляда держится И. Р. Эйгес в работе, напечатанной им в журнале ГАХН «Искусство» (1928 г., кн. 1-2) – «Из творческой истории рассказа «Альберт» Л. Толстого».
«Сон», возникший как отдельное, самостоятельное и законченное произведение, о чем писал Толстой Боткину, был, по мнению И. Р. Эйгеса, слит с концом «Альберта». Следы этого слияния, говорит И. Р. Эйгес, очевидны. «Внутренний смысл рассказа до его заключительного эпизода остается совершенно иным, чем смысл этого эпизода, который возникает неожиданно и немотивированно. Сращения двух самостоятельных художественных организмов не произошло, и по той именно причине, что основные устремления обоих снов несовместимы и противоречивы одно другому. В «Сне», как отдельном произведении, центр составляет чувство морального стыда, а во сне Альберта центр как раз в прямо противоположном – в оправдании и возвеличении художника, как такового».[434]
Б. М. Эйхенбаум говорит, что «Сон» «стилистически… восходит к «Альберту», и высказывает предположение, что финал последнего «представляет собой один из вариантов «Сна» и явился позже, чем редакция, посланная Боткину».[435]
Близость настроений, сказавшаяся в финале «Альберта» и в «Сне», несомненна и объясняется, конечно, тем, что, совпадая по времени создания, они оба отражают глубоко-интимные переживания Толстого-художника.
Тем не менее не следует упускать из виду, что и первоначально, в 1858 г., в эпоху «Альберта», и позднее, в 1863 г., когда настроения 1858 г. были давно пройденной ступенью, Толстой смотрел на «Сон», как на самостоятельное произведение.
К рассказу «Сон» относятся следующие рукописи.
1. Автограф (Папка VI, 8, I), хранящийся в архиве Толстого в Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина. 1 л. очень тонкой заграничной почтовой бумаги большого формата, без водяных знаков и клейма. Текст написан вдоль. Чернила черные. Небольшие поля слева. Много поправок.
Считаем этот автограф первой редакцией «Сна», о которой говорит Дневник под 24 ноября 1857 г. Текст ее дан выше (см. стр. 118—119).
2. Письмо Толстого к Боткину от 4 ноября 1858 г., упомянутое выше.
Полагаем, что текст «Сна», данный в письме, представляет собой вторую редакцию, о которой идет речь в Дневнике под 29—30—31 декабря 1857 г.
3. Рукопись (Папка VI, 8, 2), хранящаяся в архиве Толстого в Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина. Копия «Сна», сделанная рукой С. А. Толстой. 2 лл. заграничной писчей бумаги. Клейма нет. Водяные знаки – Lacroix Frères. Поля в треть страницы справа. Чернила черные. Беловой экземпляр с двумя незначительными поправками рукой
С. А. Толстой. Непосредственно за текстом «Сна» идет приведенное выше письмо к И. С. Аксакову от имени Н. П. Охотницкой.
Текст этой копии, предназначавшийся Толстым для печати, даем, как основной, дефинитивный (см. стр. 117—118).
Впервые «Сон» был напечатан в «Полном собрании художественных произведений Толстого» под редакцией К. Халабаева и Б. Эйхенбаума, (Государственное издательство, т. III, М. – Л. 1928, стр. 501—502).
Что касается попыток включить «Сон» в «1805 год» и «Войну и мир», то следами их остался, во-первых, листок, писанный почерком более ранним, чем черновики «1805 года», но с поправками, сделанными более поздним почерком. Здесь рассказ ведется не в первом, а в третьем лице. Второй след – запись нескольких слов, напоминающих «Сон», в связи с главой, где идет речь о ночевке Пьера в квартире покойного Баздеева.
В. Ф. Саводник
О ХАРАКТЕРЕ МЫШЛЕНИЯ В МОЛОДОСТИ И В СТАРОСТИ.
Рукопись, автограф Толстого, занимает пол-листа писчей бумаги, без фабричного клейма и водяных знаков; верхняя часть листа, приблизительно четверть, оторвана. Заглавия не имеется. По почерку скорее можно отнести к началу 1860-ых гг. (1862—1863 гг.) Хранится в архиве Толстого в Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина. (Папка 11, 8.)
Отрывок печатается впервые.
О НАСИЛИИ.
Рукопись, автограф Толстого, заключает в себе два полных листа писчей бумаги in-folio, всего 8 страниц, из них последняя не исписана. Бумага фабрики Рейнера, довольно плотная. Почерк крупный и четкий, особенно в начале рукописи; но с 3 страницы он становится более беглым и неровным, а последние две страницы по всем признакам набросаны торопливо, в виде конспекта, долженствовавшего только закрепить мысль автора и подлежавшего дальнейшей обработке; поэтому изложение этой части лишено связности и стилистической отделки. Рукопись вложена в обложку, состоящую из листа писчей бумаги фабрики Никифорова-Новикова; на 1 странице обложки, вверху, подпись: «Гр. Л. Н. Толстой» в середине рукой С. А. Толстой написано: «Ясная Поляна. 1 Статья».
За отсутствием каких-либо прямых указаний, рукопись можно датировать лишь приблизительно, исходя из внешних признаков: качества бумаги и характера почерка. Рукопись написана на бумаге фабрики Рейнера, которую употребил Толстой в конце 1850-ых и в начале 1860-ых гг.: на ней написано несколько отрывков «Казаков» и значительная часть «Семейного счастья» (1858—1862 гг.); позднее бумага этой фабрики уже не встречается в обиходе Толстого. Что касается почерка, которым написана рукопись, то он по своему общему характеру более приближается к почерку раннего периода творчества Толстого (1850-ых гг.), так как в нем еще совсем нет той связности и округленности в начертании букв, которые составляют характерную особенность почерка Толстого в более поздний период и которые постепенно устанавливаются только во второй половине 1860-ых гг.
Рукопись хранится в архиве Толстого в Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина. (Папка XIV, 6.)
О РЕЛИГИИ.
Рукопись, автограф Толстого, занимает полный лист писчей бумаги, in– folio, без фабричного клейма и водяных знаков; исписано три страницы, последняя страница чистая. Почерк довольно крупный и четкий. Встречаются помарки, поправки и дополнения, вписанные между строк и сбоку на небольших оставленных полях. Первоначальное заглавие: «Можно ли доказывать религію» зачеркнуто автором и заменено новым. В конце текста записано другое заглавие: «О либерализмѣ вѣка и конституціи», относящееся, очевидно, к другой задуманной Толстым, но ненаписанной им статье.
Время написания рукописи точно определяется записью дневника от 16 октября 1865 г.: «Читал Гизо-Вит доказательство религии и написал первую статейку по мысли данной мне Montaigne». Очевидно Толстой имеет в виду одно из религиозных сочинений Генриетты Витт, рожд. Гизо, дочери историка и политического деятеля Франсуа Гизо. К тому времени, как была сделана запись в дневнике Толстого, были изданы книги Витт: «Petites méditations chrétiennes à l’usage du culte domestique» (1862) («Некоторые христианские размышления по поводу домашнего богослужения»), «Nouvelles petites méditations chrétiennes» (1864) («Еще некоторые христианские размышления») и «Histoire sainte racontée aux enfants» (1865) («Священная история, рассказанная детям»). Сам Толстой называет в качестве своего вдохновителя знаменитого французского мыслителя XVI века Монтэня, в «Опытах» которого, действительно, встречаются неоднократно размышления о религии, особенно в его «Апологии Раймона Себонда» («Essais», livre II, ch. XII: «Apologie de Raimond Sebond»). Интересно отметить, что первая попытка Толстого формулировать свои взгляды на религию связана с именем скептика Монтэня.
Рукопись хранится в архиве Толстого в Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина. (Папка XX, 6.)
Отрывок печатается впервые.
ЗАМЕТКА О ТУЛЬСКОЙ ПОЛИЦИИ.
Рукопись, автограф Толстого, занимает полулист писчей бумаги, сложенный в четвертку; исписано 3 страницы, четвертая чистая; бумага носит клеймо: «Отрад. фабр. Стивинсъ», в рамке рококо: бумага этой фабрики не принадлежала к обиходу Льва Николаевича и, очевидно, попала в его руки случайно. Почерк рукописи крупный и связный; запись, судя по многочисленным сокращениям и опискам, была сделана автором с большой торопливостью, хотя вместе с тем в рукописи встречаются многочисленные поправки и помарки.
Заглавия не имеется; начало: «Доктор подвергся…» Рукопись подписана: «Гр. Л. Толстой». Так как обычно Лев Николаевич не подписывал своих рукописей, то это наводит на мысль, что данная статья предназначалась им для опубликования в качестве газетной заметки; об этом свидетельствует и полемический тон самой статейки, так же как и ее обличительное содержание.
Время написания статейки, помимо внешних признаков, определяется тем, что данная рукопись была найдена среди черновиков «Войны и мира»; в виду этого мы относим ее ко второй половине 1860-ых гг.
Т. А. Кузминская рассказывает в своих воспоминаниях о неудачах, постигавших Толстого, когда он, после женитьбы, задумал расширить свою хозяйственную деятельность и наладить сбыт в Москве продуктов своего хозяйства: масла, мяса, окороков и проч. («Моя жизнь дома и в Ясной поляне». Изд. 2-е. Ч. II, стр. 58—59); возможно, что одна из подобных неудач вызвала полемическую заметку Толстого против тульской полиции, явившейся косвенной причиной этой неудачи.
Рукопись хранится в архиве Толстого в Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина. (Папка XVI, 7.)
Заметка печатается впервые.
ПРОГРЕСС.
Рукопись, автограф Толстого, занимает четвертку писчей бумаги, желтоватой, низкого качества, без фабричного клейма и водяных знаков. Почерк довольно крупный и размашистый, чернила рыжие. Некоторые фразы особо выделены; так, в конце первой страницы фразы: «Книгопечатаніе – непроизводительная работа. Для знаній довольно рукописи» – написаны крупными буквами и частично подчеркнуты, а последние фразы, которыми заканчивается отрывок, обведены чертою. Отрывок написан в два приема, причем время написания его точно определяется датами, выставленными самим автором (2 и 9 ноября 1868 г.).
Ближайшим поводом к написанию отрывка было, очевидно, чтение книги В. Прескотта: «The Conquest of Peru» (Завоевание Перу). Книга Прескотта, о котором Толстой упоминает в начале своего отрывка, навела его на мысль об относительности ценности западно-европейской цивилизации, которая, в лице завоевателей-испанцев, уничтожила древнюю перуанскую культуру. Сомнение во внутренней ценности западно-европейской цивилизации было издавна свойственно Толстому и нашло себе выражение как в заметках дневника, так и в таких произведениях его, как «Люцерн». Двукратное путешествие по Европе не только не рассеяло этих сомнений, но еще более укрепило их. Особенно тяжелое впечатление произвело на Толстого зрелище смертной казни в Париже в 1856 г., а посещение Лондона вызвало в нем, судя по записи дневника от 13 апреля 1861 г., «отвращение к цивилизации». Ближайшим образом мысли, изложенные в настоящем отрывке, примыкают к размышлениям о современной культуре, изложенным Толстым в статье: «Прогресс и определение образования», в особенности в тех частях этой статьи, представляющей собой возражение на статью Е. Л. Маркова, которые были откинуты автором при печатании своего возражения. В основу этой статьи Толстой хотел положить «мысль о нелепости прогресса» (запись дневника от 20 мая 1862 г.), но наиболее резкие суждения свои об этом предмете он тогда не решился огласить печатно, и они остались в черновых рукописях. (См. варианты к статье: «Прогресс и определение образования» в 8-м томе настоящего издания.)
Рукопись хранится в архиве Толстого в Всесоюзной библиотеке СССР им. В. И. Ленина. (Папка XXX, 3.)
Отрывок печатается впервые.
ФИЛОСОФСКИЙ ОТРЫВОК.
Отрывок, автограф Толстого, написан на обороте первой страницы рассуждения о браке и призвании женщины (см. следующую заметку). Почерк крупный и размашистый. Время написания точно устанавливается датой, выставленной самим автором в начале отрывка.
«Cogito ergo sum» (я мыслю, следовательно, существую) – известное положение французского философа Декарта.
Рукопись хранится в архиве Толстого в Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина (Папка 11, 22.)
Отрывок печатается впервые.
О БРАКЕ И ПРИЗВАНИИ ЖЕНЩИНЫ.
Рукопись занимает пол-листа писчей бумаги, сложенной в четвертку, причем нижняя половина первой четвертушки оторвана. Бумага фабрики Никифорова-Новикова. Почерк, в начале довольно крупный, но сжатый, в конце становится всё более и более мелким. Последовательность текста необычная: начинаясь на первой странице рукописи, он затем переходит на четвертую и заканчивается на третьей, которая исписана только наполовину. На обороте первой страницы помещен отрывок философского содержания, начинающийся словами: «6 дек. 1868 г. Не cogito ergo sum…», и не имеющий никакого отношения к основному тексту рукописи. Рукопись достаточно точно датируется вышеприведенной пометкой автора, а также и встречающимся в начале текста упоминанием о предисловии Тургенева к роману Ауэрбаха: «Дача на Рейне», напечатанному в сентябрьской книжке «Вестника Европы» за 1868 г. По своему внутреннему характеру размышления Толстого о браке и призвании женщины, составляющие содержание рукописи, тесно примыкают к тому циклу идей о женщине и семейной жизни, который сложился у него в эту эпоху и который получил наиболее яркое выражение в эпилоге «Войны и мира», а несколько позднее в «Анне Карениной» и других произведениях.
Рукопись хранится в архиве Толстого в Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина. (Папка 11, 29.)
Отрывок печатается впервые.
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА.
Рукопись, автограф Толстого, представляет собой листок писчей бумаги, оторванный от полулиста, размером несколько более четвертки, бумага фабрики Никифорова-Новикова, нижняя часть листа оторвана (около 1/3); справа оставлены поля, приблизительно в треть страницы; текст написан вдоль полулиста довольно крупным и связным почерком; оборот листа чистый. Заглавия не имеется.
По содержанию отрывок посвящен описанию рождественской елки в Ясной поляне, на которую приглашены были крестьянские дети; хронологически он должен быть приурочен ко второй половине 1860-ых гг., в виду того, что в нем упоминается двое старших детей Льва Николаевича: Сережа (р. 28. VI, 1863 г.) и Таня (р. 4 X. 1864 г.).
Рукопись хранится в архиве Толстого в Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина. (Папка 11, 7.)
Отрывок печатается впервые.
АНЕКДОТ О ЗАСТЕНЧИВОМ МОЛОДОМ ЧЕЛОВЕКЕ.
Рукопись, автограф Толстого, занимает полулист сероватой писчей бумаги, сложенный в четвертку, с небольшими полями; бумага фабрики Говарда; исписаны 3 страницы, причем на третьей странице помещено всего несколько строк; четвертая страница – чистая. Почерк очень крупный, вызывающий даже предположение, что рассказ предназначался для упражнения детей в чтении по писаному; возможно, что рассказ этот предназначался для кого-либо из старших детей самого Льва Николаевича; этому не противоречит также и самое содержание коротенького рассказа-анекдота, сочиненного Толстым или, быть может, даже взятого из жизни. Заглавия не имеется.
Рукопись хранится в архиве Толстого в Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина. (Папка 27, 4.)
Отрывок печатается впервые.
ОАЗИС.
Сохранилась одна рукопись-автограф этого отрывка, занимающая два полулиста писчей бумаги, согнутой пополам, и еще одну четвертку (всего 10 страниц in 4°); бумага фабрики Говарда. Почерк крупный и связный; помарок и поправок сравнительно немного; на некоторых страницах оставлены небольшие поля, другие исписаны сплошь. На странице 9 на полях есть заметка, не имеющая никакого отношения к тексту: «Алекс. банкъ. Щуровъ Кон. Ал.». Судя по почерку и по цвету чернил, отрывок написан в два приема: первые две с половиной страницы написаны черными чернилами, а продолжение, начиная со слов: «Мнѣ было 16 лѣтъ…» – рыжими; это совпадает с внутренним построением самого отрывка, первая часть которого представляет собой как бы введение в последующий рассказ.
Время написания отрывка может быть определено только приблизительно. А. Е. Грузинский приурочивает его к 1863 г., относя к этому отрывку запись в Дневнике от 23 февраля этого года: «Начал писать: не то. Перебирал бумаги – рой мыслей и возвращение или попытка возвращения к лиризму. Он хорош. Не могу писать, кажется, без заданной мысли и увлечения» («Лев Толстой. Неизданные художественные произведения», со вступительными статьями А. Е. Грузинского и В. Ф. Саводника, изд. «Федерация». М. 1928, стр. 231). Однако упоминание о «лиризме», которым, действительно, проникнут отрывок «Оазиса», еще не дает достаточных оснований для столь определенного приурочения. Судя по качеству бумаги и по характеру почерка, резко отличающегося от почерка молодых лет Толстого и напоминающего почерк более позднего периода, отрывок можно отнести скорее ко второй половине или даже к концу 1860-ых гг.
Отрывок «Оазис» впервые был напечатан в указанном выше издании (стр. 233—240).
Рукопись хранится в архиве Толстого в Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина. (Папка XX, 2.)
СТЕПАН СЕМЕНЫЧ ПРОЗОРОВ.
Рукопись, автограф Толстого, занимает полулист писчей бумаги, сложенный в четвертку, всего 4 страницы, с небольшими полями, сплошь исписанными; бумага довольно плотная, без водяных знаков и фабричного клейма. Почерк крупный и связный в основном тексте, более мелкий и сжатый на полях. По характеру почерка отрывок можно отнести ко второй половине 1860-ых гг., скорее к концу их. Никаких указаний для более точной датировки у нас не имеется.
Автор работал над своим наброском в два приема: первоначально было исписано основное поле бумаги; однако, автор, повидимому, не был удовлетворен своей работой и стал ее переделывать почти заново; всё начало отрывка было зачеркнуто им, так же как и две последние страницы; таким образом от первоначального текста остался только эпизод встречи с крестьянином на охоте, занимающий конец первой и почти всю вторую страницы рукописи; весь остальной текст вписан автором на полях и представляет собой как бы вторую редакцию отрывка.
Интересно отметить, что первоначально Толстой приурочил свой замысел к определенному географическому району (Одоевский уезд, Тульской губ.), но затем заменил эти конкретные указания чисто вымышленными (Сандарская губ.). Известное колебание проявил автор в установлении имени-отчества своего героя, который именуется то Андреем Иванычем, то Степаном Семенычем, но фамилия: Прозоров – остается неизменной.
Рукопись хранится в архив Толстого в Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина. (Папка 11, 1.)
Отрывок печатается впервые.
УБИЙЦА ЖЕНЫ.
Рукопись, автограф Толстого, занимает два полулиста писчей бумаги, сложенных в четвертку, с небольшими полями; бумага фабрики Говарда; записано всего 6 страниц, причем на шестой странице помещено всего несколько строк; две последние страницы чистые. Почерк крупный и связный, устанавливающийся у Толстого во второй половине 1860-ых гг. Как по характеру почерка, так и по качеству бумаги, рукопись может быть отнесена скорее всего ко времени после окончания «Войны и мира», т. е. к самому концу 1860-ых гг. Более точная датировка невозможна, так как в дневниках и письмах Толстого не сохранилось никаких указаний, относящихся к этому литературному замыслу. Рукопись не имеет никакого заглавия.
Отрывок был оставлен автором в зачаточном состоянии, и он к нему в ближайшее время уже не возвращался; только много лет спустя мотив убийства из ревности был использован Толстым в «Крейцеровой сонате».
Рукопись хранится в архиве Толстого в Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина. (Папка 3, 2.)