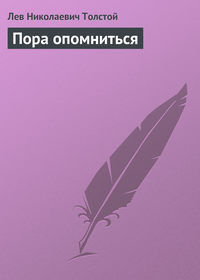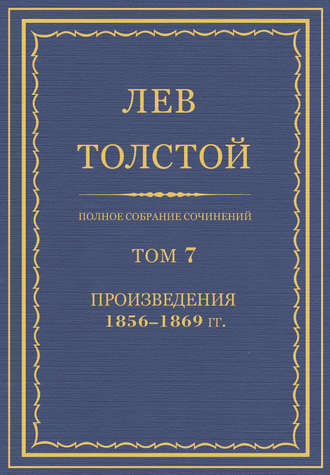 полная версия
полная версияПолное собрание сочинений. Том 7. Произведения 1856–1869 гг.
Глафира Ѳеодоровна.
Ахъ, батюшка, Христосъ съ тобой, на меня то не кричи. Назвалъ Богъ знаетъ кого, а я виновата. Пойдемте, Ѳіона Андреевна, я вижу, что мы лишнія.
Ѳіона Андреевна.
Лишнія, матушка, лишнія. (Уходятъ.)
ЯВЛЕНIE VI.
Семенъ Иванычъ (одинъ).
Ревновать – не ревновать, это глупости. Но странно, дѣйствительно странно. Что за перемигиванье, перешоптыванье, – убѣжала.... И всѣ онѣ, эти дѣвчонки, обрадовались этому костлявому Крисанфу какому то. Все это примѣръ.[399] Дѣвчонки кокетничаютъ, и она зa ними. Но то дѣвчонки! Непостижимо![400] Однако, что это за таинственныя улыбки, перемигиванье? Ахъ, какъ досадно! Нѣтъ, это даже страшно… Да, страшно. Ахъ, женщины![401] (Уходитъ.)
ДѣЙСТВІЕ II.
ЯВЛЕНІЕ I.
Марья Дмитріевна, Люба, Наталья Павловна, Николинька разсматриваютъ транспарантъ. Въ комнатѣ безпорядокъ, бумага, крахмалъ, костюмы.
Марья Дмитріевна.
Отлично, отлично устроилъ Хрисанфъ, намъ Богъ послалъ этаго Хрисанфа.
Наталья Павловна (смѣется).
Ахъ, Марья Дмитріевна, какъ онъ мнѣ надоѣлъ? Выдумалъ[402] зa мной ухаживать, говорить о какой то разумной любви, такой противный!
Люба.
Неправда, Маша, она очень рада. Сама съ нимъ кокетничаетъ.
Наталья Павловна.
Я? вотъ еще вздоръ! Нѣтъ, Марья Дмитріевна, это она съ нимъ кокетничала. Все объ эмансипаціи говорила.
Люба.
Нѣтъ ты.
Наталья Павловна (обиженно).
Ужъ извините, совсѣмъ не я.
Люба.
Нѣтъ ты!
Наталья Павловна (тѣмъ же тономь).
Ужъ сдѣлайте милость, не я.
Люба.
Нѣтъ ты.
Марья Дмитріевна.
Будетъ, будетъ вамъ спорить. Пора за дѣло приниматься. У насъ еще и S не конченъ.[403]
Люба.
Нѣтъ, Маша, я не умѣю; надо Христанфъ Васильевича позвать.
Наталья Павловна.
Nicolas, бѣгите за нимъ скорѣй.
(Николинька убѣгаетъ).
ЯВЛЕНІЕ II.
Тѣ же, безъ Николиньки.
Наталья Павловна (съ живостью подходитъ къ Машѣ).
Марья Дмитріевна, когда онъ работаетъ, онъ снимаетъ сюртукъ. Вы ужъ ему позвольте. Посмотрите, какая у него рубашка ситцевая.
ЯВЛЕНIE III.
Тѣ же, входятъ студентъ съ Николинькой.
Марья Дмитріевна.
Стихи готовы?
Люба.
Мажьте сажей transparent, а то я руки замараю.
Наталья Павловна.
Чтожъ фонари?
Хрисанфъ Васильевичъ (останавливается въ дверяхъ).
Вотъ она, равноправность женщинъ. Вездѣ сущимъ можетъ быть только одинъ Богъ, а я всюду не поспѣю. Нѣтъ, я говорилъ вамъ, Наталья Павловна, что еще далеко нашимъ женщинамъ до понятія о разумной любви.
Люба.
Не въ любви дѣло, мажьте сажей.
Марья Дмитріевна.
Снимайте сюртукъ.
Наталья Павловна.
Клейте фонари.
Хрисанфъ Васильевичъ.
Такъ позвольте же. (Снимаетъ сюртукъ.)
Марья Дмитріевна.
Сдѣлайте одолженіе. Николинька, ступай на крыльцо; если кто пройдетъ, бѣги сказать.
Николинька.
Ужъ будьте покойны, ни кота, ни кошки не пропущу. (Убѣгаетъ.)
ЯВЛЕНIE IV.
Тѣ же, безъ Николиньки (Всѣ обращаютъ вниманіе на рубашку студента.)
Наталья Павловна (насмешливо).
Лиловая!
Марья Дмитріевна ( так же).
Грязная!
Люба.
Съ голубыми цвѣточками!
Xрисанфъ Васильевичъ.
Что? Что?
Люба.
Ничего, я только говорю, что голубенькіе[404] цвѣточки будутъ очень хороши на фонарѣ.[405]
Xрисанфъ Васильевичъ.
Но прошу вашего содѣйствія, господа.
Наталья Павловна.
Хорошо, я подклею. (Подклеиваетъ ему звѣзду на рубашкѣ.)
Люба (краситъ ему воротъ рубашки).
А я подкрашу.
Марья Дмитріевна.
Ну, чтожъ стихи?
Хрисанфъ Васильевичъ.
Позвольте минуту вдохновенія, Марья Дмитріевна. (Проводитъ рукой по волосамъ и мажетъ лобъ сажей.)
Наталья Павловна и Люба (вмѣстѣ).
Еще, еще вдохновенія!
Хрисанфъ Васильевичъ (пачкаетъ опять лицо, не замѣчая этаго).
Извольте. (Отходитъ въ сторону и становится въ позу.) «Съ имянинами поздравить…» Нѣтъ, не хорошо…
Николинька (вбѣгаетъ).
Идетъ, идетъ!
Марья Дмитріевна.
Кто идетъ?
Николинька.
Николай поваръ.
Люба.
Ахъ, дуракъ!
Марья Дмитріевна.
Не въ поварѣ дѣло, а если кто изъ нашихъ придетъ…
Хрисанфъ Васильевичъ.
Позвольте, позвольте, господа. Вы меня измазали и приклеили. Приклеили двояко.
Наталья Павловна.
А стиховъ всетаки[406] нѣтъ.
Марья Дмитріевна.
Ну, какъ хотите съ вашимъ вдохновеніемъ, а мы будемъ клеить.
Хрисанфъ Васильевичъ (въ сторону).
«Съ имянинами поздравить…» Нѣтъ, не хорошо.[407] «Поздравленіе принесть…» (Подумавъ.) Возьму готовое…[408] Пожалуйте, Марья Дмитріевна, готово. (Декламируетъ.)[409]
Хоть поздравлять не современно
Въ костюмѣ граціи съ цвѣтами, —
Я консерваторъ совершенно,
И занята одними вами!
Позвольте еще?
Марья Дмитріевна.
Довольно. Отлично, очень хорошо. Мы въ костюмахъ трехъ грацій поднесемъ ему вензель, и я спою стихи. Очень вамъ благодарна, Хрисанфъ Васильевичъ. (Жметъ руку студенту. Въ это время отворяется окно и показывается голова[410] Семена Иваныча.) (Испуганно, между тѣмъ какъ дѣвочки закрываютъ фонари.) Ахъ, Семенъ Иванычь, не ходи сюда, не ходи!
Семенъ Иванычъ (глядитъ съ ужасомъ на жену).
А, вы всѣ здѣсь. Я очень радъ, что вамъ весело. Хорошо, хорошо, я уйду.
Наталья Ивановна.
Боже мой, онъ все видѣлъ!
Люба.
Не видалъ, не видалъ!
Марья Дмитріевна.
Гдѣ же этотъ проклятый Николинька? Люба, притащи его сюда. (Николинька сталкивается съ бѣгущей къ нему Любой.)
Николинька (вбѣгаетъ).
Идетъ, самъ идетъ.
Марья Дмитріевна.
Что ты надѣлалъ?
Люба.
Гдѣ ты былъ?
Наталья Павловна.
Ахъ, все пропало!
Хрисанфъ Васильевичъ.
Невѣрный рабъ, я заставилъ тебя караулить вертоградъ мой, а ты спалъ. (Всѣ тормошатъ Николиньку.)
Люба.
Защекочу.
Наталья Павловна.
А я сажей вымажу.
Николинька (барахтается).
Пустите, пустите!
ЯВЛЕНИЕ V.
Тѣ же, Ѳіона Андреевна.
Ѳіона Андреевна (съ ужасомъ).
Батюшки, ребенка задушили. Кузьма! люди! народъ![411]
Хрисанфъ Васильевичъ.
Сударыня! сколь не пріятно намъ ваше общество, но въ настоящую минуту[412] мы безъ слезъ обойдемся безъ онаго.
Ѳіона Андреевна.
Тьфу ты!
Люба.
Идите, ступайте. (Захлопываетъ дверь.)
Ѳіона Андреевна (жалобно, показывая разорванное платье).
Крепъ-рашелевое! Благодѣтельница подарила!
Марья Дмитріевна.
Ну васъ съ благодѣтельницей!
Ѳіона Андреевна (выглядываетъ изъ двери).
Ай, страсти какія, стюдентъ чортомъ нарядился! Все пойду скажу. (Уходитъ.)
Марья Дмитріевна.
Ступайте. Николинька, бѣги на часы, а мы примемся за дѣло.
Хрисанфъ Васильевичъ.
Чтожъ это она однако сказала, что студентъ чортомъ нарядился? Дай посмотрю. (Смотрится въ зеркало и съ досадой срываетъ бумажку.) Какъ глупо. Ничего остроумнаго нѣть.[413] Покорно васъ благодарю, Наталья Павловна, это все ваше остроуміе. (Надѣваетъ сюртукъ.)
Люба.
Эго вовсе не Наташа, а она сама приклеилась.
Наталья Павловна и Марья Дмитріевна.
Сама, сама.
Хрисанфъ Васильевичъ.
Какое недоразвитіе!1
Марья Дмитріевна.
Ну полноте, Хрисанфъ Васильевичъ. Какъ это шутки не понимать! Однако мнѣ надо идти, какъ бы не хватились.
Николинька (бѣжитъ).
Идетъ, идетъ сама, распросама! (Біъгаютъ безъ толку кругомъ стола,[414] кричатъ: батюшки!)
Марья Дмитріевна.
Полноте, несите все вонъ, прячьте! (Всѣ убѣгаютъ, кромѣ Марьи Дмитріевны и Хрисанфа Васильевича.)
ЯВЛЕНІЕ VI.
Марья Дмитріевна, Хрисанфъ Васильевичъ и Глафира Ѳеодоровна.
Глафира Ѳеодоровна.
Мило, очень мило. Simon! бѣдный Simon![415] И ты не пожалѣла моихъ сѣдыхъ волосъ. Для кого? Хорошъ, помазилка!
Хрисанфъ Васильевичъ (съ достоинствомъ).
Какое вы имѣете право?
Марья Дмитріевна.
Послѣ, maman, послѣ все разскажу. Пойдемте, Хрисанфъ Васильевичъ. (Уводитъ студента.)
ЯВЛЕНІЕ VII.
Глафира Ѳеодоровна одна, потомъ Ѳіона Андреевна.
Глафира Ѳеодоровна (одна).
Ни стыда, ни совѣсти! Такъ, сударыня! Взяла подъ руки своего возлюбленнаго и пошла. Богъ мой! Нѣтъ, я не перенесу этаго. Фіона Андреевна!
Ѳіона Андреевна (вбѣгаетъ).
Благодѣтельница!
ДѢЙСТВІЕ III.
ЯВЛЕНІЕ I.
Глафира Ѳеодоровна и Ѳіона Андреевна раскладываютъ карты.
Ѳіона Андреевна.
И слышитъ она необыкновенный трескъ, глядитъ, глядитъ, а у ней подъ образами круги, все круги....
Глафира Ѳеодоровна.
Да что за круги?
Ѳіона Андреевна.
Ужъ ото ей, матушка, такъ Богъ далъ знаменіе.... Ну-съ, вотъ она и пошла къ старцу, приходитъ въ келью, глядь, а тамъ свинья сидитъ.... бѣсъ надъ ней. Она такъ и хлопнулась. Спасибо, послушникъ вошелъ, спрыснулъ её, говоритъ: это ничего, онъ у насъ блаженный! Иной разъ Богъ знаетъ чѣмъ прикинется.
Глафира Ѳеодоровна (отдает ей карты).
Помѣшайте карты.
Ѳіона Андреевна.
Извольте, матушка. Вотъ, сударыня моя, старецъ этотъ и посовѣтовалъ: поди, молъ, къ Соловецкимъ.
Глафира Ѳеодоровна.
Куда?
Ѳіона Андреевна.
Къ Соловецкимъ, матушка. Ну-съ, она и пошла, – шла, шла, а онъ то все въ глазахъ…
Глафира Ѳеодоровна.
Кто?
Ѳіона Андреевна.
Да бѣсъ-то. И заболи то у нее вдругъ нога, шишка.
Глафира Ѳеодоровна.
Что?
Ѳіона Андреевна.
Шишка, матушка, да здоровенная такая. Какъ тутъ быть? Остановилась она у старушки, а старецъ, отецъ Анфилогій ей сказалъ: смотри, никогда на правомъ боку не спи, потому – онъ тутъ сидитъ…
Глафира Ѳеодоровна.
Да что ты, мать моя, такъ безтолково разсказываешь? Да кто сидитъ то?
Ѳіона Андреевна.
Онъ, матушка. Да какже, – отецъ Анфилогій говоритъ: при рожденіи кажнаго человѣка, въ писаніи сказано…
Глафира Ѳеодоровна.
Да ну, будетъ вамъ! У меня не то въ головѣ. Гдѣ Сеня то нашъ? Бѣдный Simon! подумать не могу. Вонъ и онъ, уйдемте. (Уходятъ.)
ЯВЛЕНІЕ II.
Семенъ Иванычъ одинъ, потомъ Наталья Павловна.
Семенъ Иванычъ (входитъ мрачный).
Нѣтъ, я не могу этаго терпѣть больше. Маменька призвала меня и рѣшительно объявила, что она сама видѣла, какъ моя жена говорила тайно съ этимъ господиномъ. Она говоритъ…
[1 В рукописи Б]
[2 В подлиннике:]
Но это ужасно, что она говоритъ и думаетъ… Положимъ, это вздоръ, но какъ довести себя до того, чтобы подать поводъ это думать! Но надо рѣшиться. Я не могу такъ это оставить. Пойду къ ней и[416] объяснюсь. Маша, Маша, какъ я любилъ тебя! А этаго господина… ну, ужъ этому господину нехорошо будетъ – да, нехорошо! (Беретъ дубину.)
ЯВЛЕНІЕ III.
Наталья Павловна (входитъ).
Что вы, Семенъ Иванычъ, грустны какъ будто?
Семенъ Иванычъ.
Я? Нѣтъ, ничего.
Наталья Павловна.
Что это какая страшная палка? Это зачѣмъ?
Семенъ Иванычъ.
Это такъ… (Молчитъ.) Наталья Павловна, что бы вы сдѣлали, ежели бы всей душой вы любили человѣка, и этотъ человѣкъ не пожалѣлъ бы оскорбить васъ, въ самое больное мѣсто поразить васъ?
Наталья Павловна.
Я не могу думать,[417] я не испытала.
Семенъ Иванычъ (беретъ палку).
Я знаю, что сдѣлать. (Угрожаетъ дубинкой.) Нѣтъ, ничего. Прощайте. (Наталья Павловна уходитъ.)[418] Ахъ, нѣтъ… Гдѣ Маша? Пойду и рѣшу все, непременно рѣшу? (Идетъ.)
Марья Дмитріевна (изъ за двери).
Сеня, это ты? Выдь на минутку, я тебя прошу.
Семенъ Иванычъ (въ сторону).
Она и скрывать не хочетъ! Непонятно.[419]
(Наталья Павловна уходитъ.)
ЯВЛЕНІЕ IV.
Хрисанфъ Васильевичъ (беретъ свѣчи, отодвигаетъ столъ и стулья).
Васъ просятъ выйти на минуту.
Семенъ Иванычъ (беретъ палку).[420]
Постойте, подождите!
Хрисанфъ Васильевичъ.
Некогда, послѣ. (Уходитъ унося свѣчи.)
ЯВЛЕНIЕ V.
Люба (подбѣгаетъ къ двери).
Глафира Ѳеодоровна, голубушка, скорѣе! что у насъ дѣлается, прелесть! идите скорѣе. (Убѣгаетъ.)
ЯВЛЕНІЕ VI.
Глафира Ѳѳодоровна, Ѳіона Андреевна, Семенъ Иванычъ, потомъ и всѣ.[421]
Глафира Ѳеодоровна.
Это еще что? Свѣтопредставленіе!
Ѳіона Андреевна.
Матушка, въ потемкахъ хоть молитву сотворите.
Семенъ Иванычъ.
Нѣтъ, это[422] нельзя перенести, или я или.... Они взбѣсились, ничего не понимаю!
ЯВЛЕНІЕ VII.
Всѣ входятъ въ костюмахъ, съ транспарантомъ.
Марья Дмитріевна (поетъ стихи).[423]
Хоть поздравлять несовременно
Въ костюмахъ грацій и цвѣтами, —
Я консерваторъ совершенно
Я занята одними вами.
(Ѳіона Андреевна, Глафира Ѳеодоровна, Семенъ Иванычъ плачутъ.)[424]
Семенъ Иванычъ.
Ахъ я дуракъ! А я то думалъ....
Марья Дмитріевна.
Что ты думалъ?
Семенъ Иванычъ.
Нѣтъ, не скажу.
Марья Дмитріевна.
То-то.
Глафира Ѳеодоровна.
Charmant, какъ мило! дѣти, обнимите меня.
Ѳіона Андреевна.
Ай да нигилистъ, прострѣлилъ!
Хрисанфъ Васильевичъ.
Ну, великолѣпная госпожа, Ѳіона Андреевна, совершимте и мы съ вами примиреніе.
Конецъ.
КОММЕНТАРИИ
А. С. Петровский
«ПОЛИКУШКА».
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ «ПОЛИКУШКИ».
Фабула «Поликушки» была рассказана Толстому в марте 1861 г. в Брюсселе одной из дочерей кн. Михаила Александровича Дондукова-Корсакова. Мы знаем это из неопубликованного письма к Толстому гр. Софьи Михайловны Гейден, рожд. кж. Дондуковой-Корсаковой, от 13 апреля 1888 г. Она пишет: «27 лет тому назад, в Брюсселе, видались мы с Вами чуть ли не каждый день… Надеюсь, что из Вашей памяти не совсем изгладилось воспоминание… о сестрах моих, из которых одна рассказывала Вам фабулу «Поликушки» – быль из наших мест».[425] «Наши места» – родовое имение кн. Дондуковых-Корсаковых, село Глубокое, Опочецкого у. Псковской губ.
Этим письмом окончательно опровергается выраженное в письме к Н. В. Давыдову от 24 сентября 1919 г. мнение С. А. Толстой, согласно которому описанное в «Поликушке» событие произошло с одним из дворовых людей гр. Елизаветы Александровны Толстой, троюродной тетки Льва Николаевича, в недалеком от Ясной поляны и хорошо знакомом ему имении ее Покровском, впоследствии перешедшем к сестре его гр. Марье Николаевне Толстой.
Начало работы над «Поликушкой» относится к кратковременному пребыванию Толстого в Брюсселе, где он остановился проездом из Лондона, чтобы заказать скульптору Хефсу (Heefs) бюст своего только-что скончавшегося любимого старшего брата гр. H. Н. Толстого, и прожил около полутора месяца (5 марта ст. ст. – выезд из Лондона, 6 апреля – уже в Веймаре). Прямых доказательств этого нет, так как дошедшие до нас черновики не содержат датировки, и главным основанием для определения времени написания «Поликушки» является утверждение гр. С. А. Толстой в сохранившемся среди ее дневников «Кратком биографическом очерке, написанном со слов графа Л. Н. Толстого 25-го октября 1878-го года». «В Иере – пишет она – умер брат Льва Николаевича и он… поехал в Италию – Рим, Неаполь и, наконец, в 1861-м году в Лондон и Брюссель. Тут написал он «Поликушку». Утверждение это несомненно восходит к самому Толстому, так как рукопись С. А. Толстой не только «написана с его слов», но и носит следы его собственноручной карандашной правки.
Косвенными подтверждениями могут служить также обрывок какой-то записи на обороте л. 47 черновика «Поликушки», где говорится о «бойце за свободу», Иоахиме Лелевеле, «умирающем на чердаке у цирюльника», и упоминание в начале повести о лорде Пальмерстоне, которого Толстой «недавно видел» в Лондоне. С Лелевелем, известным польским историком и политическим деятелем, членом временного польского правительства в 1830 г., Толстой познакомился в Брюсселе в марте 1861 г., имея к нему рекомендательное письмо от Герцена, а Пальмерстона он слышал в парламенте в феврале того же года, т. е. за несколько дней до отъезда в Брюссель.
Дневника во время своего пребывания в Брюсселе Толстой не вел, но в Записной книжке сохранилась помеченная 16/28 марта 1861 г. глухая заметка: «Бросаю все начатые писанья, художественные и философ[ские], и пойду сначала. – Каждое утро философское, вечер – художественное». Под художественным писаньем здесь, с большой долей вероятности, следует разуметь работу над «Поликушкой», хотя не исключена, конечно, возможность отнесения этих слов и к «Казакам», над которыми Толстой, как известно, продолжал эпизодически работать во время своей второй заграничной поездки.
Первым прямым упоминанием о «Поликушке» является запись в Дневнике 6 мая 1861 г. (в Ясной поляне): «Завтра с утра Поликушка и читать положения». Сохранившаяся рукопись не дает нам точки опоры для проведения грани между написанным в Брюсселе и в Ясной Поляне. Однообразный характер ее – одинаковая почтовая с английским клеймом бумага, одинаковые, сильно порыжевшие чернила, отсутствие каких бы то ни было делений – скорее заставляет предположить, что она написана вся более или менее в один прием; и если верно высказанное выше предположение, что она написана в Брюсселе, то приведенная дневниковая запись можетъ означать только намерение, – осуществленное, может быть, значительно позже, – приступить к ее новой переработке.
Следующее упоминание в Дневнике мы встречаем только через полтора года – 15 января 1863 г. (в Москве): «Поликушка мне не нравится. Я читал его у Берсов». В это время рассказ был закончен и, вероятно, уже сдан в печать.
В промежутке между этими двумя датами, отмеченными в Дневнике, вдвигается еще третья: дата переписки первоначального черновика С. А. Толстой и правки его Львом Николаевичем по сделанной ею копии. В упомянутом уже письме к Н. В. Давыдову от 24 сентября 1919 г., написанном в ответ на его просьбу сообщить всё, что она помнит относительно «Поликушки», С. А. Толстая пишет ему: «Когда именно явилась у Льва Николаевича мысль о написании «Поликушки» – мне не может быть известно, так как это было до моего замужества. Помню, что в первые же дни моего пребывания в Ясной поляне Лев Николаевич мне дал переписывать эту повесть». Венчание произошло 23 сентября 1862 г. и в тот же день молодые уехали в Ясную поляну. Более точная дата для переписки С. А. Толстой «Поликушки» устанавливается из ее письма к сестре Татьяне Андреевне Берс от 26 октября 1862 г.: «Списываю повесть Поликушку, которую тоже пошлем печатать».
Таким образом мы имеем две даты: март – май 1861 г. и октябрь 1862 г., между которыми был начат и закончен «Поликушка». К первой дате следует приурочить сохранившийся черновик, ко второй – копию С. А. Толстой с поправками Льва Николаевича. Промежуточных рукописей не было, так как копия является точным воспроизведением черновика. Рукопись, с которой производится набор, не дошла до нас, но, зная привычку Толстого производить иногда коренную правку своих произведений уже на корректурных гранках, можно предположить, что и на этот раз «не понравившийся» ему при чтении у Берсов рассказ подвергся последней правке (особенно это касается окончания) уже в корректурах.
Обстановку для своего рассказа Толстой заимствовал из Ясной поляны и отчасти из Покровского, в то время имения сестры его Марьи Николаевны. Десятиаршинный «флигерь», в углу которого жил Поликушка, похож, по словам С. Л. Толстого, на бывшее помещение дворовых в Ясной поляне. В Записной книжке Толстого конца 1850-х годов несколько раз встречается имя Поликея: «Поликея на волю», «о тарантасе и о Поликее» и т. д. «Тип Поликушки – пишет С. А. Толстая в упомянутом письме к Н. В. Давыдову – взят Львом Николаевичем с яснополянского дворового человека. Тип барыни, как мы рассудили с сестрой Татьяной Андреевной, взят с граф. Елизаветы Александровны Толстой, которую я, впрочем, никогда не видала. Она была сестра Татьяны Александровны Ергольской, жила в своем имении Покровском, Чернского уезда».
Фамилии крестьян: Дутловы, Ермилины, Резун, Житков – совпадают с фамилиями ясно-полянских крестьян. Агафья Михайловна – имя жившей на покое в Ясной поляне старой горничной бабушки Льва Николаевича, гр. Пелагеи Николаевны Толстой. Сохранившаяся в черновике, но не вошедшая в печатную редакцию характеристика жены Илюшки Дутлова Аксиньи в основных чертах повторяется при описании героини «Тихона и Маланьи», «Идиллии», «Дьявола». Прототипом ее послужила, по-видимому, сыгравшая некоторую роль в биографии Толстого яснополянская крестьянка Аксинья Аниканова. Имя Егора Михайловича носил приказчик гр. Марьи Николаевны Толстой в Покровском. Была, наконец, в Ясной поляне и лошадь по имени «Барабан», согласно той же записной книжке, за старостью отпущенная «на корм».
Впервые «Поликушка» был напечатан в 1863 г. в февральской книжке «Русского вестника» (т. ХLIII, стр. 587 – 644) с подписью «Граф Лев Толстой». Книжка эта вышла с опозданием, повидимому, не ранее конца марта месяца, так как 11 марта 1863 г. редактор «Русского вестника» М. Н. Катков пишет Толстому, что «Поликушка» «печатается во 2-й книжке, которая скоро выйдет». Последующие перепечатки не представляют никаких авторских разночтений и вообще никаких существенных изменений, если не считать постепенного накопления корректорских орфографических исправлений и непроизвольных наборщицких отступлений и упрощений; так, например, «прикащик» стал писаться «приказчик», «юпки» – «юбки», «склянка» – «стклянка», «отпрег» – «отпряг»; вместо «губерни» «губернии», вместо «матерю» – стало писаться «матерею», вместо «ширококостым» – «ширококостным»; «пред» постепенно всё чаще переходит в «перед», окончание «ою» в творительном падеже – в «ой» и т. д. Впрочем, первые следы такой – конечно, непроизвольной – модернизации правописания можно заметить уже в копии С. А. Толстой, где это особенно ясно выразилось в замене очень часто встречающегося в ранних рукописях Толстого окончания прилагательных мужского рода в именительном падеже на «ой» более привычным нашему уху окончанием на «ый»; из копии С. А. Толстой эти отступления, пропущенные без внимания Толстым при правке рукописи, перешли и в текст «Русского вестника».
О цензурных пропусках или искажениях в «Поликушке» нам ничего не известно. Повидимому, влиятельному редактору «Русского вестника» удалось благополучно провести рассказ через цензуру.
Мы даем в нашем издании текст «Русского вестника», совпадающий в общем с текстом рук. № 2, но вводим из рук. № 1 следующие три исправления:
1. Стр. 15, строка 8 сн.
подергивая бородкой, (взято по ркп. 1) – вместо напечатанного в PB: поддерживая бородку,
2. Стр. 28, строка 3 сн.
ни от чего в свете столько греха, как от денег, – вместо напечатанного в PB: ничего в свете столько греха, как эти деньги.
В рук. № 1 стоит: ничего в свете столько греха, как от денег, – с явной опиской: «ничего» – вместо: «ни от чего». Однако эта описка перешла и в копию С. А. Толстой (рук. № 2), которая добавила еще собственное неверное чтение и вместо «от денег» написала: «эти деньги». Первую описку Лев Николаевич поправил в рук. №2 на «ни отчего», но вторая ускользнула от его внимания и в таком искаженном виде эта фраза, незамеченная Толстым и при чтении корректур, была напечатана в «Русском вестнике», а оттуда перешла и в последующие издания, вплоть до пятого (М. 1886), в котором была наконец исправлена на: «ни от чего в свете столько греха как от денег»,
3. Стр. 32, строка 19 сн.
не мытом (взято по ркп. № 1) – вместо напечатанного в PB: но мятом.