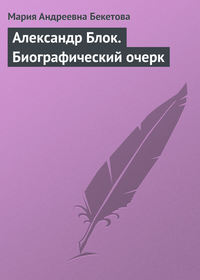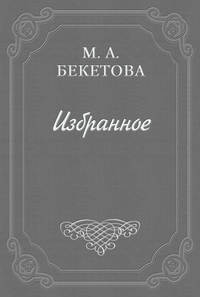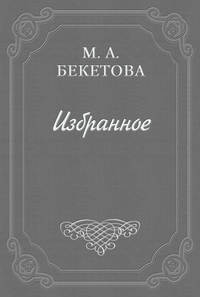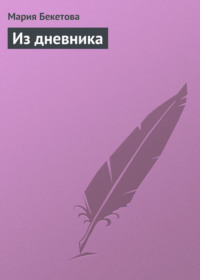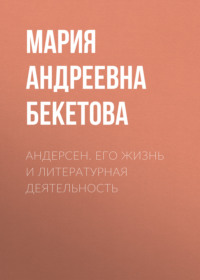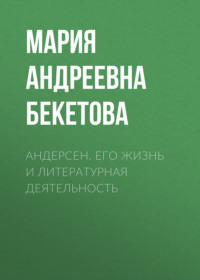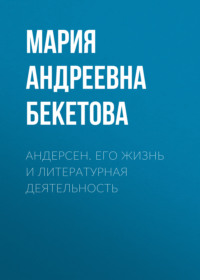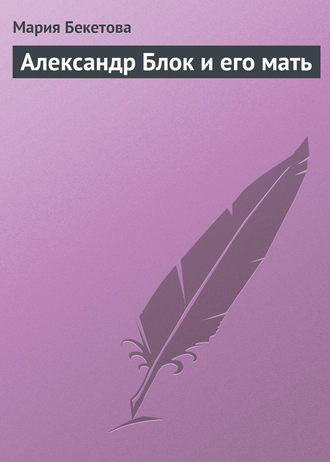 полная версия
полная версияАлександр Блок и его мать
Заключаю эту главу выдержками из нескольких писем Александры Андреевны ко мне, в которых отражаются ее взгляды, причем не буду придерживаться хронологического порядка.
В письме от 22 июля 1920 года она говорит:
«…Про А. Белого: да, Россия без него. Его присутствие в России важнее всех его слов, которые, как они ни хороши, а все слова, и кроме экстаза ничего не порождают. Самая же его личность, душа, дух – развивают атмосферу святой тревоги…»
3 февраля 1921 года: «…Была я на повторении Пушкинского торжества. Происходило это на Бассейной, в Доме Литераторов. За Сашей прислали лошадь, санки, и он взял меня с собой туда и назад. Но впечатление у меня осталось тяжелое. Торжества не вышло. Сашина речь хороша. И недурная – Ходасевича. Но Эйхенбаум наплел вздора и, по-моему, развенчал Пушкина. Уж одно то, что речь свою он заключил тем, что Пушкин был склонен к пародии – «Барышня-крестьянка» – пародия на «Ромео и Джульетту», «Граф Нулин» – на легкий жанр. Я очень злилась…
Закрытое первое заседание (по словам Саши) было торжественнее. И Сашина речь там имела огромный успех. Здесь же публика ужасная, и густая атмосфера кадетства. Знаешь, для меня это оказывается самое тоскливое, самое мучительное явление – кадетство. Всякая атмосфера для меня легче. Этот паралич, это отсутствие религиозных восприятий – убийственно по существу. Я томлюсь, бьюсь, как рыба без воды»{3}.
18 мая 1920 года: «…вчера я была на лекции А. Белого. Ветхий и Новый Завет. Излагает Штейнеровское, вопит, стучит евангелием по столу. В общем хаос, но для меня дорого, близко, понятно. Публика паршивая, интеллигенция сплошь. Поэтому недоброжелательная… Ни уха, ни рыла, не понимает, придирается к мелочам, возражают не по существу. Боря совершенно исхудавший и бледный, лысый, с горящими сапфирно-синими глазами, – хриплый, начал с того, что «долой логику, доказательства…»
В этом же письме она пишет так: «…Теплоты я органически не выношу – мне нужна высокая температура во всех случаях жизни… Да, хотела тебе сказать: на старости лет, перед смертью я поняла: я не люблю культуры. Это объясняет тысячу вещей. Я органически влекусь к цивилизованному обиходу и по-настоящему плохо чувствую себя от отсутствия цивилизованности, но культуры не люблю. Она мне часто претит. Искусства не люблю, ни в чем не ценю его. И это все глубоко в моей скифской натуре. А природу все страстнее люблю! Боже, как я ее люблю! Постоять бы среди цветущего луга, среди шумящего леса, среди деревенского сада…»
Отрывок о культуре требует пояснения. Нужно понимать его условно. Александра Андреевна не любила искусства для искусства и в книге, особенно прозаической, непременно требовала содержания и идеи. Если книга была просто хорошо написана, но лишена содержания, хотя бы лирического, она ее не ценила и способна была предпочесть ей плохо написанную, корявую по форме книгу, если она содержательна и идейна. В стихах же требовала прежде всего музыки в не совсем обычном смысле этого слова и лиризма, уносящего за пределы сказуемого и осязаемого, но к форме стихов она была довольно-таки строга.
Глава V
Литературные работы Александры Андреевны. Ее мнения и взгляды. Особенности характера
Перейду к литературным работам Александры Андреевны. В молодости она писала немало стихов, которые безжалостно уничтожала, не придавая им никакого значения. Между прочим, написала она поэму «Казнь Св. Панкратия», которая была помещена в Сашином журнале «Вестник». Сюжет заимствован из известного романа Евг. Тур, называвшегося, кажется, «Катакомбы». Это роман из жизни первых христиан. Александра Андреевна в свое время очень им увлекалась и взяла оттуда эпизод казни св. Панкратия, растерзанного в цирке пантерой. Из больших вещей написала она еще поэму «Ананджара», сюжет заимствован из сказки Вагнера «Макс и Волчок»[79]. Остальные стихи мелкие и лирические. Все это действительно слабо и не отличается ни оригинальностью формы, ни глубиной. Мне запомнилось (к несчастью, не целиком) одно из ранних ее стихотворений. Приведу тот отрывок, который помню.
Отчего ты бледна, моя радость,В светлых глазках потух огонек,Разметались блестящие кудри,И не слышен мне твой голосок?Чуть звонок, ты бросаешь на двериБеспокойный, взволнованный взорИ лишь только тогда улыбнешься,Как услышишь бряцание шпор.и т. д.В бумагах сестры сохранилось всего семь стихотворений более позднего периода ее жизни. Два из них написаны в Варшаве, когда ей было 20 лет. Одно из них носит название «На романс А. Рубинштейна». Романс, конечно, без слов, фортепианный, тот самый, на который так бестактно подобраны кем-то Пушкинские слова «Мой голос для тебя и ласковый, и томный». Стихи сестры пытаются передать настроение музыки. Приведу отрывки:
Широкий небосклон, луною озаренный,Смотрю я на тебя, и дух спокоен мой,Синеет далеко простор твой осребренный,Влечет меня к себе, могучий и немой.Заснула мысль моя, спокойно грудь вздыхает,За блеском звезд твоих следят мои глаза.Нет скорби. Тихо все, как будто замирает,И тихо катится отрадная слеза…Потом настроение меняется:
Блистают волны туч,Диск ясный закрывая,Исчез прекрасный луч,Тяжелая, седаяНадвинулась грядаХолодных облаков.О, где ты тихий светБеззлобных грез и снов?Новый переход:
Но прочь!.. Колышатся холодные туманы,Уже блестит меж них луч месяца златой,И вот, скользя толпой по небу-океану,Они мою тоску уносят за собой.и т. д.Стихи кончаются повторением первых четырех строк. Через три года написано было в Триесте стихотворение, тоже попавшее впоследствии в «Вестник». Оно называется «На чужой стороне». В нем уже больше настроения, и оно гораздо прочувствованнее.
Синее море, туманная даль,Темные горы на небе глубоком,Ширь и простор, необъятные оком,В сердце смущенном и мрак, и печаль.………………………………………Тайна ли эта смущает меня,Или простор этот дивно-широкий,Или то близость пучины глубокой,Или прощание ясного дня?Нет, к тем туманным большим кораблямВзор мой печальный, тоскуя, стремится,Там ему что-то знакомое мнится,Плачет душа по родным берегам.Там, где сгущается мягкая мгла,Вижу в тумане родимые волны,Очи слезами горячими полны.Где ты, родная отчизна моя?Два стихотворения, написанные в более зрелую пору, уже приведены мною выше. Последние стихи сестры были сочинены в феврале 1919 г. Она послала мне их в Лугу, куда я переселилась на несколько лет ради поправки своего расстроенного здоровья и успокоения нервов. Сестра писала мне так: «Ничего хорошего тебе написать не могу, а вместо того вот тебе мое стихотворение, написанное на днях. Была светлая минутка: уж очень хорошо было на небе. Но в душе скоро стемнело, как и на небе. Вот тебе мое стихотворение для домашнего употребления. Уж, разумеется, не настоящее».
Привожу стихи целиком.
Заалела небес бирюза,Загорелся алмаз Венеры.Слезы счастья слепят глаза,И душа исполнилась веры…На молитву встать и глядеть,Как раскинулись божьи дива,И любить, и прощать, и петь,И не вынесть любви прилива.В этот час умереть, уйти,Оторваться от бренности хилой,Над тобой взлететь, взойти,Несравненный ребенок милый —Бестелесным тебя осенить,Да пребудет благословенный,Да сподобится все свершитьТвой высокий дух нетленный.23 февраля 1919 года.Я только недавно узнала, что в феврале или марте 1921 г. во время моего пребывания в Луге Ал. Андр. написала еще одно стихотворение. Оно было в ее дневнике, который она сожгла после смерти Ал. Ал., а черновик стихотворения передала после одного разговора Е. Ф. Книпович, у которой он и хранится. Стихи написаны тогда, когда мать была еще далека от мысли, что ей придется пережить сына. Вот они:
Я хочу умереть весной,Когда земля оттает,И могилу вырыть легко,И солнце уже припекает.На кустах – первые листы,Откосы едва зеленеют,Еще робко чириканье птиц,Но небо – голубеет.Воздух ласков. На кладбище мир.Мой ангел будет растроган.А горьких слез не хочу.Пусть будет тихо взволнованНа могиле весенней моей,Пусть вспомнит нежноИ поверит, что мама с нимИ любит теперь безмятежно.Раз только в жизни, вскоре после своего первого замужества, написала сестра небольшой рассказ, который пыталась даже напечатать. Он был очень слаб, и впоследствии она его уничтожила. Первое, что она напечатала, были детские стихи, помещенные в журналах «Семейные вечера» и «Игрушечка». Они были довольно слабы, но вполне понятны для детей и, во всяком случае, лучше большинства тех водянистых виршей, которые попадают в детские журналы под именем детских стихов. Но работать по-настоящему, т. е. переводить прозу и стихи по заказу и печатать то и другое начала она уже после второго брака. Она много печатала в журнале «Вестник Иностранной Литературы». Переводила с французского. Ее прозаические переводы по большей части хороши, они литературны и передают дух подлинника, хотя местами в них встречаются шероховатости. Вот список ее прозаических переводов: Бальзак – «Кузина Бетти», «Шуаны», «Феррагюс, вождь пожирателей», «Золотоглазая девушка» и «Роман в пустыне»; Золя – «Дамское счастье»; Доде – «Джек» и «Письма с мельницы» (особенно хорошо переведено последнее); Мопассан – «Под солнцем» (путевые заметки) и несколько мелких рассказов; Марсель Прево – «Заветный сад». Впоследствии она перевела и напечатала отдельно пьесу Доде – «Арлезианку» (журнал театрального Отдела «Репертуар»), сказку Гюго «Легенда о прекрасном Пекопене и о прекрасной Больдур» («Алконост»). Ею же переведена под редакцией сына вся переписка Флобера, 3 тома, из которых издан только один 1-й. Последняя из ее работ – роман Рони «Красный вал» (La vague rouge) – напечатана только отчасти, а сказка Эркмана-Шатриана «Лесной домик» совсем не напечатана.
Стихотворные ее переводы все вошли в «Вестник Иностранной Литературы». То были стихи французских поэтов – Бодлера, Верлена, Сюлли-Прюдома, Франсуа Коппе, Альфреда Мюссе и В. Гюго. Ею же переведено несколько стихотворений Мопассана. Всего более 30 стихотворений. Некоторые переводы очень хороши. Бодлер переведен лучше большинства попадавшихся мне до сих пор переводов. Привожу несколько наиболее удачных стихов:
Вечерняя гармония
Из Бодлера
Уходит летний день. На молодых стебляхРаскрытые цветы курятся, как кадила,В вечерней тишине смычок поет уныло,Порхает томный вальс на реющих крылах.* * *Раскрытые цветы курятся, как кадила;Как сердце скорбное, струна дрожит в слезах,Порхает томный вальс на реющих крылах.Печаль и красота свод неба осенила.* * *Как сердце скорбное, струна дрожит в слезах,То сердце нежное ночная мгла смутила,Печаль и красота свод неба осенила,Сгустился блеск зари в кровавых облаках.* * *То сердце нежное ночная мгла смутила, —Прошедшее блестит в растаявших лучах,Сгустился блеск зари в кровавых облаках;Мысль о тебе во мне мерцает, как светило.Из стихотворении Ф. Коппе
…Печальная краса моих воспоминаний,Источник горьких мук, блаженства и страданий!В балладу томную тебя переложуИ отрока-пажа в стихах изображу:У ног давно больной и бледной королевы,В подушках голубых, на вышитых гербах,Вздыхая, он поет и, с лютнею в руках,С нее не сводит глаз, твердя любви напевы.Она же, бледная, под бледной кисеей,Прекрасное чело порой приподымаетИ лихорадочной, горячею рукойС кудрями отрока рассеянно играет.И тихо гаснет он под бременем любви,И посмотрев в окно, за стекла запертые,На долы, на леса, на тучки золотые,На паруса, на птиц в лазоревой дали,На волю, на простор, на горизонт широкий,Он мыслит: – Счастлив я в тюрьме моей высокой,Свободу и цветы, и вешний ароматОтдам за душный мрак печального покоя…И дорого ему томленье роковое;Но тяжкой завистью глаза его горят,Когда от грез своих оторвана страданьем,На локоть опершись, с настойчивым вниманьемГлядит она, вперив усталый, долгий взор,Как дремлет пес борзой, улегшись на ковер.Из стихотворении Верлена
Я не знаю зачемДух смятенный мой,Как безумный, кружит над волной морской.Все, что в сердце моем,Беспокойным крыломВ волны кроет любовь. О, зачем, зачем?Чайкой задумчивой мерно качается,Катится мысль моя вслед за волной.Ветры ее увлекают с собой,Вместе с приливом косит, надвигается,Чайкой задумчивой мерно качается.Упоенная солнцемИ волей своейПонеслась в необъятный простор лучей,И дыханье весныНа румянце волныКолыхает, качает ее полусны.Крик ее грустный тоскливо разносится.Кормчий в тревоге застыл над рулем,Ветру отдавшись, она переносится,В волны нырнет, и с помятым крылом,С криком печали взвиваясь, уносится.Я не знаю зачемДух смятенный мой,Как безумный, кружит над волной морской,Все, что в сердце моем,Беспокойным крыломВ волны кроет любовь. О, зачем, зачем?Кроме всего перечисленного, Ал. Андреевна написала популярную биографию Ломоносова, напечатанную в книге «Герои Труда», изданной Карбасниковым. Книга эта, в которой помещены также биографии трех английских механиков, написанные моей матерью, и две биографии, написанные мною (Христофор Колумб и Авраам Линкольн), почти никому не известна. Биография сестры написана очень литературно и довольно живо. Вот, кажется, все литературное наследство, оставшееся после нее. Ал. Ал. поручал ей резюме некоторых своих работ в Чрезвычайной Комиссии. Она же редактировала перевод А. А. Веселовского «Тристан и Изольда» (изд. «Всемирн. Литер.»). Ал. Ал. всегда находил, что мать его работает и добросовестно, и талантливо. Между прочим, он очень ценил ее отзывы о разных литературных произведениях. Иногда он поручал ей писать рецензии на пьесы, которых ему приходилось рассматривать целые груды. Одно время она писала рецензии на детские книги дошкольного возраста, которые вновь пересматривались Обществом содействия дошкольному воспитанию детей. Ее приговоры всегда были очень суровы, точки зрения – чисто литературные, без всякой приспособляемости к педагогии. Поэтому ее рецензии пришлись не по вкусу педагогам, которые руководствуются почти исключительно педагогическими требованиями, совсем упуская литературную сторону. Вот образчик рецензий Ал. Андр., единственный из уцелевших ее работ этого рода. Не знаю, для чего понадобилась эта рецензия, но интересно то, что на ней есть пометка, сделанная рукой Ал. Ал-ича. Рецензия написана на сборник стихов поэтессы Моравской, одно время (незадолго до войны) прошумевшей в Петербурге[80]. Главные темы сборника касаются стремления на юг, тут и мысли о Крыме, и хождение на вокзал и т. д. Вот рецензия.
«По-моему, это не поэзия. Но тут есть своеобразное. Очень искренно выказан кусок себялюбивой мелкой души. Может быть, Брюсов и А. Белый думают, что стремление на юг, в котором состоит почти все содержание – это тоска трех сестер и вообще по Земле Обетованной. Они ошибаются. Это просто желание попасть в теплые страны, в Крым, на солнышко. Если бы было иначе, в стихах бы чувствовалась весна, чего абсолютно нет. Да и вообще ни весны, ни осени, ни зимы, никакого лиризма. Я очень добросовестно прочла всю тетрадь. Это только у женщин такая способность писать необычайно легкие стихи без поэзии и без музыки».
Пометка Ал. Ал-ича: «7 июня 1913 года о стихах Моравской. Очень, очень верно».
Кстати об этом отзыве, скажу, что Ал. Андр. была вообще плохого мнения о женщинах. Она считала их лживыми, узкими, несамостоятельными, мелочными, не верила в их способность к творчеству, в серьезность и бескорыстие их порывов. Исключения допускала и даже много водилась с женщинами, в числе которых у нее были настоящие друзья, но вообще считала, что женщины гораздо ниже мужчин: те и честнее, и добрее, и великодушнее, не говоря уже об их творческих способностях. Женский ум Ал. Андр., однако, очень ценила и считала, что женщины никак не глупее мужчин, особенно русские. Одно, что уважала Ал. Андр. в женщинах, – это материнство, и, считая, что мужчина всегда ребенок, особенно ценила, когда женщины в любви к ним проявляли материнские чувства. Ал. Андр. не верила и в женскую ученость и презирала женщин-врачей. Так называемую женскую эмансипацию она не считала возможной, но находила нужным дать женщинам право работать и учиться, как они хотят, и возмущалась презрением к свободной любви и к незаконным детям.
Свободу она вообще полагала условием правильной жизни и самые законы считала злом, существующим только для мошенников, чем глубоко возмущала юристов. К государству она тоже относилась как к величайшему злу, не признавая его необходимости даже в наше несовершенное время. Современную культуру считала несостоятельной, находила, что она идет по ложному пути, уклоняется от природы и ведет к вырождению. Нетерпеливо ждала она конца мира, пришествия антихриста и второго пришествия Христа – или же просто гибели. Вообще же она не признавала эволюционного принципа и считала благодетельными и действенными только катастрофические, революционные перевороты. Самым большим злом считала она неподвижность и уверенность в непогрешимости данной истины и пути. Она думала, что только вечное искание и сомнение может двигать человечество по пути совершенства, но верила в возможность преображения людей в духе и говорила про наше время, что оно переходное к жизни духа и оттого так мучительно дается людям, стремящимся перейти в другую стадию.
В характере Ал. Андр. было много противоречий. Она была в одно и то же время подозрительна и доверчива, большая доля скептицизма уживалась в ней с глубокой, искренней верой, высокомерие с самоуничижением и т. д. Она была очень сложный человек. В одном из последних писем ко мне, посланных в Лугу в 1919 году, она говорит: «Ты пишешь, что я лучше, чем я о себе думаю. Меня – пять человек, а может, и больше. Я не только раздвоилась, я упятерилась. И уж, кажется, даже один за другого не отвечают, до того они разные во мне, потому и мнения обо мне нельзя иметь. Таковы результаты культуры: хаос».
То, что она говорила о себе, часто бывало очень метко. Вот отрывок из другого ее письма, написанного в 1920 г. после вечера, на котором А. Белый прочел свое стихотворение «Россия»[81].
«…Я до сих пор, четвертый день под обаянием А. Белого, его сущности. Хочется экстаза, он его дает – говорить об этом не надо… Я там на вечере попала в свою атмосферу бездействующих мечтателей, не умеющих в жизни шагу ступить… И хорошо мне там было…»
Тоскующий дух ее вечно влекся к таким мечтателям, которые, с точки зрения уравновешенных людей, не более, как безумцы. «Безумная душа поэта»[82] была ей глубоко понятна, это безумство было ей сродни, она шла даже дальше. В последние годы ее жизни, когда мы гуляли с ней в летние вечера и медленно, медленно шли по любимой дороге – сначала направо по берегу Пряжки, а потом налево через мостик по набережной Мойки, мимо больницы Николая Чудотворца – она всегда останавливалась у ворот этого здания, заходила во двор, осененный большими деревьями, и прислушивалась к диким песням сумасшедших, раздававшимся из открытых окон. Ей мнилось в них что-то родственное, свое. Она была очень близка к их странному, нереальному миру, во всяком случае, ближе, чем к миру трезвых и уравновешенных людей. Не раз в своей жизни бывала она на границе безумия и, заглянув в какую-то темную бездну, с трудом удерживалась на узком гребне между действительной и призрачной жизнью.
Она пребывала в вечном томлении духа. Но среди этих томлений возникали у нее подчас светлые мысли о будущем человечества, которые принимали вдохновенную и отчетливую форму прозрений. В такие минуты молодые друзья ее Евг. Фед. Книпович, поэтессы Шкапская и Павлович находили у нее и поддержку, и утешение. Она говорила иногда очень мудрые слова и умела дать советы, выводившие из тупика трудных положений и отношений. Многих обманывала она своей бодростью и оживлением даже в последний год своей жизни, уже после смерти сына, когда отчаяние охватывало ее все с большей и большей силой. Это происходило от молодости ее души, которая многих поражала и осталась в ней до конца. А кроме того, у нее было много нервной силы и сознание какого-то долга перед людьми, которым она считала нужным дать все, что могла. Последние полгода ее жизни это стоило ей очень больших усилий и напряжения, но она только изредка позволяла себе уклониться от разговора с кем-либо из друзей, пришедших ее проведать, и нередко бывало, что после какого-нибудь разговора, оставившего в ее собеседниках особенно хорошее впечатление, у нее делался припадок, и силы ее совершенно падали, между тем как гости ее уходили с мыслью, что она поправляется. Ее друзей, особенно молодых, поражала также ее склонность рассказывать о своих ошибках и недостатках. У нее был какой-то вечный страх, что о ней будут думать лучше, чем она того заслуживает, а кроме того, она считала, что надо научить молодых своему опыту, так как только молодые могут воспринять ее советы и указания и научиться от нее жизни. Про нее можно было сказать, что она щедра, как материально, так и духовно. Она легко и охотно раздавала свои вещи и деньги и столь же щедро делилась с людьми дарами своего духа.
Глава VI
Отношение к искусству. Беспощадность и снисходительность. Последний этап
Теперь я скажу несколько слов об отношении Ал. Андреевны к искусству. После литературы она больше всего любила музыку, особенно во вторую половину своей жизни. Любила она, с одной стороны, цыганские и русские песни и романсы Шуберта и Шумана, а с другой – оперу, особенно оркестр. И больше всего оперы Вагнера, главным образом, цикл «Кольцо Нибелунга». Сильное впечатление производил на нее Бетховен, особенно его сонаты, из которых любимая ее была «Appassionata». Симфоний Бетховена она не понимала. От оркестра требовала она большей звучности и эффектов, и потому бетховенские средства ее не удовлетворяли. Из симфонистов всего ближе ей были Чайковский и Скрябин. Ее поражала и увлекала «Поэма экстаза». Но больше всего чувствовала она 6-ю симфонию Чайковского, находя в ее безысходном отчаянии что-то родственное своей душе. Некоторые мотивы оттуда внезапно возникали в ее мозгу в особенно тяжелые минуты ее жизни. Шопен был ей антипатичен, очень немногие из его пьес ей нравились, большую часть их она находила вычурными, слащавыми и мелкосубъективными. «Все жалуется на свою судьбу, все плачется», – говорила она. Из исполнителей она особенно любила в юности несравненного Ан. Рубинштейна, из певцов – Фигнера, а позднее Ершова. Одним из последних ее впечатлений такого рода было удивительное исполнение Ершовым песни Гаэтана из «Розы и Креста» (муз. Гнесина). Это исполнение ее потрясло. Очень нравилась ей также певица Д'Орлиак, исполнявшая шербачевские романсы на слова Блока[83]. Пение Олениной-д'Альгейм производило на нее в свое время чрезвычайно сильное впечатление. Шаляпин особенно нравился ей в «Хованщине», которую она вообще любила. «Кармен» Бизе в исполнении Л. А. Дельмас этой роли было одним из событий в жизни Ал. Андреевны. Про музыку она говорила: «Музыка что-то знает, она многое объясняет, она идет еще дальше стихов».
К живописи Ал. Андр. относилась гораздо холоднее, чем к музыке. Она считала, что это искусство самое материальное, и вообще зрительные впечатления ставила ниже других. И все же она чувствовала иногда настоящую красоту и в живописи, но сама часто говорила: «Я ничего не понимаю в живописи, это искусство не для меня». Из русских художников ближе всех были ей Нестеров и Левитан, из иностранных – Леонардо да Винчи. Очень нравился ей Берн-Джонс[84]. Но вообще она предпочитала живописи скульптуру, особенно любила Венеру Милосскую, прекрасный снимок которой, привезенный из Парижа Сашей, всегда висел у нее на стене. Любила она и Микель-Анджело, особенно «Давида» и «Моисея».
В жизни интимной Ал. Андр. чрезвычайно ценила, во-первых, чистоту и порядок. Комната, где она жила, сразу поражала этими особенностями. Кроме того, она любила уютность. В ее манере обставлять свою комнату, в мелочах ее обихода было много изящного, но не художественного вкуса. Недостаток последнего она вполне в себе сознавала и особенно ценила присутствие художественного вкуса у Саши и его жены. Но она любила красивое. Неэстетичность, как внутренняя, так и внешняя, действовала на нее болезненно. Вид безобразных людей, грязных улиц, разрушенных домов и неряшливости прямо расстраивал ей нервы. Она часто не ходила гулять, боясь некрасивых впечатлений. Она очень любила Петербург и ценила его красоту, поэтому ее особенно больно поражал вид его обезображенных улиц, – не по воспоминаниям о старом режиме, нет, его она навсегда и бесповоротно осудила. Вообще мало кто принял революцию так хорошо, как она, особенно из людей ее поколения. Она считала, что революция и понятна, и поучительна, и верила, что «мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем»[85]. Верила она и в идею интернационализма.
Еще два слова о характере Ал. Андреевны, о ее противоречиях. Она была в некоторых случаях очень строга и требовательна, в других, напротив, удивительно снисходительна. К себе она была поистине беспощадна. В конце концов она пришла к тому заключению, что в жизни ее были только одни ошибки. В особенности виноватой считала она себя перед сыном. Она винила себя и в том, что рассталась с Ал. Львовичем, и что вышла замуж за Фр. Феликс., говорила, что не сумела достаточно сблизиться с Сашей в его гимназические годы, и т. д. Мои аргументы на нее не действовали. Она говорила, что я к ней пристрастна. Припоминая малейшие мелочи, в которых она когда-либо провинилась перед сыном, она кончила тем, что забыла все хорошее, что она для него сделала, и помнила только свои ошибки. Когда я напоминала ей разные счастливые случаи из его детства и юности, она отвечала: «Разве это было? Я ничего не помню». Она часто говорила: «Я наказана за свои грехи. Это все за мои грехи я страдаю». А иногда еще так: «Я великая грешница: мне никого не жаль». Она действительно разучилась жалеть и в иных случаях бывала очень сурова и даже жестока. Она не выносила жалоб и слез, особенно по поводу мелких причин, и прямо говорила иногда какой-нибудь старой приятельнице, изливавшейся в жалобах на своих домашних или на трудное свое положение: «Зачем ты мне все это говоришь? Ведь я злая, мне никого не жаль». Или же начинала жестоко отчитывать свою собеседницу, после чего сама же просила у нее прощения за резкость. Вообще она охотно и великодушно протягивала руку и делала первый шаг к примирению, даже в тех случаях, когда не считала себя виноватой, просто чтобы покончить с какой-нибудь ссорой и возобновить хорошие отношения. Обидев человека и причинив ему боль и огорчение, она быстро сознавала свою вину и умела загладить ее, как никто: или лаской, или ободряющим словом и самым неподдельным, глубоким раскаянием.