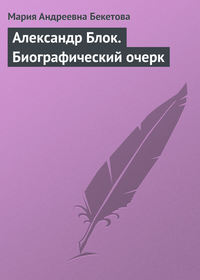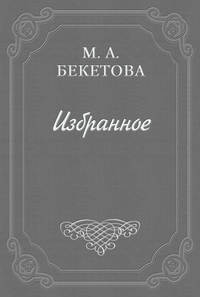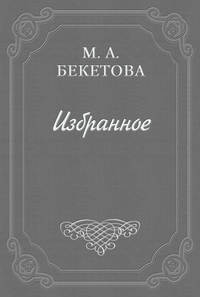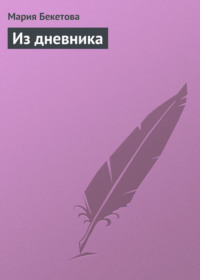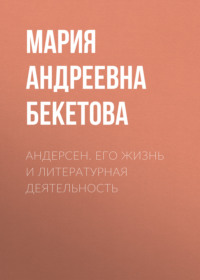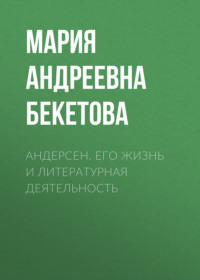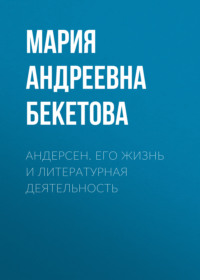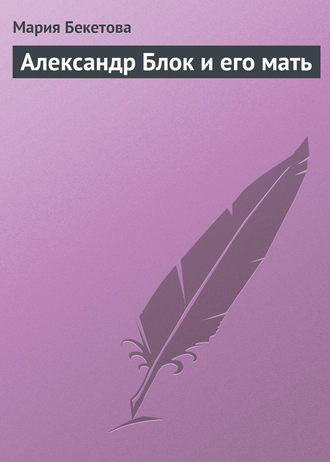 полная версия
полная версияАлександр Блок и его мать
Тем временем произошла размолвка Ал. Андр. с Серг. Мих. Соловьевым, послужившая поводом к ссоре с А. Белым. Немного погодя состоялось письменное примирение, но неприятное письмо Бор. Ник. к Саше, о котором я упоминала в первой части этой книги, оттолкнуло Ал. Андреевну. Однако после примирения его с Блоками она вернула ему свое расположение.
В конце концов отношение сестры моей к А. Белому осталось почти неизменным. Во время более серьезных конфликтов с ним Ал. Алекс-ича она была, конечно, на стороне сына, но так же, как и он, продолжала ценить его как писателя и мыслителя. Как человека, она во многом его не одобряла, но все же у нее было к нему очень теплое чувство, что и проявилось во время ее последних свиданий с ним.
Что касается политических событий 1905–1906 года, то все они были приняты Ал. Андр. с горячим сочувствием к революционерам. И 17-го октября, и последние забастовки – все ее радовало и восхищало. Открытие Государственной Думы в 1906 г. тоже было встречено радостно. Все первые газетные известия, описание открытия и отчеты первых заседаний они с Сашей читали, бледнея от умиления, но с Фр. Феликс, происходили по этому поводу жестокие споры. В дальнейшем отношение Ал. Андр. к Гос. Думе, совершенно сходное с отношением Ал. Ал-ича, стало охладевать. Деловая сторона заседаний ее не интересовала, она следила только за оппозиционным элементом, ища в нем революционное начало, стала выписывать «Речь», возненавидела «Новое Время» и вначале до некоторой степени увлеклась кадетами, но в конечном итоге кадеты были ей несимпатичны. Она признавала их только в боевые минуты, но их западничество и умеренная идеология были ей чужды. По натуре своей она была анархистка и признавала только крайности. В конце концов она невзлюбила Милюкова и предпочитала ему неистового Пуришкевича[74], который казался ей искреннее и горячее. Кадетское джентльменство ее не пленяло, и она кончила тем, что «кадет» и «кадетство» сделались в ее устах чем-то вроде бранного или, во всяком случае, очень нелестного слова. Под именем «кадетства» подразумевала она позитивизм, антирелигиозное начало, устарелый либерализм, половинчатость и все недостатки интеллигентов. Западничество, свойственное кадетам, вообще ей было несимпатично. К России относилась она приблизительно так же, как ее сын. Она любила Россию органически, так сказать, нутром. Ей была бесконечно мила русская природа, русский склад души, русская литература. При всей любви к иностранным писателям она все-таки считала, что самая богатая и значительная литература все-таки русская. Она говорила, что русские писатели, конечно, не так культурны, как иностранные, что у них гораздо меньше искусства, но они всегда пророки и проповедники и всегда революционны. Желая выказать свою антипатию к Тургеневу или Бальмонту, она говорила: «Это не русский писатель, это не русский поэт». И в то же время, не задумываясь, говорила, что Флобер тем и хорош, что он не похож на француза, а Шекспир не англичанин, потому что принадлежат всему миру.
Русскую поэзию считала она поэзией «par excellence»[75], русской музыкой тоже чрезвычайно гордилась, но при всем этом у нее не было того шовинистического или государственного патриотизма, который желает военной славы и мощи отечества <…> С бесконечным умилением повторяла она тютчевские стихи:
Всю тебя, земля родная,В рабском виде царь небесныйИсходил, благословляя…[76]и другие:
Умом России не понять,Аршином общим не измерить,У ней особенная стать —В Россию можно только верить.Александру Андреевну эта вера в Россию никогда не покидала, несмотря на то, что она подчас очень сердилась на русскую некультурность, неряшливость и т. д. Недаром А. Белый посвятил ей в 1920 году свои стихи «Россия».
Кипи, роковая стихия!В волнах громового огня!Россия, Россия, Россия, —Безумствуй, сжигая меня!..и т. д.[77]Однако, при всем своем пристрастии к России, Ал. Андр. не была слепа к нашим недостаткам и умела ценить прекрасное и в чужом. Осенью 1907 г. она уехала Ревель вместе с мужем, который получил назначение командира одного из стоящих там армейских полков. Расставание с сыном Ал. Андр. перенесла трудно, но твердо решив, что будет помогать мужу делать карьеру. Но это оказалось ей не по силам. Во-первых, все, что было в Ревеле русского, ей не нравилось. Она нашла, что армейские офицеры лучше гвардейских, потому что проще их, без претензий и не так самоуверенны, но полковое общество ее совсем не удовлетворило. Она старалась сближаться с полковыми дамами, кое с кем даже сошлась, но сильно мешало ее положение командирши. Ее боялись и чуждались тем более, что ее интересы были слишком серьезны для большинства дам да и мужчин. Ее считали синим чулком и революционеркой, были даже доносы. Губернатор боялся подать ей руку, думая, что она бросит в него бомбу, жандармские адъютанты на вечерах занимались провокацией, задавая ей трудные вопросы. Одно время ближайший начальник ее мужа, генерал Пыхачев, потребовал ее немедленного удаления из Ревеля. Дело это замяли благодаря связям Фр. Феликс, в Петербурге, и следующий начальник, вскоре сменивший Пыхачева, выказал даже особую благосклонность к Ал. Андр., так как оказался не в пример предыдущему человеком умным, культурным и не трусом. Жаль, однако, что Ал. Андр. осталась в Ревеле. Житье ее там, продолжавшееся три с половиной года, не принесло ей ничего хорошего.
Всякий раз, когда я к ней приезжала, у меня оставалось самое грустное впечатление от моего посещения. Помню ее бесконечно печальное лицо и наши поездки в санях через город по берегу моря. И эти поездки, и наши с ней разговоры – все проникнуто было щемящей, безысходной тоской. Когда она сама приезжала в Петербург, ей было не легче. Она чувствовала себя выбитой из колеи, без почвы под ногами. Радовалась только во время переезда к сыну, а при нем эта радость быстро потухала. Ей казалось, что здесь она не у места, а там у нее нет своего дома. Единственной отрадой ее, кроме частых писем сына и редких его посещений, были впечатления от живописной ревельской старины и моря. Она охотно ходила по городу и каталась на паре прекрасных лошадей, составлявших собственность полкового командира, восхищалась видом ревельских улиц, старинными соборами и башнями <…> Но жилось ей еще гораздо труднее, чем в Петербурге. Во-первых, она безумно тосковала по сыну, во-вторых, все, что ее окружало, было ей глубоко чуждо, а кроме того, ее невыносимо тяготило представительство и светские обязанности полковой командирши. Надо было устраивать журфиксы для полковых дам, принимать начальство мужа, в том числе жандармов и полицейских, к которым она привыкла относиться с презрением, а главное, дать несколько вечеров офицерам каждого из батальонов полка. Для многих женщин все это было бы только приятным развлечением, а в худшем случае утомительным долгом. Ал. Андреевна никогда не страдала застенчивостью, была обаятельная, живая и радушная хозяйка, но здесь она совершенно терялась, а главное, так страдала от одной мысли о предстоящем приеме, что доходила до последней крайности нервного расстройства. Один раз я попала в Ревель как раз накануне одного из ее батальонных вечеров. Я приехала рано утром, когда она была еще в постели и меня не ждала. Войдя к ней в спальню, я была поражена ее видом: совершенно перевернутое лицо со следами бессонной ночи, какое-то странное выражение глаз и необычный беспорядок в прическе – все показывало, что она близка к безумию. В тот же день она просила меня уехать до этого вечера, говоря, что ей при мне будет еще труднее, и я сократила свое посещение. Всю эту зиму она была в ужасном состоянии. Муж совершенно не понимал ее положения и по целым дням оставлял ее одну.
На третий год ее пребывания в Ревеле Ал. Андреевне сделалось очень плохо. Опять участились ее припадки, состояние духа было в высшей степени удрученное. Сидя одна, когда мужа не было дома, она ничего не могла делать и предавалась самым тяжелым и безнадежным мыслям, которые, как змеи, высасывали ее кровь. Когда Фр. Феликс, возвращался домой обедать из полковой канцелярии часов в 7–8 вечера, он находил жену неподвижно сидящею с каменным и странным лицом и спрашивал ее: «Что с тобой? Ты бледна как смерть». Она на это молчала. Что же могла она сказать ему, и чем бы он мог ей помочь? Он и не подозревал того, какому испытанию подвергает ее нервы, устраивая и обсуждая все эти приемы, ужины и т. д. Наконец состояние сестры приняло явно ненормальный характер. Позвали психиатра, который констатировал нервную болезнь с психическим уклоном. После долгих колебаний решили поместить Ал. Андреевну в санаторию доктора Соловьева около Москвы в Сокольниках. Фр. Феликс, отвез ее туда в марте 1910 г., а вернулась она оттуда в Шахматове через четыре месяца, в начале июля. Последнее время в санатории Ал. Андр. чувствовала себя значительно лучше. Она не чуждалась людского общества, приобрела друзей и как будто успокоилась. Но все это оказалось очень поверхностно и непрочно. С первого же часа ее пребывания в Шахматове стало ясно для меня и для Саши, что болезнь ее не побеждена. Люб. Дм. этого не понимала, и это было одной из причин тяжелых отношений, возникших между ней и свекровью.
Весной этого года Ал. Ал., получивший перед тем наследство от недавно скончавшегося отца, задумал ремонтировать шахматовский дом. Он приехал для этого в Шахматово с женой в апреле и торопился окончить ремонт к возвращению матери из санатории. Он положил на это дело не только большие деньги, но и много труда, изобретательности и энергии. Ремонт был сделан основательно и очень удачно. Старый дом преобразился и похорошел, не утратив своего стиля. Все было обновлено, разукрашено, а кое-что и преобразовано, так как над боковой пристройкой, где поселилась Люб. Дм., был возведен целый этаж, в котором помещалась новая Сашина комната. Все эти новости приятно поражали всякого, кто входил в дом, зная, каким он был до перестройки. Не было человека, который бы не одобрил Сашину работу и новые выдумки. Мать же, для которой он особенно старался, приняла все это болезненно, с тем особым чувством, которое свойственно всем психически больным, когда им приходится менять место и привыкать к новым впечатлениям. Сначала она ничего не воспринимала и только мучительно ежилась, как от струй холодного сквозного ветра. Только значительно позже, когда она привыкла к новой обстановке, она оценила всю прелесть обновленного дома. А тут еще оказались новые люди, новые порядки: целая артель маляров, кончавших наружную окраску, дома, новый управляющий с семьей, нанятый Сашей и Любой, новые затеи в сельском хозяйстве, задуманные Любовью Дм., Ал. Андреевна совершенно растерялась. Все это принимала она трагически, с некоторой опаской и недоверием. Люб. Дм., взявшая на себя хозяйство, была совершенно неопытна, Ал. Андр., конечно, могла бы дать ей не один хороший совет, но взгляды их на ведение этого дела были диаметрально противоположны, так что взаимное обсуждение хозяйственных вопросов и мнения, высказываемые Ал. Андреевной, порождали только одни недоразумения и неудовольствия. Все это портило отношения, и лето вышло очень тяжелое.
Вернувшись в Ревель, Ал. Андр. почувствовала себя лучше, что объясняется тем, что она жила эту зиму на положении больной, уже без всяких приемов и визитов. Но тут подоспело новое испытание. Фр. Феликс, получил бригаду в Полтаве. Предстояло или расстаться с ним и жить в Петербурге одной, или уехать от сына в такую даль. Но тут судьба сжалилась над сестрой моей. В конце лета пришло от Фр. Феликс, из Полтавы радостное известие, что его переводят в Петербург. Мы с сестрой жили в это время вдвоем в Шахматове, так как сестра Софья Андреевна с семьей еще прошлой весной переселилась в свое новое имение за 20 верст от Шахматова, а Блоки были за границей. Перед отъездом в Бретань Саша приезжал в Шахматове и провел с нами около месяца, но после его отъезда, когда мы остались одни, стало совсем тоскливо. Частые припадки, крайне тревожное и раздраженное состояние духа, болезненная впечатлительность и мучительная брезгливость, доходившая до маньячества, – таковы были проявления ее нервной болезни, вообще трудно поддающейся описанию. По ее собственным словам, да и по моим наблюдениям, в ней жило как бы два существа: одно углублялось в высокие вопросы, стремилось разрешить загадки жизни, заглянуть в будущее человечества и найти высшую правду, другое было занято житейскими мелочами. Почти единственным занятием Ал. Андр. в Шахматове было самое тщательное наблюдение за чистотой дома и двора. Малейшая соринка приводила ее в отчаяние и буквально лишала аппетита. Вкус к чтению она потеряла. Только изредка удавалось мне подыскать в нашей библиотеке такую книгу, которую она соглашалась прочесть. Все казалось ей или слишком знакомым, или скучным, а если нравилось, производило слишком сильное, болезненное впечатление.
Невеселы были и наши прогулки. Далеко ходить мы не могли, так как шахматовские окрестности очень холмисты, и потому частые подъемы утомляют сердце. Если мы отваживались пойти подальше, у сестры сейчас же возобновлялись припадки, после которых состояние ее духа делалось еще мучительнее. Мы ходили или по саду, или совсем близко от дома. Разговоры вертелись около одних и тех же тем, причем я приводила сестру в отчаяние своим спокойным отношением к жизни и неприемлемыми для нее точками зрения. Я во многом с ней расходилась по самому свойству своей натуры, а она никак не могла передать мне свое мировоззрение, что ее до крайности раздражало. Ей казалось, что между нами образовалась непроходимая пропасть, что у нас нет больше ничего общего, но, конечно, она ошибалась: несмотря на многие разногласия, мы во многом были и сходны, и близки, а в самом главном, т. е. в отношении к Саше, были всегда заодно. Кроме того, ни с кем не могла она высказаться с такой полнотой, как со мной, а это ей было необходимо.
В то лето мы жили вполне уединенно. Изредка приезжала сестра Софья Андреевна с сыновьями, иногда с мужем, но тут всегда возникали тяжелые споры, и после их посещений сестра только отчаянно уставала и еще хуже расстраивалась. Единственной нашей отрадой и развлечением была почта. Мы и газеты читали, сестра даже ими интересовалась, но главное – то были, разумеется, Сашины письма – частые, по большей части длинные и всегда интересные, даже и безотносительно к чувствам матери. Мы перечитывали их по многу раз, радовались его удовольствиям, восхищались его описаниями и т. д. Известие о переводе Фр. Фел. в Петербург подействовало на сестру, как живительный бальзам, а в конце лета у нас побывал еще Саша, ободренный морскими купаньями и новыми впечатлениями, обрадованный и успокоенный тем, что мать и отчим переезжают в Петербург.
Глава IV
Возвращение в Петербург. Война. Революция. Говорящие письма
Осенью 1911 года Ал. Андр. с мужем переехали в Петербург и поселились на Офицерской, 40, против Литовского замка. Ал. Ал. жил в это время на Петербургской стороне, но это не мешало ему часто видаться с матерью. Отношения с Люб. Дмитр. стали лучше. Пост бригадного командира не требовал никакого представительства. Фр. Фел. часто уезжал в Лугу, где ему поручено было строить новые бараки для артиллерийских казарм на полигоне. Ал. Андр. жила своей жизнью, была в постоянном общении с сыном, завела несколько новых, очень приятных знакомств, и все это вместе благотворно подействовало на ее нервы. В эту зиму она очень сошлась с Поликсеной Серг. Соловьевой, сестрой философа. Они видались каждую неделю на ее средах, где собирались с трех часов сотрудники издаваемого ею вместе с Н. И. Манассеиной детского журнала «Тропинка» и кое-кто из друзей и знакомых. Квартира была скромная, угощение тоже. Пили чай с вареньем и пряниками и проводили время в самой непринужденной беседе. Обаятельность хозяйки, ее открытый характер, детская веселость и живой ум сообщали этим сборищам оттенок милой интимности, простоты и самого приятного оживления. Большинство посетителей «Тропинки» были дамы, но ничего специфически «дамского» не было в атмосфере этих веселых и милых сборищ. Разговоры были женские, а не дамские: ни сплетен, ни пересудов, ни пошлости, ни мелочных и личных счетов тут не было. Говорили о литературе, о политике, о событиях дня, об искусстве, и все выходило интересно и симпатично. Ал. Андр. очень любила бывать в «Тропинке». Она положительно там отдыхала. Это было лучшее из ее развлечений, потому что театр и музыка или утомляли ее силой впечатлений, или не удовлетворяли, так как с годами она делалась все более требовательна и исключительна. С Пол. Серг. у Ал. Андр. было много общего, так что они понимали друг друга с полуслова. Из посетительниц «Тропинки» она наиболее сблизилась с Ольгой Дм. Форш, дружески сошлась также с Map. Льв. Толмачевой и Евг. Егор. Соловьевой[78], однофамилицей Пол. Серг., женщиной, принадлежащей к педагогическому миру, но причастной к литературе.
Ревельские впечатления и происходившие там расстрелы революционеров и латышей, участвовавших в аграрных беспорядках, еще более укрепили Александру Андреевну в ее революционных наклонностях. Она ждала и жаждала революции так же, как сын ее, пророческие слова которого раздавались еще за 10 лет до переворота. Тем временем Фр. Фел. старался делать карьеру, но принялся за это совсем не так, как это делается настоящими карьеристами: он работал как вол, что, как известно, есть последнее средство для того, чтобы выдвинуться по службе. Правда, полк его оказался лучшим по стрельбе, но его товарищи, командиры других ревельских полков, которые работали куда меньше его, завоевали себе более видное положение. Фр. Фел. не умел быть веселым и оживленным хозяином, с подчиненными был довольно придирчив и мелочен, с начальством ненаходчив. Жизнь в Ревеле не способствовала сближению Александры Андреевны с мужем. Рознь между ними еще усилилась. Когда Фр. Фел. пришлось идти на войну, Александра Андреевна не горевала и была даже спокойна: она знала, что высокий пост мужа избавляет его от опасностей, надеялась, что на войне он выдвинется и удовлетворит свое служебное честолюбие, а кроме того, была уверена, как и все, что война скоро кончится. Она оказалась отчасти права. Муж ее благополучно проделал всю кампанию, ни разу не был ранен или серьезно болен, но далее поста дивизионного командира не пошел. У него не было никаких боевых качеств: он не умел импонировать солдатам и увлекать их своим примером, не отличался ни молодечеством, ни энергией, но долг свой исполнял с редкой добросовестностью. Фр. Фел. несколько раз приезжал в отпуск повидаться с женой. Она ждала его всегда с большим волнением и встречала очень радостно, но скоро убеждалась в том, что, живя на фронте, он еще более отдалился от ее интересов и точек зрения, и ее радостное настроение быстро падало.
За годы войны здоровье Александры Андреевны значительно ухудшилось. Самую войну приняла она без опасений, с верой в наш успех и все молилась о благополучном ее исходе, надеясь, что бог нам поможет. Вначале она почувствовала ярую вражду к немцам, возненавидела императора Вильгельма и не могла без отвращения слышать немецкую речь, но потом этот взрыв шовинизма совершенно упал, она отмахивалась от газетных ламентаций по поводу немецких зверств, считала, что французы и англичане нисколько не лучше немцев и мы только отдуваемся за них своими боками, но ужасалась нашими военными порядками или, лучше сказать, беспорядками. Политические события ее сильно волновали. Еще до войны ее тревожила загадочная и страшная фигура Распутина. Она жадно прислушивалась ко всему, что о нем говорили, и считала его главным виновником всех наших бед. Все время находилась она в возбужденном состоянии, незадолго до убийства Распутина она, разговаривая с каким-то извозчиком, рассказывала ему про Распутина и говорила, что необходимо его убить, когда же это случилось, она пришла в неописуемое волнение. Первое известие об этом она получила по телефону от М. Л. Толмачевой и придала этой смерти столь важное значение, что глубоко возмутилась, когда одна из ее приятельниц, которой она сообщила об этом по телефону, стала говорить с ней тут же о каких-то архижитейских делах: «Да ты понимаешь ли, кого убили?» – говорила она.
Но не одни общественные дела волновали и расстраивали Александру Андреевну. Напомню, что в 1916 году был призван А. Ал., а в конце июля он зачислился табельщиком в одну из дружин Земгора и уехал на Пинские болота. Мать боялась и климата Пинских болот, относительно которого ее кто-то жестоко напугал, и близости фронта, а главное, Сашиной склонности играть с опасностью и идти ей навстречу. Это были уже не преувеличенные, а очень серьезные страхи, основанные на фактах. Александра Андреевна имела полное основание вечно бояться за сына с тех пор, как он стал взрослым человеком. Несмотря на очень подробные и довольно частые письма сына, мать продолжала беспокоиться, и нервная болезнь ее все разрасталась. Зимой стало еще труднее. Несмотря на то, что сестра жила одна в своей большой и почти пустой квартире, нам немыслимо было жить вместе. Ее раздражение против меня приняло угрожающие размеры. Я ходила к ней часто, потому что она сама этого требовала, но во время моих посещений она относилась ко мне или с тупым равнодушием, или со злобой. Такое отношение психических больных к близким людям, как известно, часто встречается. А между тем единственным близким человеком для Александры Андреевны в Петербурге была именно я. Сестра Софья Андреевна жила в деревне безвыездно, Люб. Дм. играла в провинциальной труппе. В конце декабря я обратилась к доктору-психиатру и, переговорив с ним предварительно на его квартире, пригласила его к сестре. Он посоветовал поместить ее в санаторию. По моей просьбе сестра Софья Андреевна заняла для нее комнату в санатории около ст. Крюково, Николаевской ж. др. Фр. Фел. взял кратковременный отпуск с фронта и, приехав в Петербург, свез жену в Крюково. Она уехала в конце декабря 1916 года, вернулась в Шахматово в мае 1917 года.
Революция застала Александру Андреевну в санатории. Известие о перевороте произвело на нее сильное впечатление. Все приняла она радостно, умиленно, с какой-то благоговейной верой, как благую весть. Жадно читала газеты, переживала все очень ярко. В санатории ей стало значительно лучше. Нервы ее успокоились. Дома все ей особенно нравилось, со мной она была ласкова и тиха, но через неделю ее настроение стало уже портиться, и, хотя не дошло до тех крайностей, какие были зимой, у нее опять наступила полоса раздражения, тревоги и преувеличенного беспокойства за Сашу и за мужа. Спасала нас опять-таки почта. Мы очень внимательно читали газеты, переживая период увлечения Керенским, столь обычный тогда среди русской интеллигенции.
Мы вернулись в Петербург 20 августа. Прожив у сестры два дня, я переехала в комнату, которую наняли для меня Блоки на одной площадке с ними, так как не имела возможности держать свою квартиру, а жить с сестрой нам было опасно: видеться часто мы продолжали, но поселяться на одной квартире не находили возможным.
Между тем революция шла вперед. Большевистский переворот сестра приняла сначала с недоверием и опаской, но мало-помалу увлекалась личностью Ленина и уверовала в его гений и бескорыстие. Прекращению войны тоже радовалась. Никаких восторгов по поводу ожидаемого Учредительного Собрания не выражала, и срыв его казался ей даже желательным. Так же, как сын ее, она приветствовала слово «товарищ», произнося его с уважением, а иногда и с умилением. Никаких разочарований и жалких слов по поводу хулиганства, безбожия и вообще несостоятельности русского народа я от нее не слыхала; продолжая верить в него до конца, не жаловалась она и на трудности нового режима: храбро переносила голодовку, очереди, много работала, одно время жила без прислуги, сама готовила, ходила на рынок и пр. Все это было ей очень и очень трудно, но она находила, что это в порядке вещей и такова логика событий, и потому не роптала. Переносила она все это не то чтобы весело, но твердо и с полным достоинством.
Тем временем вернулся с фронта Фр. Фел. Он принял падение старого режима и революцию спокойно, без потрясений и продолжал служить до последней возможности. Служба в двух учреждениях, довольно беспокойная, с дальними разъездами, расстроила его слабое здоровье, которое пошатнулось в последний период войны. Жилось вообще нелегко. Пришлось переехать на более скромную квартиру и сильно сжаться. При помощи пайка, получаемого Фр. Фел. на службе, Александре Андреевне удавалось давать ему усиленное питание, самой же ей случалось и голодать, так как сын не имел возможности оказывать ей существенную помощь и должен был поддерживать еще и меня. Квартира, в которой поселились Кублицкие после войны, была в том же доме, где жили Блоки. Ее и нашел для них Саша. Эта близость к сыну была, конечно, особенно приятна матери, но и Фр. Фел. ничего не имел против. Его отношение к Саше после его женитьбы стало гораздо лучше, если не считать острого периода взаимной вражды во время 1905 и 1906 гг. К Люб. Дм. Фр. Феликсович всегда относился очень хорошо, так же, как и она к нему. Скончался он в январе 1920 года. После его смерти Блоки переселились в квартиру Александры Андреевны.