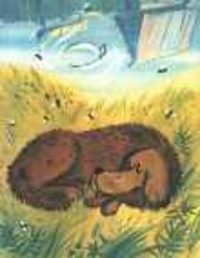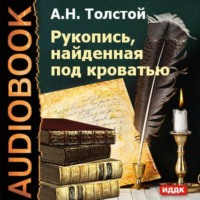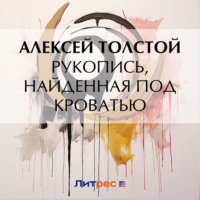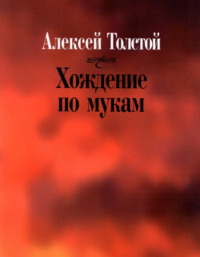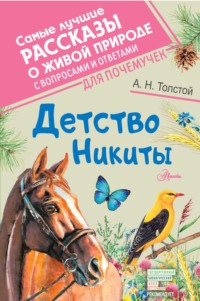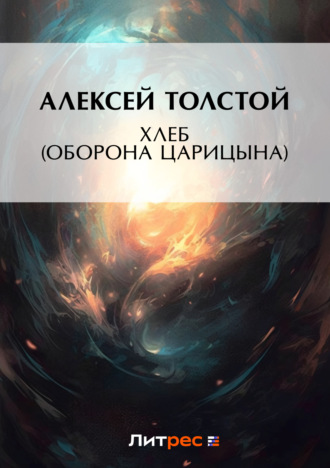 полная версия
полная версияХлеб (Оборона Царицына)
Владимир Ильич нашел, что ему было нужно, быстро облокотился, положив ладонь на лоб, пробежал глазами исписанный листочек.
– «Крестовый поход» за хлебом нужно возглавить, – сказал он. – Ошибка, что этого не было сделано раньше. Прекрасно! Прекрасно! – Он откинулся в кресле, и лицо его стало оживленным, лукавым. – Определяется центр борьбы – Царицын. Прекрасно! И вот тут мы и победим…
Сталин усмехнулся под усами. Со сдержанным восхищением он глядел на этого человека – величайшего оптимиста истории, провидящего в самые тяжелые минуты трудностей то новое, рождаемое этими трудностями, что можно было взять как оружие – для борьбы и победы…
Тридцать первого мая в московской «Правде» был опубликован мандат:
«Член Совета народных комиссаров, народный комиссар Иосиф Виссарионович Сталин, назначается Советом народных комиссаров общим руководителем продовольственного дела на юге России, облеченным чрезвычайными правами.
Местные и областные совнаркомы, совдепы, ревкомы, штабы и начальники отрядов, железнодорожные организации и начальники станций, организации торгового флота, речного и морского, почтово-телеграфные и продовольственные организации, все комиссары обязываются исполнять распоряжения товарища Сталина.
Председатель Совета народных комиссаровВ. Ульянов (Ленин)».Глава десятая
1Царицын стоит на голых, выжженных солнцем, холмах по правому берегу Волги. За городом начинаются бурые степи, перерезанные пересыхающими речками и глинистыми оврагами. На юг – вдоль реки – тянутся лесопильные заводы и слободы, где живут тысяч двадцать рабочих лесного и сплавного дела и всякие люди, бродящие летом по Волге в поисках заработка. На севере за городом крупные заводы – орудийный и французский металлургический.
Царицын был промышленным и торговым центром всего юго-востока. Через него шел хлеб и скот, и нефть, и рыба с Каспия. Воображение отказывалось представить себе место, менее похожее на столицу. Город – дрянной, деревянный, голый, пыльный. Бревенчатые домишки его слобод повернуты задом – отхожими местами – на роскошный простор Волги, а пузырчатыми окошечками – на немощеные улицы, спускающиеся с холмов в овраги. Лишь из центра несколько улиц, кое-как утыканных булыжником, размываемых потоками, прожигаемых солнцем, ведут к замусоренному берегу Волги, к пароходным пристаням, складам, дощатым балаганам и лавчонкам с квасом, кренделями, вяленой таранью, махоркой и семечками.
В центре города, как полагается, на большой площади, где бродят пыльные смерчи, высился, чтобы быть видным за полсотни верст, кафедральный собор. У церковной изгороди, под общипанными кустами акации, блестело битое стекло винных бутылок да спали оборванцы. Площадь окружали безобразные каменные дома еще недавно именитого купечества. Во все стороны тянулись улицы с телеграфными столбами вместо деревьев. Их перспективы, – где человеческая радость так же должна была высохнуть, как эти аллеи сосновых столбов, – низились и нищали от центра к окраинам.
Лишь одно место было отведено для скудных развлечений в вечера, не знающие прохлады, – бульвар из обломанной, покрытой пылью, акации и такой же чахлый городской сад. Обыватели, расстегнув воротники русских рубашек, гуляли там, поплевывая семечками, пыля ногами в черных брюках, шутили с обывательницами.
В центре сада, в раковине, играл струнный оркестр – десяток евреев, бежавших от украинских погромов. Несколько высоко подвешенных керосиновых фонарей, окутанных облачками ночных бабочек, освещали непокрытые столики, где можно получить пиво, шашлыки и чебуреки.
Здесь держалась публика почище – понаехавшие с севера «дамочки» в холстинковых хорошеньких платьях, изнывающие бородатые интеллигенты, офицеры, скрывающие свою профессию, низенькие плотные спекулянты в рубашках фасона «апаш», пронзительно воняющие потом журналисты из прихлопнутых большевиками газет и много разных людей, гонимых, как сорванные ветром листья, из города в город в поисках сравнительного порядка, минимального спокойствия и белых булок.
Белых булок и прочего съестного довольствия здесь было вдоволь в лавчонках у частников, торгующих до полуночи. Правда, стоило это отчаянно дорого. Но и на том спасибо. Большевистские власти, не в пример Москве и Питеру, властвовали здесь терпимо, даже с некоторым добродушием. И многие приезжие предпочитали потомиться еще какое-то количество недель до переворота, до полного освобождения от большевистского ужаса, чем подвергать себя случайностям заманчивого, но крайне опасного сейчас, продвижения дальше на юг – в гудящий победоносными колоколами, освобожденный атаманский Новочеркасск или – «за границу»: в дивный Крым, в красавец Киев, успокоенный, чисто подметенный немцами.
Совсем другое происходило на обеих окраинах города. На пушечном и металлургическом заводах, среди вспыхивающих, как пожар, митингов, где малочисленные коммунисты отбивали беспартийную массу у меньшевиков и эсеров, – торопливо ремонтировалось всякое оружие, готовилось оборудование для бронепоездов и броневых пароходов.
На лесных пристанях, на сорока шести лесопильных заводах, на беньдежках (где раздаются наряды) формировались «береговые боевые отряды».
Казачьи восстания подступили теперь к самому рубежу – к Дону – и перекидывались на левый его берег. Пала Пятиизбянская, наискосок ее пал Калач – огромная левобережная станица.
Царицынские реденькие отряды, державшие фронт под станцией Чир, отступили через железнодорожный мост на левую луговую сторону Дона. Двадцать второго мая белые взорвали мост, западная ферма его рухнула с тридцатисаженной высоты на песчаную отмель. Путь на Белую Калитву, откуда медленно двигались на помощь Царицыну эшелоны Ворошилова, был отрезан.
Восстания полыхали далеко на севере Дона, и слышно было, что казаки идут на Поворино, чтобы, отрезав Москву от Царицына, охватить его мертвой подковой. Едва держалась, как гнилая ниточка, дорога на юг – в хлебную житницу – на Северный Кавказ, Кубань и Терек: там после мартовской неудачи добровольческая армия, отдохнувшая и пополнившаяся, снова начинала военные операции.
2– Простите за мистификацию, товарищ, заседание у нас особенное, таков приказ по линии высшего начальства, – с усмешкой говорил генерал Носович каждому входившему в комнату, где за столом, покрытым вместо скатерти газетами, уставленным пирогами и жареным мясом, сидело, расстегнув воротники, вытирая пот, человек десять. В конце стола Москалев, в парусиновой толстовке, каждый раз перебивал Носовича:
– Правильно, правильно, брось извиняться, именинник. Мы, брат, не меньшевики, не вегетарьянцы… Знаешь, как в станицах говорят: у нас в утробе и еж перепреет…
Он хохотал, положив большие кулаки на стол. Это и было высшее начальство: царицынский городской голова и председатель совета Сергей Константинович Москалев. Вчера он позвонил Носовичу: «Ты что ж, генерал, именины маринуешь? Это, браг, саботаж. Завтра к тебе нагрянем, жди».
Именины были им придуманы, разумеется, не просто, чтобы выпить водки. Он сам по телефону вызвал, будто бы на секретное совещание к Носовичу, военрука Северокавказского военного округа бывшего генерала Снесарева, военспеца мобилизационного отдела бывшего полковника Ковалевского, инспектора артиллерии бывшего полковника Чебышева, штабного комиссара Селиванова, – словом, всю головку окружного и запутанного военного руководства.
Сергею Константиновичу, считавшему себя очень хитрым человеком, хотелось на дружеской пирушке прощупать этих спецов. В совете, в исполкоме ползли неопределенные слухи о военных неудачах, о непонимании командирами отрядов приказов, о непрекращающейся склоке между четырьмя царицынскими штабами: штабом военрука местных формирований, штабом губвоенкома царицынского фронта, штабом обороны юга России и штабом Северокавказского военного округа.
Слухи эти, вернее всего, вздорные, ползли с заводов, от низовых партийцев. Тем более это был вздор, что Снесарев, Носович, Чебышев и Ковалевский приехали сюда с мандатом от Троцкого. Все же не мешало, конечно, и самому составить впечатление…
За столом, кроме них, сидели: спец по нефтяному транспорту, на-днях командированный сюда из Москвы, инженер Алексеев – холеный седоватый человек, с моложавым решительным лицом, и два его сына – двадцатилетний штабс-капитан и двадцатидвухлетний подполковник. Они приехали с отцом и уже были зачислены Носовичем в штаб. Сидели рядышком, сдержанно, не вытирая обильных капель пота, проступивших на их сизо-выбритых круглых головах.
Носович, – да не он один, – отлично понимал затею Москалева. Разговор за столом не налаживался. В такую жару никому не хотелось жевать мясо. Водка была теплая. Только комиссар Селиванов – донской казак – провожал каждую рюмку прибаутками, изображая казачьи обычаи, с хрустом грыз хрящи, хитро скользил прозрачными глазами по хмурым лицам штабных. Он, видимо, чувствовал себя уязвленным и готов был задираться, но ему не давали повода.
Носович, корректный, любезный, – весь внутренне настороженный, – много раз начинал одну и ту же фразу: «Уж право, Сергей Константинович, вы придумали с этими именинами…»
– Я, брат, попович, – перебивая, кричал ему Москалев с другого конца стола. – Мне и книги в руки… (Пятерней откидывал волосы, выпятив губы – запевал.) «О долголетии дома сего Господу помолимся…» – И раскатисто смеялся. Наливали, чокались, но непринужденность не налаживалась. Чебышев сидел, глядя в тарелку с таким лицом – точно на пиру у разбойников. Военспец Ковалевский, – большой и длинный, с маленькой головой, с круглой бородкой, с неприятно напряженным лицом и карими бегающими глазами, – до того невпопад фальшивил – лучше бы молчал. (Но Москалев, увлеченный самим собой, не замечал этой скребущей ухо фальши военспеца.)
Самый старший за столом – военный руководитель силами Северного Кавказа Снесарев – небольшой, плотный, в очках, с мясистым носом, с короткими – ежиком – седоватыми волосами – сообразно своему бывшему чину и теперешнему положению – строго поглядывал из-за стекол.
Он был из той уже вырождающейся породы русских людей, которая сформировалась в тусклые времена затишья царствования Александра Третьего. Он по-своему любил родину, никогда не задумываясь, что именно в ней ему дорого, и если бы его спросили об этом, он – несколько подумав, – наверное бы, ответил, что любит родину, как должен любить солдат.
Позор японской войны (он начал ее с чина подполковника) поколебал его душевное равновесие и бездумную веру в незыблемость государственного строя. Он прочел несколько «красных» брошюрок и пришел к выводу, что – так или иначе – столкновение между опорочившей себя царской властью и народом – неизбежно. Этот вывод спокойно улегся в его уме.
Во время мировой войны он не проявил – уже в чине генерала – ни живости ума, ни таланта. Эта война была выше его понимания. Потеря Польши, разгром в Галиции, измена Сухомлинова и Ренненкампфа, бездарность высшего командования, грязный скандал с Распутиным – вернули его из воинствующего патриотизма к прежней мысли о неизбежной революции. Он ждал ее, и даже в октябрьский переворот, когда его обывательское воображение отказывалось что-либо понять, он остался на стороне красных. Он полагал, что революционные страсти, митинги, красные знамена, весь водоворот сдвинутых с места человеческих масс уляжется и все придет в порядок.
Поход Корнилова с горстью офицеров и мальчишек-кадетов на завоевание Северного Кавказа он счел безумной авантюрой. Но когда добровольческая армия, окрепшая в степных станицах Егорлыцкой и Мечетинской, начала бить главкома Сорокина, возомнившего себя Наполеоном, когда атаман Краснов в пышных универсалах заговорил о «православной матушке России», – на Снесарева пахнуло давно утраченным, родным, вековечным… И мысли и чувства его поколебались.
Зорко наблюдавший за ним Носович попросил разрешения поговорить «по душам». Носович рассказал ему, будто бы под видом своих сомнений и колебаний, его сомнения и колебания. Снесарев, сурово выслушав Носовича, ничего не ответил и отослал его. Но этот ночной разговор стал для него решающим. Большевики, комиссары, социализм, оборванные рабочие – все это было действительно чужим генералу Снесареву.
– Чудные вы люди, товарищи! Поехали бы хоть разок на заводской митинг, – говорил Сергей Константинович, отчаявшись шутками пробить ледяную сдержанность. – Вот там люди! Кипят! Вылезет какой-нибудь грузчик, на самом – дыра на дыре, брюхо подвело, голова в репьях, и – что же думаете, – меньше чем на мировую революцию не замахивается… Разве тут носы вешать, товарищи? Мне лично трех жизней мало, честное слово! Мою покойную мамашу, что угодила родить меня тютелька в тютельку в нашу эпоху, ежедневно вспоминаю.
Он опять раскатился. Снесарев проговорил, отдирая кусочек вяленой тарани:
– Эпоха, что и говорить, знаменитая… Да нам-то, военным, мало приходится вдумываться в такие штуки… Наше дело прозаическое: бей врага в хвост и в гриву… А уж эпоху мы вам предоставляем, Сергей Константинович.
Носович сразу оценил неприятное впечатление от этих слов – поспешил их несколько поправить:
– Военные – это люди прочной установки, Сергей Константинович… Прицел установлен, – стреляй… Но, боже сохрани, при этом – анализ… Это дело штатское… Наш прицел – искреннее принятие революции… Вот что хочет сказать товарищ военрук.
Москалев строго, неодобрительно покачал головой:
– Напрасно, напрасно, товарищи… Почитать книжечки никому не мешает… Ан, глядь, прицел-то подальше надо будет перенести… (И – опять с благодушием.) Ничего, дайте срок, – я из вас всех сделаю большевиков… Ведь в чем наша задача? Страна наша дикая, варварская. Мужик – зверье. А ведь его сто миллионов – мелкого-то собственника. Лапотника-то. Ясно – социализма с этакими возможностями, с этаким народом нам никак не выстроить. В этом я расхожусь – и это в лицо скажу Ленину, – нет-с, не вытянем!.. Кишка тонка! Я вот – русский человек, из самой расейской гущи… Лучше меня никто ее не знает… Мужичок наш – зверь. Но есть у Чехова одна замечательная фразочка: «Если зайца бить по голове – он может спички зажигать». Вот! Вот наша задача! Понятно? Использовать революционную ярость народа. И это – можно и должно.
Чебышев, открыв мелкие опрятные зубы, точно собираясь укусить, спросил:
– Сергей Константинович, мировой пожар – это понятно. А вот какова конечная цель, дальний прицел? Объясните нам.
– Революция, товарищи, – это взлет, волна. – Москалев, сделал широкий жест. – Мы поднимаемся на гребень. Но каждая волна в конце концов спадает. Нам важно вовремя овладеть властью, захватить командные высоты…
Носович встал, узкое лицо его было значительно. Подняв рюмку с теплой водкой, отчеканил по-военному:
– Господа… (Без смущения поправился так же четко.) Товарищи… Я пью за нашего вождя – товарища Москалева, ведущего нас к командным высотам. Ура!
Все ответили – «ура!» Москалев был очень доволен. Удалось хорошо поговорить. Опасения его относительно военных спецов рассеялись: в конце концов это были прямодушные солдаты. Широтой ума не блистали, но зато в смысле чести, верности, боевой хватки были – кремень. В комнату вошел запоздавший гость – невысокий, худощавый, загорелый до лилового цвета, молодой человек с большими черными глазами – председатель царицынского исполкома Яков Зиновьевич Ерман. Быстро кивая сидящим за столом, подошел к Москалеву и зашептал ему на ухо.
– Кто? – громко спросил Москалев.
– Сталин.
– Когда?
– Видимо – завтра.
– Ну что ж, встретим… Садись… Водку пьешь?
– Простите, товарищи, – обведя стол черными, не умеющими улыбаться глазами, сказал Ерман. – На «Грузолесе» сейчас митинг, настроение неважное…
Не прощаясь, он так же быстро вышел…
3Большой митинг собрался среди бунтов бревен на усеянной щепою территории «Грузолеса» (лесопильных заводов бывших братьев Максимовых). Солнце жгло сквозь висевшую в безветрии пыль. Тысячная толпа была возбуждена. С утра в ларьках и лавчонках у частников не оказалось хлеба. «Дорогие мои, – объясняли лавочники, – сами ничего не понимаем, муку третий день не подвозят, видно – скоро конец, что ли…» В ларьках продовольственной управы хлеб был такой, что и свиньи не станут жрать, и того сразу же не хватило.
Голодная толпа слушала разных ораторов, влезавших вместо трибуны на расшатанный столик. Коммунистов здесь было мало: большинство ушло на фронт. Оставшиеся из последних сил боролись за то, чтобы сохранить перевес на этом митинге.
Но сегодня неожиданно заговорили такие, кто раньше помалкивал, и такие, кого в первый раз видели в лицо. Толпа была настроена так, что – вот-вот – надвинется, сомнет. Толпа желала слушать всех, понять, разобраться…
Известный «сукин кот» – меньшевик Марусин – большеротый, низенький, с толстыми ногами, – сморщив лицо не то смехом, не то плачем, говорил со стола:
– Поклонимся, спасибо скажем товарищам коммунистам за сегодняшнее угощение. Дохозяйничались до ручки… Хлеб из деревень уж нам не везут и не повезут… Социализм осуществлен на деле, что и требовалось доказать… Везде, где коммунисты берут власть, – хлеба нет… Больше я ничего не имею прибавить…
Толпа угрюмо молчала. На место Марусина влез низовой коммунист, лесопильный рабочий, с чахоточными щеками, с немигающими расширенными глазами. Под распоясанной рубахой чувствовалось голодное ломаное тело, волосы стояли копной.
Он убежденно сжал кулаки и уперся расширенными зрачками не в лица товарищей, стоявших вокруг, а выше куда-то – в коренную правду.
– Не поняли, что ли, вы? Да что вы его со стола не стащили?.. Марусин – это же враг трудящих… Куда он вас зовет? Он у братьев Максимовых был конторщиком… Вот отчего он против коммунизма… А вы его слушаете… Он хочет опять, чтобы вам хозяева кости ломали… Что он сказал? Хлеба нет… Эка штука – хлеб… Будет он, будет у нас хлеб! Я, как себя помню, на пристанях часами глядел на белые-то калачи… Я цену знаю хлебу… Я лучше не поем хлеба, а революцию не продам за его хлеб…
– Верно, верно, – заговорили голоса, закивали головы. К столу продирался третий оратор, – не понять – старый или средних лет, лысый, с благостной бородой. Влез на стол, низко поклонился, надел железные очки, вынул из кармана пыльной черной поддевки сложенный листочек, бережно развернул его и нараспев заговорил, поглядывая на исписанное:
– Человек есть царь природы… О, Боже мой, во что обратился человек!.. В дыму фабричном и в угольной пыли под землей он трудится, как верблюд, проливая пот и портя себе легкие… А кучка богачей пирует и предается пресыщению… Не надо нам кучки богачей… Не надо нам фабрик, заводов и шахт… Они только легкие портят и расшатывают наши нервы. Неужели нам еще и кровь проливать за эти закопченные трубы?.. Давайте разделим заводы, – каждый возьмет, что ему надо, и разойдемся по селам и деревням, на природу. Займемся хлебопашеством, скотоводством и садоводством. Станем царями природы. И воцарится покой, и кровавая война сама собой прекратится.
Странный оратор снял очки, вместе с бумажкой положил их в карман поддевки, с трудом слез со стола и важно протискался сквозь толпу. Ему давали дорогу. Слова его и то, как он говорил, удивили слушателей. Собрались они сегодня стихийно, как на вече, сзываемые темными слухами.
Было известно, что на фронте – неудачи, враг неуклонно приближается к Царицыну. С хлебом – перебои. И самое тревожное было в том, что никто не чувствовал твердой руки в защите города от нависающей угрозы.
А тут еще разные ораторы разжигали воображение. Черт их знает – кому верить теперь. Иные влезали на стол сразу по трое и, ругаясь, спихивали друг дружку.
Зной стоял нестерпимый под покрытым штабелями берегом, убегающим к бледной, широкой Волге, лоснящейся, как горячее масло. Один оратор кричал, что нельзя брать хлеб у мужика силой, мужик сам знает цену хлебу, а монополия – голодная смерть… Другой, потрясая кулаками, надрывался диким голосом: «Чего нам ждать? Ребята, переизберем советы, не пустим в них ни одного коммуниста… И войне конец, и хлеб будет!»
У стола появился Ерман, лицо его дергалось. С ним подошла широкая костлявая старуха в зеленых штанах, в солдатской рубашке, – из-под красноармейского картуза висели ее кое-как подобранные серые волосы. Это была известная всему «Грузолесу» Саша Трубка, чернорабочая-откатчица, член царицынского совета и исполкома. Ей закричали:
– Саша, чего штаны надела? Она отвечала низким голосом:
– Расскажу, потерпи…
Но добродушных было мало: толпа, накаленная речами, заволновалась и теснее начала придвигаться к столу, на котором показался Ерман. Раздавались голоса:
– Дохозяйничались…
– Опять уговаривать пришел?.. Мы сыты!
– Ты брось углублять… Хлеба давай!..
Ерман только обводил матовыми гневными глазами грузчиков, откатчиков, пильщиков, красных от зноя, с дико взлохмаченными волосами, видел под рваными рубахами раскрытые груди с налитыми мускулами. Он любил эту приволжскую вольницу – с размахом чувств во все плечо, и дружную, своевольную, смеющуюся над благополучием, и грозную, когда ее охватывал гнев против несправедливости. От жизни они требовали и мало и очень много. Босые и оборванные, потому что на них оставалось только то, что уже нельзя было под горячую руку пропить, – они со страстью переживали все грандиозное. Им везде было тесно. На митингах они обсуждали планы общественных работ: устройство волжской набережной на двадцать пять верст, постройку домов отдыха для всех трудящихся, прорытие Волго-Донского канала. Их легко охватывал энтузиазм, и так же легко – недоверие и злоба.
Ерман сразу понял, что сегодня над этой вольницей поработали враги. Стиснув маленькие кулаки, он заговорил высоким, резким голосом:
– Откричались? Или еще будете кричать? Хлеба нет, и покуда вы сами его не возьмете – хлеба не будет. Рабочие отряды позорно отступают, открывая дорогу врагу на Царицын. Деревенское кулачье открыто восстает против продотрядов. Всякая контрреволюционная сволочь – меньшевики и эсеры – готовится с колокольным звоном встречать красновских генералов. Слушаете врагов советской власти?.. Почему из двадцати тысяч портовых рабочих сформирован только один отряд в восемьсот штыков? Кто будет вас защищать? Кто даст вам хлеба? Никто! Если вы сами этого не хотите!
Ерман допустил ошибку: он рассердился, все, что накипело в нем за эти тревожные дни и бессонные ночи, вылилось в непонятной для толпы ненависти. Он фальцетом выкрикивал слова, дурно произнося их, и точно внезапная трещина пробежала между ним и толпой, – он оказался по эту, слушатели – по ту сторону…
Возбужденные люди кинулись к нему… Сделай он ничтожное движение защиты, – его бы стащили и разорвали…
На стол, рядом с ним, влезла Саша Трубка. Замахала руками на толпу:
– Тише, тише, мужики, не напирайте. (И – Ерману.) Слезай, – я сама с ними поговорю… Потеснитесь, мужики, дайте человеку дорогу.
Ерман остался стоять у трибуны, опустив голову, тяжело дыша.
Саша Трубка вытерла морщинистый рот, разинула кругло бледные маленькие глаза. Ее дубленое, морщинистое лицо было простодушно и простовато, но все знали, что она хитра, умна и зубаста.
– Мужики, бабы, я с вами по-береговому буду говорить. Интеллигентно вы не понимаете… Чего набросились на товарища Ермана? Он кабинетный работник. А я – массовый работник, – вы со мной говорите…
Из толпы – голос:
– Одна шатия…
И – другой:
– Не трогай ее, а то матерком пугнет…
– И пугну, ничего с меня не возьмешь, сынок, – ответила Саша Трубка, сморща глаз и раздвинув ноги, чтобы ловчее стоять на шатком столе. – Мужик – иголка, а баба – нитка, раньше-то говорили… А теперь баба – иголка, а ты за мной тянись, не серчай…
В толпе засмеялись. Один сердитый голос:
– Командир, – штаны надела… Пройдоха…
Саша Трубка подхватила: «Ага!» – и продолжала балагурить:
– Отчего я штаны надела? А ведь хорошо! (Голоса: «Повернись!» «Присядь!» «Тесны!» «Лопнут!» и еще ввернули под хохот совсем уже непечатное.) Я и до этого косо на юбку смотрела… Влезешь на трибуну – сразу тебе говорят: нечего тебе, бабе, соваться… Прихожу в штаб: не пускают в юбке… Я уверяю: я не баба… (Опять голоса пустили непечатное.) Я товарищ боевой, я на хуторах сама ликвидировала две белых банды… И надоела мне юбка, хоть плачь… Сегодня прибегаю домой, – сына, Мишки, на стене висит фронтовой костюм, надела, взяла наган, и я – здесь…
Из добродушных морщинок на слушателей взглянули вдруг умные, выцветшие, совсем не старушечьи глазки Саши Трубки.
– Побалагурили, – давайте дело… Я уж с моими бабами сегодня говорила. На лесных пристанях у нас шесть тысяч баб… Работают они лучше вас и получают больше вашего, мужики…
– Но, но, Саша!..
– Ври, не завирайся…
– Лучше, лучше!.. Бабы мои все организованные. И прогулов меньше, и водки не пьют…
– Врешь, дьявол, сама хлещешь…
– Сама – другое дело, я – правительство, мне паек особенный… (Опять засмеялись, покачали головами: «Ну и зубаста, на все – ответ».) Шесть тысяч баб да вас тут половина великовозрастных бородачей – останутся на деле… Остальным мужикам надо спасать революцию…