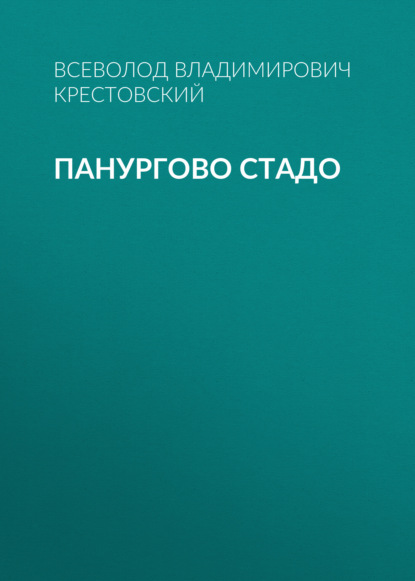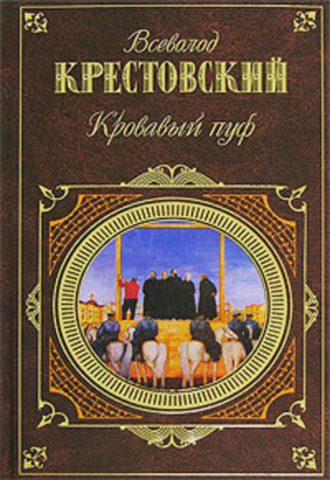 полная версия
полная версияПанургово стадо
– Господин Полояров решительно утверждает, что этот донос написали вы по личной к нему ненависти, – обратился чиновник к Устинову. – Господин Полояров даже весьма странным образом изумил меня, сказав сразу самым решительным тоном, что это не кто иной и быть не может, как только вы, господин Устинов.
Краска негодования выступила на лице учителя.
– Господин Полояров лжет, – с твердостью проговорил он, глядя в упор в смущенное, перепуганное лицо Ардальона. – Соберите все мои письма, записки, рукописи, созовите экспертов, и они вам подтвердят, что это наглая ложь! Вот, кстати, со мною как раз есть одно мое письмо, я не успел забросить его в почтовый ящик, – продолжал Андрей Павлович, вынув из бокового кармана и сламывая печать. – Вот оно! Сличите сейчас мою руку, мою подпись… Подписывая донос своим именем, я, конечно, не имел бы ни малейшей надобности изменять свой почерк. Позвольте же теперь, господин Полояров, узнать цель, с которою вы это утверждаете?!
– А заодно уж, – домекнулся чиновник, – мы сличим и почерк господина Полоярова да и его друзей, – здесь, кстати, довольно есть разных писем, – авось до чего и доберемся! Сходство некоторых отдельных букв, как там ни изменяй, а все-таки узнаешь! У нас ведь есть на это и опытные эксперты под рукою!
Он позвонил. Явился унтер-офицер, которому было приказано позвать какого-то Карла Иваныча.
Вошел Карл Иванович – благоприлично-благонамеренной наружности чиновник, щупленький, сивенький, лет около пятидесяти, с орденом в петлице.
– Вот, Карл Иваныч, потрудитесь, пожалуйста, сейчас же сличить почерки этих рук, – обратился к нему обладатель либеральных бакенбард, подавая донос, герценовское письмо, письмо Устинова и один листок из рукописи Полоярова.
Карл Иванович не торопясь протер свои толстые золотые очки, методически оседлал ими востренький носик и сосредоточенно погрузился в рассмотрение предложенных ему бумаг.
– Это совсем посторонняя рука, – сказал он наконец, откладывая в сторону письмо Андрея Павловича. – А это и это похоже… очень похоже, – объявил он через несколько времени, указывая либеральным бакенбардам на донос и письмо от Герцена. – Все эти три бумаги писаны одною рукою, – компетентно порешил он наконец, сличив их с рукописью Полоярова, – в этом нет сомнения, потому что, глядите сами, характер отдельных букв – вот, например: р, б, ж, д, к, т, в, – во всех трех бумагах точен и одинаков до поразительности. В них изменен только наклон почерка, но характер руки – все один и тот же. Я ведь уже двадцать лет этим делом занимаюсь, слава Богу, зубы съесть успел на нем! – Это одна рука писала, – повторил он еще раз тоном непоколебимого убеждения.
Ардальон почувствовал себя в некотором роде взятым за горло и крепко притиснутым в угол к стене. Все сорвалось, все лопнуло и все уже кончено!.. Где доводы? Где оправдания? Что тут выдумаешь?.. Ни одной мысли порядочной нет в голове! Логика, находчивость – все это сбилось, спуталось и полетело к черту! Пропал человек, ни за грош пропал!.. Все потеряно, кроме… да нет, даже и «кроме» потеряно!
– Простите!.. Пощадите!.. Виноват…. один… один кругом виноват! – глухо пробормотал он дрожащими, посинелыми губами, с бесконечно жалким, глубоко-растерянным и перетрусившим видом приближаясь к столу чиновника.
– В чем-с прикажете простить вас и в чем вы один виноваты? – методически размеренно, пунктуально, со спокойно-ледяной улыбкой спросил чиновник, привстав с места и эластически упираясь на стол сжатыми пальцами.
В голове Полоярова точно колесило что-то, в ушах тонко звенело и в глазах рябило какими-то плавающими сверху вниз водянистыми мушками. Он смутно и бессмысленно видел только сверкание дорогого перстня на упертом в стол указательном пальце своего неприступно и морозно-вежливого допросчика.
– Итак, спрашиваю вас еще раз: в чем прикажете простить вас и в чем вы один виноваты-с?
– Я… я… этот донос… я сам на себя написал его.
Устинов, широко раскрыв и рот, и глаза, даже отшатнулся назад от изумления: столь неожиданно и нелепо было это признание! Логика его просто отказывалась понять такое дикое, ни с чем не сообразное действие. – Донос на самого себя!
– А письмо Герцена к вашей особе? – металлически звучал между тем спокойный, ничем не возмутимый голос допросчика.
– Тоже сам написал… – сконфуженным шепотом пробормотал Полояров, не зная куда деваться от двух с разных сторон устремленных на него взглядов.
– С какою целью вы это делали? – допрашивал чиновник.
– По глупости-с… Виноват… Пощадите… Пощадите!.. Я круглый сирота… Ни отца, ни матери!..
И он начал тяжело всхлипывать. Лицо его искривилось, нижняя губа конвульсивно задергалась, и в глазах показались непритворные, настоящие слезы…
Действительно, он был очень жалок в эту минуту.
– Сядьте… успокойтесь, придите в себя! – вдруг предупредительно и мягко заговорил чиновник, наливая ему в стакан воды из граненого графина. – Выпейте воды… несколько глотков – это вас облегчит… Успокойтесь же, успокойтесь!..
Полояров почти повалился в подставленное ему кресло, трясущеюся рукою взял от чиновника стакан и жадно вытянул из него всю воду. Всхлипыванья стали меньше. Через несколько минут он сделался гораздо спокойнее, но все-таки в величайшем смущении чувствовал, что глаз поднять не может ни на своего столь внимательного допросчика, ни на глубоко пораженного Устинова, и особенно на Устинова.
– Ну, скажите же мне теперь откровенно: что вас побудило писать на самого себя доносы? – уже мягко и участливо приступил чиновник к новому допрашиванью.
– Хотел быть арестованным, – тихо проговорил Полояров.
– Но чтó за цель?!. Кому же приятно быть арестованным? – пожал плечами допросчик.
– Так…
– Как «так!» – Этого же быть не может!.. И я уверен, что, сознавшись в главном, вы не захотите скрыть и причин. Ведь были же причины?!
– Это все Фрумкин, – говорил Ардальон, все так же со смущенно потупленными глазами. – Фрумкин вот, да еще Малгоржан-Казаладзе… да Затц…
– Ну, да, это все ваши сожители. Так что же этот Фрумкин и прочие?
– Это все они-с… Они стали ко мне приставать, что, мол, все честные и порядочные люди арестованы и сидят, а я один хожу на свободе, один не арестован… Они все приставали и смеялись надо мною… Мне это обидно сделалось…
– Ну, и что же?
– Я и написал. Они говорили, что могут только тех уважать, кто арестован… а меня всякого уважения лишили… Мне же это обидно и больно было…
– А вы очень разве дорожите их уважением? – улыбнулся чиновник.
– Да как же-с… вместе живем ведь…
– Ну, а письмо к самому себе написали?
– Письмо-с…
Полояров запнулся и растерянно поглядел вокруг себя опущенными глазами.
– Письмо-с… Это так.
– Ну, вот! Опять у вас это «так».
– Да это все поэтому же… Они меня ругали… все равно как за дрянь какую почитали… даже ругать стали мерзавцем…
– А вы и написали письмо, чтобы разубедить их?
– Да-с… потому они сейчас уважать начинают… Впрочем, я все это так больше… по молодости и опрометчивости…
– Ну, какая же у вас молодость, однако! – улыбнулся чиновник. – Вы, конечно, не старик, но уже и не юноша…
– По опрометчивости-с… Я, признаться сказать… я в ненормальном состоянии все эти дни находился.
Счастливая мысль блеснула в голове Полоярова. Эта мысль была первым проблеском возвращавшегося самообладания, и он за нее ухватился.
– Чтó вы называете ненормальным состоянием? – спросил чиновник.
– Пьян был-с… Так как мне это все очень было горько и обидно, что они меня так обзывают, то я с горя-с… Все эти дни вот… И в этом состоянии мне пришла мысль написать письмо и донос… Я думал, пусть же лучше мне пропадать, чем терпеть все это!
– Но для чего же вы подписывали донос именем господина Устинова?
– Надо же было как-нибудь подписать. Это я помнил, что безымянный донос силы не имеет, – я и подписал…
– Но почему же непременно именем господина Устинова, а не другим?
– Так это… Еще в Славнобубенске слышно было, будто они занимаются доносами… Я это вспомнил себе и подписал… Потому тоже, что никакого другого имени не вспомнил себе в ту пору… Я тогда никак не предполагал, чтобы это все могло так обернуться, как теперь вдруг обернулось.
– То есть вы рассчитывали, что мы не станем разыскивать господина Устинова и не потревожим его, чтобы удостовериться?
– Да, я рассчитывал…
– Ну, надо отдать справедливость, вы рассчитывали на нашу очень… очень большую наивность.
– Пьян был-с, – вздохнул Полояров. – Это спьяну все.
– Однако нельзя сказать, чтобы донос был написан пьяною рукою, – заметил чиновник, рассматривая бумагу.
– Ей-Богу, пьян был-с!.. Богом клянусь!.. Рука у меня, впрочем, всегда очень твердая.
– Ну, может быть. А вот в письме к самому себе вы пишете, что вы – один из немногих, которые высоко держат знамя демократического социализма в России. Вы, значит, сочувствуете этим убеждениям?
– Ей-Богу, нет! Видит Бог – нисколько!.. Честное слово! – оторопело и торопливо стал отнекиваться и заверять Полояров, ударяя себя в грудь рукою, но все еще избегая взглядов на Устинова. – Помилуйте, я даже сам занимал некогда должность в полицейской администрации. Могу ли я! А что я точно, всей душой сочувствую прогрессу, который нам указан самим правительством; но чтобы сочувствовать этому – Боже меня избави!.. Я, напротив, спорил с ними всегда, и они меня за то мерзавцем стали обзывать… Это они вот сочувствуют… Они все сочувствуют! Это поверьте!
– Кто это они? – спросил пунктуальный чиновник.
– Они-с… То есть Фрумкин вот в особенности… Малгоржан, Анцыфров, князь Сапово-Неплохово, госпожа Затц, Благоприобретов… – пояснил Полояров, стараясь припомнить еще несколько имен своих знакомых.
– Но в таком случае, если вы так расходитесь с этими господами в убеждениях, то для чего же вам понадобилось писать к себе письмо подобного рода?
– Они же меня ругали, я вам докладываю! – с жалкой миной развел руками Полояров.
– Ну так вам-то что?.. Вы бы плюнули на их брань, и только!
– Мне это очень, говорю, обидно было… Они притом же про меня даже печатать хотели… Мою гражданскую и литературную репутацию замарать, чтобы никуда моих статей не принимали, а я человек бедный… я только моим честным трудом живу… Мне и есть после этого нечего было бы!
– Ну, стали бы работать в других редакциях.
– Помилуйте-с, это невозможно.
– Отчего же невозможно?
– Да как же-с… Они ведь противного лагеря… У них направление совсем другое… и в убеждениях мы расходимся.
– Да ведь вы же расходитесь в убеждениях с вашими сожителями?
– Это так, да все же… С другими-то я не знаком… и кланяться не люблю.
– Ну, наконец, если вы сочувствуете правительственному прогрессу и либерализму, работали бы в официальных газетах, в «Северной Почте», например.
– Да что ж, я пожалуй… Я не прочь бы… Если бы это можно было устроить – я готов, с своей стороны!.. Почему же?..
Устинову стало уж очень противно слушать все это. Он взялся за шляпу и обратился к чиновнику:
– Могу я теперь удалиться, так как дело, полагаю, вполне уже разъяснилось?
– Pardon!.. [96] Сию минуту-с!.. – с предупредительной любезностью и даже не без известной грации полуобернулся тот к учителю и снова заговорил с Полояровым. – Очень жаль мне вас, господин Полояров, но все-таки должен я вам сказать, что в результате всего этого дела вы сами приготовили себе весьма печальные последствия.
Выражение испуга и тревоги опять отразилось в смущенном лице Ардальона.
– Вы дозволили себе подписаться под доносом именем другого, – продолжал чиновник, – а вы знаете, кáк это называется и к какого рода преступлениям относится ваш поступок?
– Простите!.. Я прошу милости… Снисхождения прошу, – забормотал Ардальон с какою-то мятущеюся тоскою в испуганных взорах. – Спьяну… по глупости-с… Если возможно, я готов чем угодно искупить мою вину… Все, чтó знаю, все, чтó мне только известно, я могу – как перед Богом – без утайки… с полной откровенностью… Я раскаиваюсь… Простите, Бога ради!..
Полояров готов уже был начать плести и впутывать всех своих знакомых, всех, кого знает, всех, про кого мог только вспомнить что-либо, даже всех тех, кого и не знал лично, но про кого слышал что-нибудь такое подходящее, или даже и не подходящее ни к селу, ни к городу. В случае же надобности можно, пожалуй, и изобрести нечто, основываясь на более или менее вероятных догадках и предположениях. – Словом, все что можешь – все плети и путай в дело: и нужное, и не нужное, лишь бы самому как-нибудь вынырнуть. Бодрость окончательно покинула его. Этот арест и все это дело, казавшиеся такими пустяками на свободе, стали теперь страшно пугать его, в особенности после того, как это приняло такой неожиданный оборот и как пришлось отведать на опыте, что такое значит арест известного рода. Полоярову стали теперь мерещиться разные страхи: и казематы, и серые куртки, и ссылки, и всякие мытарства.
Более струсить и пасть духом было уже невозможно. В эту минуту все эти чувства дошли в нем даже до какого-то лихорадочного, щекотного ощущения заячьего страха.
– Простите!.. Простите вы меня! – растерянно обратился он к Устинову, ловя его руки. – Не сделайте меня несчастным!.. Умоляю вас!
– Если тут может иметь на сколько-нибудь значения мой голос, – обратился Андрей Павлович к чиновнику, – то я покорнейше прошу оставить это дело без последствий. Я не желаю преследовать господина Полоярова.
– Вам, конечно, прежде всего принадлежит право преследования, – заметил чиновник.
– Если только мне, то я отказываюсь от этого права.
Устиновым овладело такое чувство презрения и гадливости и вместе с тем сожаления к этому уничтоженному существу, которое стояло теперь перед ним, тщетно ловя его руки, что ему хотелось только вырваться поскорей отсюда на свежий воздух, на свет Божий. Это ужасное, жалкое, оскорбительное для всякого человеческого достоинства положение, в какое поставил себя Ардальон Михайлович Полояров, исключало уже возможность негодования на него. Оно исключало всякую возможность соприкосновения с ним, даже возможность преследования его путем закона. Можно было только плюнуть и постараться поскорее забыть, что бывают в жизни случаи, когда то, что называется человеком, может падать так низко.
Полоярова под конвоем унтер-офицера увели в его нумер. Устинов после этого поспешил откланяться.
XII
Добрая овца нашла своего доброго пастыря
Пан Анзельм рискнул и… женился. Все это произошло очень просто.
Однажды вечером, когда офицерский кабинет, он же и гостиная, и столовая, и зала, был таинственно освещен лампою под темным бумажным абажуром и, вместе с хозяином, казалось, представлял таинственное ожидание чего-то или кого-то, когда вдруг послышался в этом кабинете тихий шелест женского платья и то, что когда-то, во времена оны, называлось гармонией уст и созвучием поцелуев, – пан Бейгуш, среди страстных изъявлений своих восторженных чувств, объявил, что существование врознь друг от друга ужасно тяготит его, что долее так продолжаться не может или иначе он пулю в лоб себе всадит. Вдовушка не на шутку испугалась этой пули. Затем Бейгуш изъяснил, что он настолько горячо ее любит и самая любовь его столь свята, велика, чиста и возвышенна, что он хотел бы не скрывать ее нигде и ни при ком, хотел бы гордиться ею пред целым светом. – Короче сказать, если вдовушка не хочет губить его, сделать навеки несчастным, то пусть вместе с сердцем возьмет и руку, пусть вместо любовника назовет его мужем.
Вдовушка, словно музыку какую, слушала весь этот сумбурный пыл офицерских признаний и восторгалась…
«Ах, как он меня любит! Боже мой, как он любит меня!» – восхищалась она в душе, упоенная этой музыкой и счастьем подобной любви.
«А ведь славно будет с таким бравым красивым муженьком, в таком щегольском мундире с бархатом, показаться в собрании, в опере, прогуляться под руку по Невскому!» – мечтала себе Сусанна. «Он такая прелесть, я тоже не дурна: да на нас просто заглядываться будут!.. Лидька вся высохнет от зависти. Воображаю себе, как это она озлится!.. сейчас щучьи зубы свои выставит и вся позеленеет… Ах, ей-Богу, прелесть! Надо будет сделать себе новую бархатную шубку с соболями и соболью шапочку… Ах, это будет чудо как хорошо! Карточки визитные закажу себе: Сусанна Ивановна Бейгуш… Susanne de Beygouche… Ax, какая хорошая фамилия! Кто это такая хорошенькая дамочка? – Это? это madame Beygouche… Ax, ей-Богу, какое счастие!»
А пан Анзельм меж тем у ног ее пламенно требовал согласия.
– Сусанна! радость моя!.. – шептал он, обнимая ее колени. – Если ты не согласишься быть моею и пред людьми, и пред Богом – клянусь тебе! – вот револьвер! я пущу в себя все шесть пуль разом!.. Клянусь тебе в том моею любовью! Все шесть пуль в эту голову!
«Ах, как он меня любит! Боже мой, как он любит меня!» – восхищалась простодушная вдовушка и, конечно, поспешила дать ему полное свое согласие: видеть его пронизанным всеми шестью пулями разом было бы так ужасно, так жестоко, – могла ль она не согласиться.
Бейгуш приказал ей молчать обо всем до дня свадьбы и особенно в коммуне хранить на этот счет самую строгую тайну. Она, на другой же день после его предложения, принесла ему все свои бумаги, необходимые при венчании, а поручик деятельно стал хлопотать у начальства «о разрешении вступления в первый законный брак». Начальство препятствий не встретило, и через три недели Сусанна Ивановна торжественно переменила фамилию Стекльштром на Бейгуш, а к тому времени и визитные карточки, и шубка с соболями, и шапочка соболья были готовы, – словом, все выходило точно так, как она о том мечтала.
Бейгуш подобрал четырех свидетелей: пана грабего, Свитку да двух своих товарищей-артиллеристов (пан грабя был даже его шафером), и таким образом, без торжественного шума, без лишних глаз, тихо и скромно повенчался в одной из домашних церквей. К этому времени у него была уже нанята и омеблирована маленькая, но не дурная, уютная квартирка, куда он тотчас же перевез жену свою. Счастливая и веселая Сусанна называла ее своим маленьким раем. На третий день после свадьбы она, под диктовку мужа, написала в коммуну известное уже письмо и тем покончила все отношения к бывшим своим сожителям.
XIII
Благородное слово на благородное дело
Прошел целый месяц – медовый месяц супружеской жизни Бейгуша. Сусанна блаженствовала: ее все называли теперь madame Beygouche; на визитных карточках, которые она поразвозила в несколько знакомых домов ее мужа, стояла даже красивая частица de; бархатная шубка с шапочкой необыкновенно шли ей к лицу; она ездит с мужем и в собрание, и в театр; некоторые действительно обращают маленькое внимание на красивую парочку, но счастливой, самообольщенной Сусанне это внимание кажется огромным и почти всеобщим, и она этим так довольна, так счастлива, а у себя дома еще довольней и счастливее: муж ее так любит, он так внимателен, так нежен, его ласки так горячи, так полны страсти… Сусанна окончательно привязалась к своему бравому мужу. За такое счастие, за такие ласки, добрая, мягкая душа ее стала способна для него на все, на всякий подвиг, на всякую жертву.
Между тем к концу первого месяца счастливый и столь облюбленный муж стал порою задумываться… Его начинала смущать именно эта, по-видимому, безграничная привязанность Сусанны. Ее крупные чувственные губы, ее животно-добрые, сладострастные глаза просили все больше и больше новых поцелуев, новых ласк, а ему все это успело уже попресытиться. Он начинал чувствовать некоторую тягость и скуку, оставаясь продолжительное время наедине с женою. Говорить с нею… но о чем говорить с нею? Она только добра, но увы! – не умна нимало!.. Говорить с нею не о чем, кроме как о поцелуях, о новой шляпке, о фасоне нового платья, о коммуне, о любви да о том, как была вчера в театре одета такая-то, или такая-то. Бейгушу это подчас становилось даже досадно, но он был терпелив, подавляя в себе злобное чувство и стараясь искусственно подогревать себя на новые нежности и ласки.
Как-то раз, находясь в неприятном расположении духа и в грустном раздумье по поводу этих самых причин, шел Бейгуш один по Невскому проспекту и нечаянно столкнулся с паном Слопчицьким. Пан грабя на сей раз был в авантаже, одет изящно и потому добр, весел и изобретателен на всякую остроумную штуку.
– А я только вчера из Варшавы, – говорил он Бейгушу, фланерски ухватя его под руку и направляя праздные стопы свои в одну с ним сторону. – Ну, душа моя, дела наши идут пока отлично! Наязд сконфужен, потерял и руки, и голову, и нос опустил на квинту!.. Варшава теперь чудо что такое!.. Эдакая пестрота, движение, чамарки, кунтуши, конфедератки, буты, то есть просто душа радуется!.. Доброе времечко! Ну, а ты как?.. Что семейная сладость и прочее?.. а?
– Да что, брат, я тоже опустил нос на квинту! – с грустной досадой проговорил Бейгуш.
– Те, те, те!.. Что я слышу?! Медовый месяц не кончился, а он на квинту?.. Или жена не любит?
– То-то что чересчур уже влюбилась.
– Значит, тем лучше! А веревки вьешь из нее?
– И это, пожалуй, можно.
– Ну, так пять с плюсом тебе за поведение! В чем же дело? Или капиталов оказалось меньше, чем думал?
– Нет, на этот счет, слава Богу, не ошибся.
– Э, душа моя, так кричи vivat [97]!.. Ей-Богу, просто позавидовать можно человеку: и любят-то его, и веревки-то он вьет, и в капиталах не разочаровался, и женка прелесть какая хорошенькая! Да ты, mon cher, просто привередничаешь после этого!
– Да, привередничаешь! – кисловато пробрюзжал Бейгуш. – Связал себя по рукам и по ногам, тогда как почти что равнодушен к женщине!
– Ну, стало быть, и того еще лучше! – подхватил пан грабя. – Если так, то тем легче можешь во всякое время сделать ей ручку и улыбнуться. Капиталы перевел уже на свое имя или нет еще?
– То-то что нет.
– Э, брат, швах!.. За это тебе из поведения нуль! А еще хвалишься, что веревки вьешь! Чего же ты медлишь-то?
– Да как тебе сказать!.. Ужасно ведь неловко это… И как приступить?.. Ведь это ей покажется и странно, и подозрительно, если так «ни с бухты ни с барахты» ляпнешь ей: переведи, мол, все состояние на мое имя!.. А сама она еще не догадалась об этом… Надо как-нибудь исподволь, поосторожней да половче, а тут, может, не сегодня завтра придется браться за дело, уходить в Литву. Вот тут и раздумывай над такою задачей.
– То есть, попросту сказать, ты либо деликатничаешь некстати, либо не умеешь взяться за дело, – порешил пан грабя. – И притом, я понимаю, душа моя!.. Я очень хорошо понимаю тебя! Тебе хотелось бы прежде всего остаться в ее глазах и вообще выйти из этого дела джентльменом. Не так ли?
Бейгуш молчал и шел потупясь.
– Ты молчишь, – продолжал, пытливо взглянув на него, Слопчицький, – ну, конечно, так! Молчание есть знак согласия. А что ты мне скажешь, – вдруг полновесно и с торжествующей загадочностью заговорил он, – что скажешь ты мне, если бы, например, я, твой приятель, помог тебе обделать всю эту историю так, что и деньги завтра же у тебя в кармане будут, и джентльменом ты перед женой останешься?.. Ну-те, пане капитане, отвечайте мне!
– Хм.. Что ж отвечать на это! – полусоблазняясь, полунедоверчиво усмехнулся Бейгуш.
– Нет, брат, ты ответь!.. Я ведь говорю тебе серьезно, не на ветер! Только ты постой наперед! Так дела не делаются. А ты вот что: хочешь идти со мной на условие?
– На какое условие? – все с тою же усмешкой спросил поручик.
– Во-первых, обед у Дюссо с трюфелями и шампанским, – это прежде всего! Во-вторых, пять процентов со всего капитала, который хоть завтра же, при моей помощи, перейдет к тебе в руки.
– Да, но как перейдет – вопрос? – усомнился Бейгуш.
Пан грабя при этом поспешил даже, хотя приятельски, но благородно обидеться.
– Странное дело! – воскликнул он, оскорбленно подфыркивая. – «Как перейдет?» Неужели же ты можешь предполагать что-нибудь нечестное, неблаговидное!.. Хм!.. Ты, кажется, должен бы хорошо знать меня, что я, как дворянин и порядочный человек, не в состоянии предложить ничего неблагородного! Об этом даже и думать нелепо. Я полагаю, что и ты, и я – оба мы так поставлены в свете и по рождению, и по положению, и по образованию, что не можем сделать ничего такого, за что общественное мнение могло бы набросить на нас какую-нибудь тень. Если я тебе, как доброму приятелю, предлагаю помощь, то понятно, что в ней нет ничего компрометирующего. Я ведь только из участия к тебе же, а впрочем, как хочешь.
– Ну, вот, ты уж и обиделся, кажись! – поспешил Бейгуш поправить свою неосторожность. – Зачем так странно принимать каждое слово! Я, напротив, – я буду бесконечно тебе благодарен, если ты укажешь путь, чтоб она сама, добровольно, предложила мне деньги.