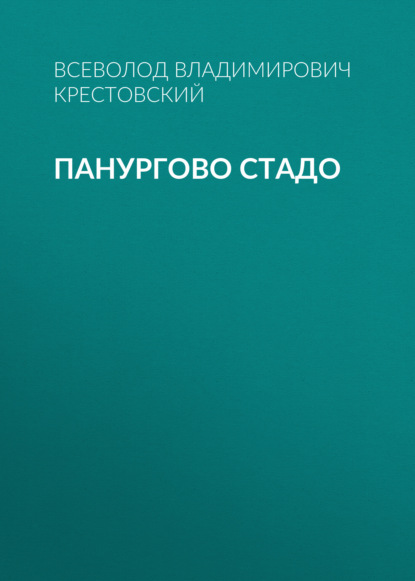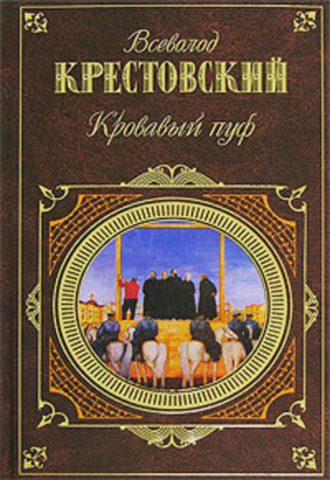 полная версия
полная версияПанургово стадо
– Но за что же, наконец? – пожал плечами Хвалынцев.
– За то, что 25-го числа вы предложили шествие в Колокольную улицу, в известном порядке, по известной программе. Достаточно с вас этого?
– Но отчего ж меня не арестовали прежде, в ту же ночь?
– Оттого, что из следственного дознания об этом узнали они только вчера утром в девять часов. Теперь понимаете?
– Это-то понять не трудно; но не понимаю одного: откуда вы-то все это знаете и притом с такою точностью? – возразил озадаченный Хвалынцев.
– Хм… Вы, кажись, начинаете несколько сомневаться в моей личности? – добродушно и в то же время лукаво улыбнулся Свитка. – Не сомневайтесь! Я – ваш добрый гений.
– Этого для меня мало. Я хочу знать, – заметил студент.
– Отчего же, когда-нибудь, может, и узнаете, – отвечал Свитка в том же полушутливом и полусерьезном тоне. – Вы видите, что нам кое-что известно, и не только насчет вашего ареста, но и насчет Малой Морской.
– Вопрос не в том! – перебил Хвалынцев, – а в том, откуда, почему и как известно.
– Известно ровно настолько и так, как оно есть в действительности, – самым положительным образом заверил Свитка, – а почему известно, это, вот видите ли, я вам объясню насколько возможно. Кроме правительственной полиции, есть еще другая, которая, быть может, следит, в свою очередь, и за правительственною. Это, так сказать, полиция вне полиции.
Ведь согласитесь, если на вас нападают, если против вас изыскивают разные тайные пути, которые должны вредить вам, то с вашей стороны будет очень естественно подумать о самозащите, о том, чтобы, по мере возможности, парализовать эти вредные происки и замыслы. Ну, вот вам, отсюда и вытекает полиция вне полиции или, вернее сказать, контрполиция.
Хвалынцев не на шутку раздумался над этими словами, которые его и поразили, и озадачили, и как будто сказали многое, тогда как в сущности не было сказано ровно ничего определительного. Эти слова только слегка, только чуть-чуть приподняли для него край непроницаемой завесы, за которою вдали, как можно предполагать и догадываться, кроется во мгле что-то большое, важное, таинственное, серьезное и сильное, но что именно – распознать за мглою невозможно. Студент, однако же, сделал еще одну попытку пощупать это неуловимое нечто.
– Хорошо, – сказал он. – Положим, вам удастся припрятать меня на время от жандармов, но что ж из этого? Ведь я же не могу век быть спрятанным, ведь рано ли, поздно ли, они все-таки найдут и притянут меня к делу.
– Об этом не заботьтесь! Об этом предоставьте заботу другим! – успокоительно и авторитетно отвечал Свитка. – Дело можно устроить и так, что все обойдется пустяками. Для этого руки найдутся, а спрятать вас необходимо, собственно, на первое только время, пока там идет вся эта передряга. Погодите: угомонятся.
Недоумение Хвалынцева все-таки нимало не разъяснилось.
– Ваш арест будет сопряжен для вас с некоторым лишением, – продолжал Свитка, – то есть я разумею Малую Морскую, но вы не беспокойтесь: мы найдем возможность тотчас же там предупредить и успокоить; а показываться вам самим, в Hôotel de Paris неудобно по той причине, что жандармам, точно так же как и нам, уже кое-что известно по поводу Морской, в этом уж вы мне поверьте! И потому вас могут захватить и там, а это будет очень неприятно не одному только вам, а и другим особам.
Хвалынцев колебался, не зная, в какую сторону направить свое решение: принять ли предложение Свитки или не принять его.
Свитка заметил это колебание и угадал внутренний смысл его.
– Делайте, как хотите, – сказал он, принимая равнодушный вид; – хотите согласиться со мною – соглашайтесь, а не желаете, так как угодно. Я, конечно, настаивать и удерживать вас насильно не стану: я не имею права на это. Но только знайте, господин Хвалынцев: если вы выйдете из-под моей опеки, вам грозит арест неминуемый. Каковы будут последствия этого ареста, мне, конечно, неизвестно еще, но во всяком случае они будут несравненно тяжелее и самый арест продолжительнее, чем арест у меня. Я говорю все это вам не на ветер, а совершенно серьезно. Итак, угодно вам иметь дело с вашим покорнейшим слугою, или угодно иметь его с Третьим отделением и Петропавловскими казематами?
– Господин Свитка, – начал Хвалынцев, после некоторого раздумья, – я вас слишком мало знаю, для того чтобы… для того чтобы… ну, одним словом…
– Одним словом, для того, чтобы вполне довериться мне, поверить моим словам, хотите сказать вы, не правда ли? – перебил он.
– Пожалуй, и так. Вы угадали.
– Гм… так вот в чем дело! – ухмыльнулся Свитка, руки в карманы, пройдясь по комнате и остановясь, наконец, перед своим гостем. – Другими словами, в переводе на бесцеремонный язык, ваша мысль формулируется таким образом. Я не могу довериться тебе, любезный друг, потому что ты, быть может, не более, как ловкий полицейский шпион и можешь головой выдать меня правительству. Так что ли, господин Хвалынцев?
Студент немного сконфузился и промолчал. Свитка вполне разгадал мысль его. Хвалынцев начал и чувствовать, и понимать, что имеет дело с человеком настолько умным и проницательным, что от него трудно вилять куда-нибудь в стороны.
– Ну, хорошо. Положим, что я шпион, – продолжал меж тем Свитка. – Стало быть, в данную минуту вы уже в руках тайной полиции, которая может сделать с вами все, что заблагорассудит, и никто знать этого не будет, потому что никто не знал и не видел, как и где, и кем и когда вы арестованы. Если я шпион, то и бежать вам отсюда некуда, потому что – почем вы знаете? может, за этою дверью стоят уже жандармы, которые, чуть вы нос покажете, схватят вас, усадят в темную карету и умчат хоть туда, куда Макар телят не гонял. Ха, ха, ха!.. Полноте, господин Хвалынцев, не опасайтесь меня! – шутливо заключил Свитка, протягивая руку студенту. – Я прошу только немножко доверия, ради вашей же собственной пользы. Неужели это так трудно?
– Но кто же вы, наконец, и что все это значит? – пожав плечами, нетерпеливо вскочил с места Хвалынцев.
– Повторяю вам еще раз: я – ваш добрый гений, а значит все это – полиция вне полиции, или, так сказать, контрполиция. Более это объяснять вам пока, ей-Богу, не могу и не имею права. Но еще раз предваряю: вне моей опеки вас ждет арест неминуемый.
– Да что же это, наконец, за участие такое к моей особе? Чем вызвал, чем заслужил я его? Почему не к другим, а к одному только мне?..
– А почем вы знаете, что к одному только вам? Не беспокойтесь: есть и другие! – удостоверил его Свитка. – А что касается участия к вашей особе, то оно вызвано тем, что опять-таки меры, пригодные для хора, не всегда годятся для солистов. Вас надо поберечь. Они могут стричь наши волосы, брить нашу бороду, – но обрубать наши пальцы мы не можем дозволить. Обрубите пальцы – рука ваша ни к черту не годится. Дело ведь, кажется, ясное? Вот почему мы и бережем наши живые, деятельные силы. Если вы сами не хотите еще сознавать в себе эту деятельную, живую силу, то другие очень хорошо провидят ее в вас. Итак, угодно вам отдаться в мое распоряжение?
Хвалынцев начинал чувствовать досаду. Сознание, что он в руках у этого человека, который, очевидно, составляет звено какой-то тайной силы, но какой? – неизвестно, – это сознание становилось все более и более ощутительным для студента. Он, конечно, более всего не хотел быть арестован правительственной полицией: вся неприятная сторона такого ареста и все лишения, сопряженные с ним, говорили слишком громко в пользу того, чтобы всячески стараться избежать их, особенно после этой беседы с Василием Свиткой. Одно уже лишение встреч и свиданий с Татьяной Николаевной на неопределенное и, конечно, более или менее продолжительное время казалось ему невыносимым. Арест у Свитки хотя тоже требовал этого последнего лишения, но все же не на столь долгий срок, и все же, в сущности, этот последний арест был несравненно легче первого, уже потому, что он мог быть только добровольным. Стало быть, колебаний в выборе того или другого для Хвалынцева теперь уже не было. Но ему становилось досадно при сознании, что вот этот человек, с которым он едва знаком, забирает над ним какую-то силу, какое-то нравственное преобладание, от которых, пожалуй, можно и освободиться, да только не иначе, как в явный ущерб самому себе же. Стало быть, благоразумнее будет пока подчиниться ему. Но, подчиняясь, невольно становишься в соприкосновение с какою-то таинственной и, как кажется, правильно и прочно организованной силой. Что эта за сила? Куда, как и кем она направлена? Насколько могуча и чем могуча она? – Все это были вопросы, неразрешимые теперь для Хвалынцева. Кое о чем можно было догадываться, но одних догадок слишком мало казалось ему: хотелось знать, а знать нельзя. Что же делать? Или, зажмуря глаза, отдаться на авось этому потоку, этой таинственной и потому заманчивой силе? Она-то, может быть, и есть настоящая, спасительная сила, а может, в ней-то и заключается гибель. Между чем выбирать тут? Отдаться под опеку Василия Свитки – значит слепо довериться этой силе, которая, как водоворот, притянет, закружит и, может быть, засосет, поглотит тебя. Отказаться от Свитки – значит самому идти в руки другой силы, которая наверное не посулит ничего светлого в будущем. Нервы молодого человека достаточно уже были взбудоражены всеми предшествовавшими впечатлениями. Он сам чувствовал, что в настоящем своем положении решительно не может относиться холодно и спокойно к тем задачам и вопросам, которые подымались в его голове: он не мог теперь обсудить вполне хладнокровно, как нечто постороннее, шансы того и другого – жандармов и Свитки. На стороне той неведомой силы, которая в лице этого Свитки протягивает теперь ему руку, он как будто чуял и свет, и правду, и свободу или по крайней мере борьбу за них. Другая же сила представлялась ему враждебной и свету, и правде, и свободе: неужели же он, полный молодости веры и силы, отдастся без всякой борьбы этой последней, враждебной силе? Нет, надо теперь избежать ее, укрыться от нее, для того чтобы потом успешнее бороться с нею. Кроме этих соображений, отрывочно и не совсем ясно мелькавших в глазах студента, на сторону Свитки тянуло его еще и любопытство, которое так легко и так заманчиво возбуждается в предприимчивом и впечатлительном человеке, когда он приходит в первое соприкосновение с чем-то таинственным, неизведанным.
– Ну, что же вы? Я жду, наконец, вашего ответа! – дружески, но решительно обратился Свитка к своему гостю, после довольно продолжительной паузы.
– Делайте как знаете! – подал ему руку Хвалынцев. – Признаю себя вашим арестантом.
– Это все, что могли вы сделать лучшего! – поклонился Свитка, – и поверьте, каяться не станете. Как стемнеет, я перевезу вас в более надежное место. Там вы будете вполне безопасны.
XI
Надежное место
В начале шестого часа, когда совсем уже стемнело, Свитка привез Хвалынцева на угол Канонерской улицы и поднялся в ту хорошо знакомую ему квартиру, на дверях которой сияла медная доска с надписью: «Типография И. Колтышко». Тот же самый рыженький Лесницкий на высоком табурете сидел за высокой конторкой и сводил какие-то счеты.
– Господин Хвалынцев! – громко назвал его Свитка, подходя к конторке.
Лесницкий тихо, из-за бумаг, поднял глаза на студента, встал с табурета и, не произнеся ни слова, как-то отрывисто стиснул и дернул его руку в знак пожатия.
– Мы рассчитываем на ваше гостеприимство, – продолжал Свитка.
Лесницкий сутуловато и отрывисто поклонился, оскалив широкой улыбкой свои редкие, но крупные белые зубы и, подойдя к двери, сделал пригласительный жест своим посетителям.
Те пошли вместе с ним по коридору, в конце которого управляющий отворил дверь в особую, непроходную комнату, служившую жилищем если не ему, то кому-либо из принадлежащих к типографии, и, указав на нее новым пригласительным жестом, промолвил:
– Вот.
– Здесь вам, пока до времени, будет очень удобно, – пояснил Свитка.
Комната действительно была и удобна, и тепла, и уютна. Широкий, мягкий диван, письменный стол, шкаф и полки с книгами составляли ее убранство.
– Вы обедали, господа? – спросил Лесницкий.
– Нет еще, не успели.
Управляющий торопливо удалился из комнаты, а через несколько времени лакей принес туда два прибора и обед, который был съеден с большим аппетитом двумя проголодавшимися юношами.
– Дайте мне записку к вашей хозяйке, – предложил Свитка студенту, – я привезу вам кое-что из белья да те вещи, которые вам более всего нужны, а в Малую Морскую ничего не пишите.
– Отчего так? – несколько удивился Хвалынцев.
– Да уж так. Доверьтесь мне во всем, пожалуйста! Я вам худого не желаю. Надобно, чтобы никому не было известно место вашего пребывания… Ведь почем знать, и в Малой Морской ничем не обеспечены от внезапного обыска; а если ваша записка как-нибудь не уничтожится – лишний документ будет… Надо как можно более избегать вообще документов. К чему подвергать лишним затруднениям если не себя, то других? Я лучше сам сейчас же съезжу туда и успокою насчет полной вашей безопасности.
– Делайте, как знаете, – согласился Хвалынцев.
Свитка вскоре после обеда уехал.
Через несколько времени после этого в дверь осторожно и тихо постучался Лесницкий.
– Не хотите ли почитать что-нибудь? – любезно предложил он; – вся полка к вашим услугам. Впрочем, тут больше все польские да французские. Есть несколько и английских книжонок, а вы, может быть, хотите русского.
– Пожалуй, дайте хоть русского.
Лесницкий отпер один из шкафчиков письменного стола и достал несколько брошюр, листков и томиков. Это все были лондонские издания вольной русской книгопечатни.
– Вот вам. Может, найдете что-нибудь нечитаное. А если что понадобится – позвоните: человек придет. До свидания.
И управляющий опять дернул руку студента и удалился.
Хвалынцев раздумался над настоящим своим положением. «Как все это странно!» – думалось ему. «Арест – не арест, а между тем нет своей воли, и нет ее по своей собственной охоте, по своему же выбору… Опека этого Свитки, которого я почти совсем не знаю… Это участие, это внимание – что все это такое? И за что, главное дело?.. И где, и у кого я теперь?.. „Типография Колтышко“ – но где же этот Колтышко? Ведь рыженький барин, кажись, не должен быть Колтышкой… Он что-то вроде фактора, конторщика… И кто он такой, и как его фамилия?.. Фу ты, черт возьми! Хоть убей, если я что-нибудь понимаю во всем этом!.. „То, что годится для хора, не годится для солистов“… Да почему же я солист, наконец, и с чего такое странное, хотя и лестное для меня заключение?.. „Мы не можем позволить обрубать себе пальцы“… „Контрполиция“… Все-то им известно, все-то они знают… Общество это тайное, что ли? Но где же оно? Кто его члены, и сколько их, и в чем его силы?.. Заманчиво, черт возьми!»
И сколько он ни думал, и что ни гадал обо всех этих обстоятельствах, – в конце концов размышления его приходили к одному исходу: заманчиво и любопытно. И, кроме этого единственного исхода, никакого более точного положительного ответа не представлялось на все вопросы, которые ставило ему его странное положение. А любопытство меж тем всей влекущей и заманчивой стороной своей разыгрывалось в нем все более и более. Он порешил, наконец, совершенно покориться своему загадочному положению и терпеливо ждать, что будет дальше, что из всего этого воспоследует?
Прошло уже более двух часов времени, а его никто и ничем не обеспокоил, только слуга принес стакан очень хорошего чая. Таким образом, он мог чувствовать себя совсем как дома. Свитка не возвращался, а Константину Семеновичу меж тем очень хотелось поскорей узнать результат его посещения Малой Морской улицы. От нечего делать принялся за чтение и мало-помалу увлекся. В то время с таким жадным интересом, с такою верою и увлечением поглощалась каждая строка, вышедшая из-под станка Вольной русской типографии. А теперь в руках Хвалынцева благодаря рыженькому господину был такой обильный запас этих изданий, и столько нашел он в них нового, еще не читаного. Кое-что попадалось ему и прежде, но большею частью урывком, кое-что было известно вскользь или только по слуху, по отзывам, по разговорам, а теперь все оно здесь, воочию, в полном его распоряжении, с возможностью читать не вскользь, а основательно и прочно, углубляясь и вдумываясь в смысл всего того, что в то время и не одному Хвалынцеву с его увлекающейся юностью казалось высшей и безусловной правдой, высшим откровением.
Так он и не дождался в этот вечер Василия Свитку, а Свитка между тем приезжал в типографию и беседовал с Лесницким, и после этой беседы, отпустив от себя Свитку, Лесницкий тотчас же отправился во внутренние покои квартиры, смежной с типографией.
В просторном кабинете, за большим столом, при слабом освещении двух свечей, под зелеными абажурами, сидел хозяин этой квартиры. Комфортабельная и вместе с тем скромная обстановка, судя по обилию книг, корректур и деловых казенных бумаг, указывала, что кабинет этот принадлежит лицу, которое соединяет в себе литератора-издателя с довольно значительным чиновником. Этот литератор-издатель и вместе с тем значительный чиновник был собственник типографии, надворный советник Иосиф Игнатьевич Колтышко.
– Что еще нового? – отрываясь от бумаг, спросил он Лесницкого.
– Все еще о Хвалынцеве, – оскаля короткой улыбкой свои зубы, поклонился управляющий.
– Ага! Прекрасно! в чем же дело?
– Францишек обещает полный успех. Говорит, человек стоит, чтобы призаняться…
– Что ж, тем лучше. Займитесь оба.
– Но… Тут есть одно обстоятельство… Маленькая любовь… Францишек по этому поводу делал уже свои наблюдения, справки многие собрал, нашел даже хороший случай познакомиться в гостинице с горничной этой особы, ну, и он полагает, что эту любовь надо бы как-нибудь устранить.
– А что так?
– Да так. Говорит, что может помешать успеху.
– Гм… Почему он так думает?
– У него свои соображения. Девушка эта любит, конечно, эгоистически, то есть прежде всего для самой себя и едва ли захочет жертвовать женихом для какого бы то ни было дела. А тот ведь думает жениться на ней. Стало быть, если позволить развиваться этому чувству, окончательно привяжется к ней, а она так и теперь уже, кажется, имеет на него влияние – ну, и тогда уж он погиб для дела. Да еще вдобавок у обоих в Славнобубенской губернии есть кой-какие именьица. А человек между тем, как есть, совсем подходящий; – жаль будет упустить! Францишек того убеждения, что необходимо, во что бы то ни стало, разорвать эту любовишку. И я думаю то же.
– Гм… Легко сказать: разорвать!.. Как же вы разорвете?
– Дело не невозможное, – пожал плечами Лесницкий, снова скаля большие, редкие зубы, – стоит влюбиться в другую. Оно, конечно, мудрено немного, потому – тут нужен и случай, и время. Но… можно найти и то, и другое. У нас уже есть свой маленький план, и если вы нам поможете, – даст Бог, – будет и удача.
– Вот как! Уж и план готов! – шутливо улыбнулся Колтышко. – Любопытно знать, в чем дело?
– Дело? Дело в графине Маржецкой.
Колтышко, откинувшись на спинку своего кресла, быстро вскинул взгляд на Лесницкого и поглядел на него пристально, внимательно и серьезно.
– Выдумка довольно оригинальная, – заметил он сквозь зубы, – но не слишком ли уж много для какого-нибудь студента?
– А как знать, чем может быть для нас этот студент? – пожал плечами Лесницкий. – Смотреть, как вы смотрите, так мы ровно никого не навербуем. Если уже решено раз, что москали в наших рядах необходимы – надо вербовать их, и чем скорее, чем больше, тем лучше. Кладите же начало!
– За мной дело не станет! – заметил Колтышко: – но… тут не я, – тут графиня. А что скажет графиня на это?
– А что же может сказать она, если дело потребует этого? – в свою очередь спросил он. – Неужели же вскружить голову юноше – такой трудный и великий подвиг, такая страшная жертва, на которую она не могла бы решиться? И, наконец, чего же стоит ей эта полезная шалость, и к чему она ее обязывает?.. Ведь только вскружить, – не более!
– М-м… да; это не дурно! – согласился наконец Колтышко. – Мы подумаем об этом.
– Э, Боже мой! о чем тут думать?.. Говорю, чем скорей, тем лучше, – махнул рукою Лесницкий.
И он принялся объяснять своему патрону кое-какие соображения относительно задуманного плана.
XII
Дрессировка начинается
Только на другой день, в четвертом часу, Василий Свитка посетил, наконец, Хвалынцева. Он привез ему сак с бельем и необходимыми вещами, извиняясь тысячью хлопот и бездною дел в том, что не успел приехать ранее. Эта же тысяча хлопот помешала Свитке быть вчерашний день у Стрешневых. Он говорил, что сейчас только оттуда, что молодой Стрешневой не видал, так как ее не было дома, а видел только старую тетку, которую вполне успокоил насчет Хвалынцева, сказав, что он теперь вне всякой опасности, в благонадежном месте, но что некоторые, весьма важные обстоятельства требуют недальнего отъезда его из Петербурга на непродолжительное время, и потому-де Хвалынцев просит нимало не беспокоиться его отсутствием. Более сказанного Свитка, пока до времени, ничего не мог объяснить старушке, только просил ее передать все это Татьяне Николаевне и засим держать в секрете и его посещение, и сообщенные им известия. Старая тетка, по его словам, вполне успокоилась и даже послала свой поклон Хвалынцеву – «буде вы увидите его раньше».
Хотя всего сообщенного было слишком мало для Константина Семеновича – он ждал, что Свитка увидит самую Татьяну Николаевну и привезет от нее если не письмо, то хоть приветное, ободряющее, доброе слово – «но все же это лучше чем ничего», решил он; «по крайней мере, беспокоиться и опасаться не станут».
Уходя от Хвалынцева, Свитка внушительно предупредил его!
– Вам, вероятно, предстоит знакомство с Колтышкой, – сказал он, – так вы глядите, не выдайте ни словом, ни взглядом о закулисной стороне наших отношений и разговоров. Колтышко, предваряю вас, ничего не знает. Он ни во что не посвящен.
– Да ведь и я ничего не знаю, и тоже ни во что не посвящен, – возразил студент.
– Ну, все-таки теперь знаете неизмеримо более, чем он, поэтому – осторожность!
Хвалынцев мельком, недоверчиво взглянул на Свитку. В этих последних словах ему показалось что-то не совсем-то искреннее, что-то притворное.
– Но в каком же смысле и в каком роде будет наше знакомство? – спросил он. – И не лучше ли, в таком случае, не знакомиться нам вовсе?
Свитка немножко замялся.
– Н-нет, познакомиться-то необходимо, – сказал он, – ведь он все ж таки хозяин этой квартиры. Да вы не беспокойтесь: Лесницкий представит вас как своего доброго знакомого.
– Но чем же он объяснит мое присутствие в квартире господина Колтышки?
– А тем и объяснит, что вы не желаете участвовать в студентских беспорядках и попасться в лапы жандармов, а потому просили его избавить вас от тех и от других в этом укромном убежище, – очень развязно и улыбаясь объяснил Свитка.
– Послушайте, добрый опекун, вы, однако, ставите меня в очень фальшивое положение, – весьма серьезно заметил Константин Семенович. – Я вам бесконечно благодарен за ваше участие и расположение ко мне; но если… если все это необходимо сопряжено с такого рода фальшью, то я, признаюсь вам, весьма затрудняюсь принимать ваше доброе участие.
Свитка окинул его беспокойным взглядом и лукаво улыбнулся.
– А жандармы? – многозначительно спросил он.
– Что ж?.. Конечно, это очень невкусно, но… пред жандармами у меня, по крайней мере, нет и не будет фальшивого положения.
Свитка, притворяясь равнодушным, спокойно прошелся по комнате. Он понял, что сделал промах, заговорив с Хвалынцевым о предстоящем ему знакомстве и ведя весь последующий разговор. Надо было, во что бы то ни стало, поправить теперь этот промах. Выпустить из рук своих Хвалынцева ему точно так же не хотелось, да теперь это было бы и нерасчетливо, после того как ради его сделано уже столько подходов и даже кое-что разоблачено до известной степени. Свитка сообразил, что поправить промах свой он может не иначе, как напустив на себя тон полной искренности и откровенности.
– Ну, Хвалынцев, будемте говорить по-братски, по душе! – решительно предложил он, остановясь перед студентом и открыто протянув ему руку. – В чем вы видите фальшь своего положения?
– В том, что вы меня заставляете играть роль какого-то подловатенького трусишки, который из боязни жандармов хочет укрыться от своих товарищей, отстать от общего дела. Я не согласен на это.
– Ха, ха, ха! – тихо засмеялся Свитка. – Ну, я так и знал! Я так и знал, что не что иное, как это!.. Ну, дайте сюда вашу руку – помиримтесь!.. Это, действительно, фальшь – ну, значит, и долой ее!.. Выслушайте меня: Лесницкий объяснит Колтышке прямо, что вам до времени нужно убежище, чтоб избежать полицейских агентов. Ведь это так и есть на самом деле? Вы согласны?