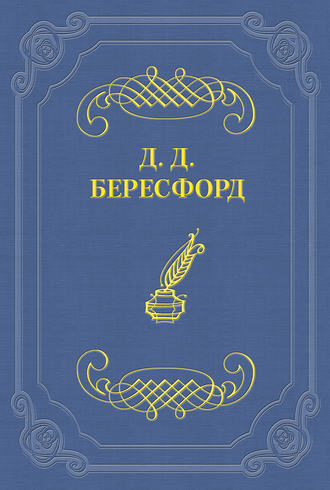 полная версия
полная версияТолько женщины
Повеяло прохладой, но вода была теплая неудивительно приятная. Эйлин поплыла вверх по течению, в ту сторону, откуда надвигались тени. На небе догорали отблески заката и, хотя на поверхность воды еще ложились отсветы, вблизи все было мрачно и таинственно. Порой Эйлин становилась на ноги и некоторое время шла по дну, но не могла определить сворачивает ли река дальше вправо, или влево. По-видимому, она круто обрывалась ярдах в пятидесяти впереди…
До слуха ее донесся, насильно привлекая к себе ее внимание, новый звук – глухое, непрерывное гуденье. Она остановилась и, поддерживая себя на поверхности воды медленными, бесшумными движениями рук и ног, стала прислушиваться. Глухое гудение перешло как будто в тихие, тягучие вздохи.
Эйлин вспомнила, что недавно вблизи открыли новый шлюз, но тем не менее, неожиданно ей стало страшно. Почудилось будто движение в прибрежных тростниках – потом смех и тонкий звук флейты.
Быть может, это старые боги вернулись, чтобы приветствовать смерть человека, как они приветствовали его рождение? Теперь, когда цивилизация погибла, и тайны, вырванные у природы лукавым и пытливым человеческим умом, вновь вернулись в ее недра, быть может, старые боги вернулись снова поликовать и отпраздновать победу, прежде чем исчезнут совсем с лица земли последние представительницы рода, не сумевшего отстоять себя в борьбе за существование.
Ночь, как тень, надвигалась на землю, а на востоке поднималась огромная багровая луна, не рассеивая, а лишь сгущая тайны мрака. Эйлин, почти не шевеля руками и ногами, плыла, уносимая медлительным течением. Она боялась заглушить естественные звуки ночи, тихое журчанье реки, тихий шелест тростников и какой-то крадущийся шорох в них, причины которого она не могла себе объяснить. И опять ей почудилось будто отдаленный звук флейты.
Неподалеку от того места, где она раздевалась, Эйлин стала на дно и вышла из воды, вся съежившись, согнувшись, боясь даже в густой тени деревьев выпрямить свой стройный стан. Наскоро она вытерлась, оделась и, только ощутив привычное касание одежды, почувствовала себя в безопасности от проказ нимф и сатиров. Она покинула таинственный мир, стоящий между человеком и Природой; в одежде она была невидима земным богам, и сами они были скрыты от нее.
И, все-таки, она трепетала от страха. У плоти есть свои тревоги, такие же тягостные, как тревоги духа.
Как-то неуверенно налетал иногда юго-западный ветерок, и деревья начинали перешептываться между собою. Сухой листок, падая, задел ее по лицу, и она отскочила назад, нервно отмахнувшись рукой от воображаемого врага.
Ей было жутко думать, что она так далека здесь от всего живого – одна, лицом к лицу с беспощадно жестокой Природой. Мужчина, хвастливый, преисполненный нелепой гордости, исчез с лица земли, он, всегда чужой, всегда помеха ей, препятствовавший росту, или отклонявший его в другую сторону. Теперь он разбит, обращен в бегство. И она, одна из представительниц гнусной породы разрушителей, окружена затаенной, но упорной ненавистью Земли, которая жаждет снова покоя. Теперь, когда человек вымирает, около него нет богов, благосклонных к нему – все боги, созданные человеком, умрут вместе с ним. На земле уцелела лишь кучка женщин, которым пора понять, что они чужие в царстве Природы, которой они ненавистны. Мир принадлежит не им и никогда им не принадлежал; человек лишь противоестественный, гадкий нарост, некоторое время безобразивший Землю…
Эйлин осторожно, пугливо пробиралась под густой тенью деревьев и, даже когда вышла на дорогу, не могла вполне освободиться, от страха. Направо темной громадой чернел лес, преображенный лунным светом: днем она знала, что это только лес; теперь он ей казался странным, точно грозно надвигавшимся. Казалось, вот-вот, он спустится с холмов и заполнит всю долину. Через сотню-другую лет от Марлоу останется лишь несколько кучек камней, затерянных в чаще бора.
Стыдясь себя, того, что она человек, Эйлин торопливо и бесшумно пробиралась к мосту.
Но, еще не дойдя до него, услыхала позади себя уверенные, твердые шаги. Остановилась, прислушалась – и вдруг перестала бояться. В былые дни ока испугалась бы мужчины, больше, чем Природы, испугалась бы, что ее могут ограбить, или изнасиловать; но теперь все люди, мужчины и женщины были объединены общим делом; теперь звук человеческих шагов был символом близости друга.
– Алло! – окликнула она, и голос Джаспера Трэйля ответил: – Алло!!
– Я – Эйлин. Я ходила купаться.
Нагнав ее, Джаспер остановился, и они посмотрели друг на друга.
– Чудесная ночь, – заметил он.
– Я видела великого бога, Пана. Матросы Ионического моря были введены в заблуждение. Пан не умер.
– Зачем же Пану умирать, если Дионис живет? Кстати, я слышал, что Дионис утащил у нас еще одну овечку.
– Милли?
– Да.
– Вы сердитесь?
– Да. Не на Милли. Если вы видели Пана, почему бы ей и не увидать Диониса. Нет, я сержусь на эту Дженкинс. Она говорит, что, если Милли вернется, мы не должны принимать ее обратно.
– Как глупо!
– Да. И это еще не все. Скверно то, что эта Дженкинс начинает вербовать себе сочувственниц. Она хочет восстановить церковное богослужение и празднование воскресенья. Вот, увидите, зимой у нас пойдет религия, и опять воскреснут все старые недоразумения и распри.
– Да, наверное, – подумав, подтвердила Эйлин. – Мы расколемся на тех, кто трусит, и на тех, кто не трусит. Если вдуматься, мы поймем, что всеми нами владеет страх. Я сама испытывала его сегодня, и Милли тоже, и Клара Дженкинс, и все, кто с ней – каждая по-своему. И каждой приходится по-своему бороться с ним. – Она запнулась, потом продолжала:
– А вы сами? Вы испытали его?
– Да, в первый раз в жизни. Не дальше, как десять минут тому назад.
Над деревьями плыла луна, и Эйлин явственно видела лицо своего спутника. – В самом деле? – переспросила она. – Не могу себе представить. Это не может быть страх перед Паном, или Дионисом, перед Землей, или людьми. Нет. И тем не менее, самый ужасный из всех – страх перед идеей. Чего же вы боитесь?
– Вас, – ответил Трэйль и, быстро отвернувшись, зашагал по направлению к реке.
– Я действительно видела Пана, – сказала себе Эйлин и, уже чуждая страха, счастливая, вернулась в Марлоу.
* * *Настроение, испытанное Эйлин в этот вечер, подсказало ей единственную причину, казавшуюся достаточной для объяснения внезапного приступа набожности в миссис Дженкинс и некоторых других обитательницах Марлоу. Страх перед неизвестностью, страх перед будущим, перед борьбой – чего понятнее и проще – а Эйлин, подобно многим философам до нее, сама жаждала простого и всеисчерпывающего объяснения.
Вначале эта тенденция воскресить прежнюю обрядность проявлялась слабо. Десятка два-три женщин сходились в здании школы для бесед и молитвы при свете единственной, заботливо оберегаемой лампы; большинству не хватало конкретного воплощения религии в виде человека в длинном черном сюртуке и белом галстуке.
Но в начале сентября, когда пошли дожди, когда березы, вместо того, чтоб расцветиться золотом и багрецом, роняли на землю увядшие мокрые листья, когда над городком повис угрозой страх наводнения и нечем стало отвлечь мысли, так как даже физической работы почти не было – к первоначальному ядру стали присоединяться многие сочувствующие, и сравнительно невинные вначале коленопреклонения и общие молитвы перешли в попытку навязать общине нравственный закон.
Милли Гослинг, возвратившаяся в Марлоу в половине октября, дала поборницам религии превосходный предлог для первой демонстрации.
Милли вернулась со спокойным лицом, но с сердцем, замиравшим от страха. Она покинула Вайкомб, не выдержав насмешек женщин, которые так недавно еще завидовали ей, когда она, в качестве любимой фаворитки, разъезжала в Дионисовском ландо. Низвергнутая, она почувствовала себя горько одинокой; она нуждалась в сочувствии и надеялась, что Бланш, может быть, поймет ее. И приготовила в свое оправдание целую длинную историю. Но Бланш оказалась даже более снисходительной, чем она надеялась.
Бланш была ревностной последовательницей Джаспера Трэйля, проповедовавшего новое Евангелие, догматы которого Бланш формулировала теперь сама.
– Искать прецедентов в старом для суждения о новом незачем – мы живем в новых условиях и должны приспособиться к ним. Если мужчине иметь теперь одну жену, род человеческий может вымереть. Долг женщины – рожать детей. – Таково было учение Джаспера Трэйля; он ждал возвращения Милли и старался подготовить к нему своих учениц.
Эйлин, Бланш и некоторые другие молодые женщины дивились, почему же он сам на себе не применяет своего учения, но его собственное воздержание только придавало больше веса его мнению. Даже мисс Дженкинс не сочла возможным сказать, что Джаспер защищает самого себя, и могла только уверять, что этот проповедник, проповедующий одно, а сам делающий другое, одержим дьяволом и говорит по его наущению – но заставить поверить этому было труднее, чем тому, что его проповедь своекорыстна.
Таким образом, Милли, вернувшись в дождливый октябрьский вечер, нашла, что оправданий от нее никто не требовал. Бланш встретила ее ласково и вопросов никаких не задавала; после заката солнца к ним пришли Джаспер Трэйль и Эйлин и отнеслись к блудной дочери с дружелюбием, новым для нее и потому особенно приятным. Решено было, что она на другой же день снова пойдет на мельницу. Но в школе, напротив, ей готовили иной прием.
Наиболее энергичные из дженкиниток, позабыв на этот вечер о молитве, требовали немедленного извержения из лона общины паршивой овцы, грязнящей своей близостью других. Каждая из этих фурий с чистой совестью могла заявить, что она неповинна в грехе Милли, и каждая жаждала первой бросить в нее камень.
Страсти слишком раскипелись и перелились, наконец, на улицу. С дюжину оскорбленных в своей добродетели воинствующих христианок обступили домик Гослингов и принялись колотить в дверь. Они пришли обличить грех и насильно вышвырнуть грешницу из общины. Каждая в душе почитала себя невестой Христовой.
Дверь отворилась. На пороге стоял Джаспер Трэйль.
– Мы пришли, чтобы прогнать паршивую овцу, – высоким резким голосом воскликнула мисс Дженкинс.
– О чем вы говорите?
– Она должна быть извержена из нашей среды, – еще звонче закричала мисс Дженкинс, и ее спутницы хором повторили: – Извержена!
– Она виновна столько же, сколько ваша праматерь Ева, – возразил Трэйль. – Разойдитесь по домам и не глупите.
– В нем дьявол сидит, – закричала нараспев мисс Дженкинс, – сам Господь посылает нас отстоять Его честь и славу. И человека этого мы тоже не можем терпеть в своей среде.
– Долой его! Долой его! – закричали другие. Они были так взвинчены, что в этот момент готовы были пойти на мученичество.
Мисс Дженкинс была увядшая старая дева лет сорока пяти, маленького роста и слабая физически; но тем не менее, опьяненная своей ревностью о Господе и собственными выкриками и поощряемая сочувствием своих приверженцев, она подскочила и кинулась на Джаспера Трэйля с явным намерением выцарапать ему глаза. Она жаждала крови Милли Гослинг и Джаспера Трэйля с той же неотступностью, с какой некогда женщины добивались ненужного им права голоса.
Джаспер Трэйль небрежно протянул руку и оттолкнул ее назад; она упала на руки сопровождавших ее женщин, но тотчас же вскочила и, подталкиваемая толпой, силившейся протиснуться в узкую дверь, возобновила нападение с яростью разозленного котенка.
– Послушайте. Еще немного, и я тоже выйду из терпения, – сказал Джаспер Трэйль; шагнул вперед, стал в дверях и принялся расшвыривать направо и налево разъяренных женщин.
В сущности, ничего другого и не оставалось, но на крик прибежали другие обитательницы Марлоу, в том числе леди Дургам, и ее спокойный звучный голос подействовал на истерически взвизгивающих дженкиниток, как холодный душ.
– Клара Дженкинс, что вы тут делаете?
– Мы хотим прогнать отсюда Милли Гослинг, ответила растрепанная маленькая женщина, но этот раз последовательницы не поддержали ее.
– Этот вопрос надлежит решить комитету. А теперь, прошу вас всех – разойдитесь по домам.
Мисс Дженкинс пустилась было в объяснения. Но Эльзи Дургам вошла в дом и заперла за собой дверь.
За дверью Эйлин и Бланш силились успокоить перепуганную Милли. А на улице вновь прибывшие, более здоровые и уравновешенные, более сильные физически, безжалостно издевались над невестами христовыми, вздумавшими распоряжаться в общине без согласия комитета.
* * *Но обитательницам Марлоу пришлось на личном опыте убедиться еще раз в старой истине, что религиозного энтузиазма не погасить ни гонениями, ни насмешками. Джаспер Трэйль понимал это и считался с этим, но комитет не мог одобрить предложенного им плана действия.
– История учит нас, – доказывал он леди Дургам, – что гонения только разжигают жажду мученичества. Единственный способ бороться с такими эмоциями – это дать им полную свободу. Сделайте, как они хотят. Сейчас пламя разгорелось так, что вам не потушить его – вы только подольете масла в огонь. А если вы не будете трогать его, оно погорит-погорит и погаснет, само собою.
Эльзи Дургам пожала плечами. – Все это прекрасно. Я думаю даже, что вы совершенно правы. Но ведь они требуют удаления не только Милли Гослинг – ее бы мы могли устроить в Финджесте – но и вас. А мы без вас не можем обойтись.
– Почему не можете? Я, ведь, и не собирался жить здесь до скончания века. Теперь вы отлично справитесь и без меня, а я выполню свое первоначальное намерение и посмотрю, что делается на Западе.
– Нет, милый мой, мы не можем и не хотим Вы нам необходимы.
– Нет такого человека, без которого нельзя было бы обойтись.
– Бросьте вы вашу метафизику, Джаспер. Мы вас не отпустим – так и знайте. «Мы» – т. е. большинство в Марлоу, не один только комитет. А с фанатичками как-нибудь уж справимся.
Большинство, на которое ссылалась Эльзи Дургам, дружно стояло за оставление Джаспера Трэйля. Большинство это заключало в себе две наиболее многочисленные партии из трех, имевшихся в Марлоу. Первая из них и самая многочисленная была партия умеренных, приверженцев епископальной церкви, нонконформисток и кучки католичек, находивших исход своим религиозным чувствам в посещении по воскресеньям ратуши, или церкви, где происходили митинги, религиозные чтения и нечто вроде богослужения, совершаемого Эльзи Дургам и вдовой покойного местного ректора. Вторая по многочисленности партия объединила всех тех, кто не признавал религии или был равнодушен в ней. Третья, дженкинитки, как их прозвали, отличалась от первых двух прежде всего физически. В ней было мало членов моложе тридцати пяти лет, очень мало толстых и еще того меньше хороших работниц для наиболее тяжелых полевых работ; у всех у них были голодные глаза и беспокойные движения; и такое выражение лиц, как будто они искали чего-то, не нашли и навсегда остались неудовлетворенными. Женщин этого ярко выраженного типа, всего было семнадцать, но вокруг этого ядра сгруппировалось до сотни других, в большинстве также отмеченных той или другой характерной чертой главного типа; а остальные примкнули, из бравады, ради забавы, или с корыстной целью.
К последним принадлежала миссис Айзаксон, которая и стала виновницей окончательного поражения дженкиниток.
Выдержав испытание по сельскому хозяйству, миссис Айзаксон чем дальше, тем больше обнаруживала наклонности почить на лаврах. За время пребывания в Марлоу она очень растолстела и все жаловалась на болезнь сердца. Малейшее усилие вызывало у нее жестокое сердцебиение и другие тревожные симптомы. При первой же попытке взяться за какое-нибудь дело, бедная женщина задыхалась, судорожно прижимала руки к груди и закатывала глаза, так что оставались видны одни только налитые кровью белки, но, тем не менее, повторяла:
«Нет, нет, я хочу, я должна работать. Это несправедливо по отношению к другим, что я сижу без дела. Я попробую еще раз. Я не хочу несправедливости».
Но другие, видя, что она близка к обмороку, требовали, разумеется, чтоб она пошла домой и отдохнула.
К концу зимы отдыхи миссис Айзаксон стали все более и более длительными. Джаспер Трэйль, усмехаясь, говорил: «Ничего не поделаешь: придется кормить ее». Но другие члены комитета не хотели создавать такого нежелательного прецедента, так как и другие женщины могут последовать примеру миссис Айзаксон и предпочесть работе отдых.
Так оно и случилось: болезни сердца стали эпидемическими в Марлоу.
Затем, оказалось, что миссис Айзаксон присоединилась к дженкиниткам. Вначале к ней отнеслись подозрительно, потом, все же приняли ее – может быть, потому, что приятно было иметь в своей среде еще одну толстую женщину: большинство были так страшно тощи.
Недели две новая дженкинитка пользовалась большим успехом: она трещала без умолку на своем курьезном английском языке, и ее болтовня была забавна. Но в начале декабря миссис Айзаксон уличили в тяжком преступлении. Одной из первых задач, поставленных себе комитетом, было – припрятать и сберечь такие необходимые припасы, как например, чай, кофе, сахар, свечи, мыло, соль, порошок для печенья, вино и пр. Все это было сложено в одной из комнат банка и заперто на ключ. Образовался довольно солидный запас, почти еще не початый. После жатвы из него выданы были пайки всем работницам, в виде награды за услуги, оказанные ими общине, а на Рождество решено было устроить общий фестиваль.
Миссис Айзаксон, с энергией, которой никто не ждал от нее, ухитрилась пробраться в это запертое помещение. Она высадила одно из задних окон и, несмотря на свою толщину и слабость сердца, периодически лазила в него и воровала чай, сахар, свечи и виски. Проделывала она это обыкновенно в сумерки, После заката солнца, с ловкостью и проворством опытной воровки, и пожалуй, ее и не поймали бы, – если б не Бланш.
* * *Миссис Айзаксон, как прежде, жившая с Гослингами, усвоила себе привычку засиживаться по вечерам, ссылаясь на то, что она, все равно, засыпает поздно – это было не удивительно, так как она помногу спала днем; а так как она всегда умела собрать или выпросить достаточно дров для поддержания огня в камине, у Милли и Бланш не было оснований возражать против этого. Трэйль поставил теперь на мельнице динамо-машину, дававшую искусственное освещение, и рабочие часы обеих девушек так удлинились, что они рады-радехоньки были улечься в постель в половине восьмого. Так что к восьми часам миссис Айзаксон могла считать себя в безопасности от всяких вторжений, и наслаждаться без помехи накраденными лакомствами.
Но, однажды, ночью у Бланш разболелись зубы. Т. е. они болели еще с вечера, но, улегшись в постель, она согрелась и проспала часа два спокойно. Потом проснулась от острой боли. Вздохнула, прижалась щекой к подушке, попробовала зализать языком больное место, попробовала опять уснуть – напрасно. Впрочем, может быть, это ей и удалось бы, если б не неведомо откуда шедший запах виски.
В первый момент она подумала, что дом в огне – она всегда боялась, как бы миссис Айзаксон не забыла погасить свечу; села на кровати и втянула в себя носом воздух. – Странно! Пахнет точно, точно плум-пудингом. Эту аналогию подсказал непонятно откуда идущий запах спирта.
Бланш встала и тихонько отворила дверь. Миссис Айзаксон спала в соседней комнатке – что-то вроде передней – и при бледном свете луны девушка сразу увидала, что жилица ее еще не ложилась.
Здесь запах спирта был еще ощутительнее и Бланш, забыв о своей зубной боли, спустилась по коротенькой лесенке вниз. Дверь, ведшая в жилую комнату, была задвинута засовом изнутри, но в замочную скважину Бланш увидела миссис Айзаксон, которая сидела у камина и пила горячий чай на столе стояла откупоренная бутылка виски и две женных восковых свечи.
Бланш остолбенела. Чай, виски, свечи – откуда все это взялось? Она готова была поверить в волшебство. Долго она стояла так, в недоумении, ноги ее не окоченели от холода.
Не прерывая оргии, она тихонько прокралась назад в спальню и не без труда разбудила Милли.
Звуки их голосов, должно быть, встревожили мисс Айзаксон, так как вскоре девушки услыхали ее грузные шаги на лестнице. Они смолкли и, так как от волнения зубная боль у Бланш прошла, сестры вновь уснули.
На другой день, никому ничего не говоря, Бланш вернулась домой в половине пятого, когда мисс Айзаксон не было дома, и осмотрела ее спальню, матрацем она нашла небольшой склад чаю, сахару и свеч – бутылка виски исчезла – и поняла, почему мисс Айзаксон так самоотверженно отказывалась от всякой помощи при уборке своего логовища комнатой этого назвать было нельзя.
Посоветовавшись с Милли, Бланш решила уведомить Джаспера Трэйля. Тот посмеивался над негодованием Бланш, но, тем не менее, счел за нужно доложить комитету – по крайней мере его членам не дженкиниткам.
Те пришли в ярость. – Этого невозможно оставить, – говорила Эльзи Дургам. – Не провизии жалко – Бог с ней: много она не украдет – но надо установить прецедент. Надо выработать какой-нибудь закон, который бы ограждал общину от ее недостойных членов. Если одной спустить кражу, и начнут красть. Тогда все женщины разделятся работниц и воришек.
– Что же вы хотите сделать с ней?
– Прогнать ее.
– Дженкинитки ни за что не согласятся.
– Посмотрим. Но только сначала мы должны поймать ее с поличным, чтоб никаких сомнений не было.
Трэйль согласился, что так будет благоразумие но отказался принимать какое бы то ни было участие в уличении или суде над мисс Айзаксон. – Они скажут, что я сам нарочно все это подстроил, если я вмешаюсь, – говорил он.
* * *Когда Ребекку Айзаксон поймали на месте преступления, лезущей в окно кладовой, она в первую минуту растерялась и стала уверять, что она лунатик, ходит во сне и сама не знает, что в таком состоянии делает; но потом, видя, как разъярились дженкинитки, покаялась во всем чистосердечно, объясняя свой грех тем, что она лишена была благодати истинной веры, и выражая надежду, что если она будет принята в лоно истинной Церкви, кровь Агнца смоет ее от всяких грехов.
Дженкинитки даже обрадовались такой, настоящей грешнице, тем более покаявшейся. До сих пор им приходилось довольствоваться признаниями в мелких отпадениях от благодати, и это делало их беседы на собраниях несколько однообразными. И «сестра Ребекка» обрела у них снисхождение и покровительство.
Не то, чтобы семнадцать «дженкиниток» стремились добиться светской власти, как священники в дни перед чумой. Нет, они несомненно были искренни в своих верованиях и поступках. Вся беда в том, что в них не было гибкости, способности примениться к новым условиям жизни – как не было ее в покойной мисс Гослинг, которая предпочла умереть, раз нельзя жить в Вистерии-Грове. Такие типы, вообще, живучестью не отличаются: дерево растет, утратившие гибкость сухие ветки отпадают. И в Марлоу самосознание общины быстро росло. Большинство женщин, сознательно или бессознательно укреплялись в убеждении, что они должны работать совместно и друг для друга. История с дженкинитками послужила комитету хорошим уроком.
Пока между членами комитета шли пререкания и споры, мисс Айзаксон оставалась на свободе. Комитет не стремился наказать ее: он хотел только избавить общину от нежелательного члена и объявить ко всеобщему сведению, что точно также будет извергнута и всякая другая, оказавшаяся в тягость для общины. Дженкинитки же не хотели и не могли принять такого довода. У них были свои определения простительных и непростительных грехов, основанные на прецедентах прошлого, и грех Милли они считали тяжким, а Ребекке Айзаксон готовы были отпустить ее проступок. С их точки зрения тут не о чем было даже и спорить. На их стороне были закон и пророки, и в их глазах изменившиеся условия жизни не должны были влиять на нравственность – что было истиной, то и останется истиной и навсегда. Случись это в горячую рабочую пору, может быть, это и не вызвало бы такой сенсации. Но работы как раз было не очень много, и женщины с увлечением схватились за новую тему споров и обсуждений И от разговоров мало-по-помалуперешли к делу. На общем собрании в Ратуше поднят был вопрос об исключении из общины не только мисс Айзаксон, но и всех семнадцати дженкиниток. Предполагалось, что наиболее рьяные их последовательницы уйдут сами вслед за ними. И община ответила на этот вопрос утвердительно.
Дженкинитки приняли это решение, как подобает мученицам за правое дело. Они объявили, что охотно покинут этот город, проклятый Богом, и отрясут прах от ног своих – термины они употребляли всегда библейские, хотя на дорогах в эту пору была глубокая грязь, а не пыль. И пойдут проповедовать возрождение мира, укрепляемые своей любовью к истине и рвением о Господе.
Одна только мисс Айзаксон запротестовала было, но они и ее потащили за собой.
Они ушли в дождь, всего тридцать девять числом, полные энтузиазма и сознания своей правоты. Правда, неприятна была мысль, что раскол вышел непосредственно из-за кражи чаю, но, все же, это было мученичество, и они шли с гордо поднятыми головами, распевая: «Слава! Слава»!



