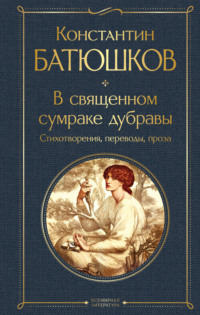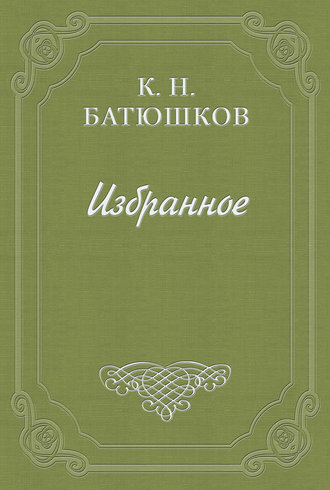 полная версия
полная версияОпыты в стихах и прозе. Часть 1. Проза
Я хотел отдохнуть, и мы сели на одну из лавок бульвара. Площадь была покрыта каретами, бульвар – гуляющими. Между тем как я рассматривал знакомые и незнакомые лица, некто, человек пожилой и хворой, присел на лавку возле меня. – Черты его мне были знакомы, но время изгладило из моей памяти его имя. Знакомый незнакомец глядел на меня пристально, минуту, две, три… и наконец – я узнал в нем Старожилова. «Как ты переменился!» – воскликнули мы оба, глядя пристально друг на друга. «Как все переменилось с тех пор, как я тебя видел здесь!» – прибавил Старожилов с тяжелым вздохом, от которого морщины на его лбу сделались еще глубже. Я не стану тебе говорить о вопросах, которые мы делали взапуски друг другу: можешь их легко угадать; скажу только, что наш старый знакомый, узнав намерение наше посетить Академию, взглянул на часы и сказал мне: «Теперь еще рано; к трем часам я могу поспеть в клуб, где я должен пробовать новое вино и сказать мое мнение насчет важного постановления в клубе, о котором я размышлял целое утро». Важность, с которою он говорил, заставила нас улыбнуться. К счастию, Старожилов того не приметил и продолжал: «Прогулка мне будет полезна; ибо сегодня солнце греет, как летом. Я побреду с вами в Академию – вовсе не из любопытства; там ничего хорошего нет. Я давно недоволен нашими художниками во всех родах – но мне нужно рассеяние, единственно рассеяние!» – прибавил он, кашляя беспрестанно.
Между тем как мы идем медленными шагами в Академию, соображаясь с походкою подагрика, я скажу тебе мимоходом, что Старожилов, которого мы знали в молодости нашей столь блестящего, столь веселого, столь рассеянного, ныне сделался брюзгою, недовольным, одним словом, совершенным образцом старого холостого человека. Ты помнишь, что в молодости он имел живой ум, некоторые познания и большой навык в свете. Ныне цвет ума его завял, прежняя живость исчезла, познания, не усовершенные беспрестанными трудами, изгладились или превратились в закоренелые предрассудки, и все остроумие его погибло, как блестящий фейерверк. Конечно, рассудок забыл шепнуть ему: старайся быть полезен обществу! Недеятельная жизнь, говорит мудрец херонейский, расслабляет тело и душу. Стоячая вода гниет; способности человека в бездействии увядают, и за молодостию невидимо крадется время:
Прийдут, прийдут часы те скучны,Когда твои ланиты тучныПрестанут грации трепать!Тогда общество справедливою холодностию отметит тебе за то, что ты был его бесплодным членом. Старожилов, проживший вертопрахом до некоторого времени, проснулся в сорок лет стариком, с подагрою, с полурасстроенным имением, без друга, без привязанностей сердечных, которые составляют и мучение, и сладость жизни; он проснулся с душевною пустотою, которая превратилась в эгоизм и мелочное самолюбие. Ему все наскучило, он всем недоволен: в его время и лучше веселились, и лучше говорили, и лучше писали. Трагедии Княжнина, по его мнению, лучше трагедий Озерова; басни Сумарокова предпочитает он басням Крылова, игру Сахаровой игре Семеновой и так далее. «Как скучна нынешняя жизнь!» – говорит он; и этому поверить можно. Зачем, спрашиваю я, зачем постоянно десять лет является он в клуб? Чтобы слушать, изобретать или распускать городские вести или газетные тайны, чтобы бранить нещадно все новое и прославлять любезную старину, отобедать и заснуть за чашкою кофе при стуке шаров и при единообразном счете маркера, который, насчитав 48, ненавистным числом напоминает ему его лета. Сонный садится он в карету и едва просыпается в театре при первом ударе смычка.
Разговаривая с ним о старине, которую я выхвалял из снисхождения, мы приближались к Академии.
Я долго любовался сим зданием, достойным Екатерины, покровительницы наук и художеств. Здесь на каждом шагу просвещенный патриот должен благословлять память монархини, которая не столько завоеваниями, сколько полезными заведениями заслуживает от признательного потомства имя великой и мудрой. Сколько полезных людей приобрело общество чрез Академию Художеств! Редкое заведение у нас в России принесло столько пользы. Но чему приписать это? Постоянному и мудрому плану, которому следует с давнего времени начальство, и достойному выбору вельмож деятельных и просвещенных на место президентское. Я стар уже; но при мысли о полезном деле или учреждении для общества чувствую, что сердце мое бьется живее, как у юноши, который не утратил еще прелестной способности чувствовать красоту истинно полезного и предается первому движению благородной души своей. Вступая на лестницу, я готов был хвалить с жаром монархиню и некоторых вельмож, покровителей отечественных муз; но докучный Старожилов воскликнул, с трудом переводя дух и отдыхая на первых ступенях: «Боже мой! какая крутая лестница! и как она узка, и как безобразна! – И к чему эта Венера с амазонками? Я никогда не был охотник до гипсов; лучше ничего или все – вот мое правило. Здесь надлежало бы поставить что-нибудь свое, произведение наших художников и пр. и пр.». – Толпа у дверей не позволила ему окончить своего критического замечания, и мы остановились, весьма кстати, у двух превеликих сатиров, называемых теламонами или атлантами (мужеские кариатиды). «Вот украшение довольно странное, – заметил молодой художник, – и которое новейшие художники употребляли часто некстати, а более всего в Париже. Женские кариатиды еще безобразнее мужских. Можно ли видеть без отвращения прекрасную женщину, страдающую под тягостным бременем и с необыкновенным усилием во всех членах и мускулах поддерживающую целое здание или огромную часть оного? Одно жестокое сердце может любить такого рода изображения, и затем-то, может быть, французские артисты, тайно угождая вкусу Наполеона, ставили кариатиды везде, где только можно было. В некоторых его замках каждую дверь поддерживают две страдалицы. В самом Музеуме их множество. Здесь же сии кариатиды приличны; ибо могут служить образцами любопытным молодым художникам».
Мы вошли в ротонду, установленную гипсовыми слепками с антиков. «Вот консул Бальбус, – сказал мне наш спутник, указывая на большого всадника. – Подлинник статуи найден в Геркулануме». – «Но эта лошадь вовсе не красива…» – заметил Старожилов молодому артисту, качая головою.
«Вы правы, – отвечал он, – конь не весьма статен, короток, высок в ногах, шея толстая, голова с выпуклыми щеками, поворот ушей неприятный. То же самое заметите в другой зале у славного коня Марка Аврелия. Художники новейшие с большим искусством изображают коней. У нас перед глазами Фальконетово произведение, сей чудесный конь, живый, пламенный, статный и столь смело поставленный, что один иностранец, пораженный смелостию мысли, сказал мне, указывая на коня Фальконетова: – Он скачет, как Россия! – Но я не смею мыслить вслух о коне Бальбуса, боясь, чтобы меня не подслушали некоторые упрямые любители древности. Вы себе представить не можете, что теряет в их мнении молодой художник, свободно мыслящий о некоторых условных красотах в изящных художествах… Пойдемте далее».
Мы вошли в другую залу, где находятся слепки с неподражаемых произведений резца у греков и римлян. Прекрасное наследие древности, драгоценные остатки, которые яснее всех историков свидетельствуют о просвещении древних; в них-то искусство есть, так сказать, отголосок глубоких познаний природы, страстей и человеческого сердца. Какое истинное богатство, какое разнообразие! Здесь Вы видите Геркулеса Фарнезского, образец силы душевной и телесной. Вот умирающий боец или варвар; вот комический поэт и бесподобный фавн. Здесь прекрасные группы: Лаокоон с детьми – драматическое творение резца неизвестного! Вот Ария и Петус и семейство несчастной Ниобы. Здесь вы видите Венеру, образец всего красивейшего, одним словом: Венеру Медицис. Вот целый ряд колоссальных бюстов Юпитера Олимпийского,
Кто манием бровей колеблет неба свод,Юноны, Менелая, Аякса, Кесаря и пр. И наконец, я спрашиваю себя, отчего сердце мое забилось сильнее?
Наполнил грудь восторг священный,Благоговейный обнял страх,Приятный ужас потаенныйТечет во всех моих костях;В веселье сердце утопает,Как будто Бога ощущает,Присутствующего со мной!..Я вижу, вижу АполлонаВ тот миг, как он сразил ПифонаБожественной своей стрелой!Зубчата молния сверкает,Звенит в руке спущенный лук,Ужасная змия зияетИ вмиг свой испускает дух.Вот сей божественный Аполлон, прекрасный бог стихотворцев! Взирая на сие чудесное произведение искусства, я вспоминаю слова Винкельмана. «Я забываю вселенную, – говорит он, – взирая на Аполлона; я сам принимаю благороднейшую осанку, чтобы достойнее созерцать его». – Имея столь прекрасного бога покровителем, мудрено ли, спрашиваю вас, мудрено ли, что один из наших поэтов воскликнул однажды в припадке пиитической гордости:
Я с возвышенною везде хожу главой!«Вот наши сокровища, – сказал художник Н., указывая на Аполлона и другие антики, – вот источник наших дарований, наших познаний, истинное богатство нашей Академии; богатство, на котором основаны все успехи бывших, нынешних и будущих воспитанников. Отнимите у нас это драгоценное собрание и скажите, какие бы мы сделали успехи в живописи и в ваянии? Надобно желать, чтоб оно еще было удвоено, утроено. Здесь многого недостает; но то, что есть, прекрасно: ибо слепки верны и могут удовлетворить самого строгого наблюдателя древности».
Пройдя две небольшие залы, мы увидели толпу зрителей перед большою картиною. Вот новая картина г. Егорова! Одно имя сего почтенного академика возбуждает твое любопытство… Итак, я перескажу от слова до слова суждение о его новой картине, то есть то, что я слушал в глубоком молчании.
«Подойдемте поближе, – сказал Старожилов, надевая с комическою важностию очки свои. – Я немного наслышался об этом художнике».
Художник изобразил истязание Христа в темнице.
Четыре фигуры выше человеческого роста. Главная из Них – спаситель перед каменным столпом с связанными назад руками и три мучителя, из которых один прикрепляет веревку к столпу, другой снимает ризы, покрывающие искупителя, и в одной руке держит пук розог; третий воин… кажется, делает упреки божественному страдальцу; но решительно определить намерение артиста весьма трудно, хотя он и старался дать сильное выражение лицу воина, – может быть, для противуположности с фигурою Христа.
«Посмотрите, – сказал нам молодой художник, – как туловище Христа нарисовано правильно, просто и благородно. Кажется, что глубокий вздох готов вырваться из подъятой груди его». – «Но лицо не соответствует красоте всего тела, – возразил Старожилов: – признайтесь сами, что глаза его слишком велики; в них нет ничего божественного». – «Я с вами не совсем согласен: положение головы прекрасно, и в лице вы видите сильное выражение страдания, горести и покорности воле отца небесного». – «К сожалению, эта фигура напоминает изображение Христа у других живописцев, и я напрасно ищу во всей картине оригинальности, чего-то нового, необыкновенного, одним словом, своей мысли, а не чужой». – «Вы правы, хотя не совершенно: этот предмет был написан несколько раз. Но какая в том нужда? Рубенс и Пуссень каждый писали его по-своему, и если картина Егорова уступает Пуссеневой, то конечно выше картины Рубенсовой…» – «Как, что нужды? Пуссень и Рубенс писали истязание Христово: тем я строже буду судить художника, тем я буду прихотливее. Если б какой-нибудь, впрочем, и весьма искусный живописец, вздумал написать картину Преображения, я сказал бы ему: конечно, вы не видали картины Рафаэлевой? Если б поэт вздумал написать нам Ифигению в Авлиде, я сказал бы ему: ее написал Расин прежде тебя; и так далее». – «Но признайтесь, по крайней мере, что мучитель, прикрепляющий веревку, которою связаны руки Христа, написан прекрасно, правильно и может назваться образцом рисунка. Он ясно доказывает, сколько г. Егоров силен в рисунке, сколько ему известна анатомия человеческого тела. Вот оригинальность нашего живописца!» – «Это все справедливо; но к чему усилие сего человека? Чтобы затянуть узел? Я вижу, что живописец хотел написать академическую фигуру и написал ее прекрасно; но я не одних побежденных трудностей ищу в картине. Я ищу в ней более: я ищу в ней пищи для ума, для сердца; желаю, чтоб она сделала на меня сильное впечатление; чтоб она оставила в сердце моем продолжительное воспоминание, подобно прекрасному драматическому представлению, если изображает предмет важный, трогательный. К тому же согласитесь, что другой мучитель поставлен дурно. А воин?., он вовсе лишний, он ни на кого не глядит… хотя глаза его отверсты необыкновенным образом. К чему, спрашиваю вас, на римском воине шлем с змеем и почему в темнице Христовой лежит железная рукавица? Их начали употреблять десять веков – или более – после рождества Христова; не значит ли это…»
«Конечно так! – сказал Старожилову какой-то незнакомец, который долго вслушивался в разговор (мы приняли его за художника), – конечно так! Если художники наши будут более читать и рассматривать прилежнее книги, в которых представлены обряды, одежды и вооружение древних, то подобных анахронизмов делать не будут. Но признайтесь, государь мой, признайтесь, отложа всякое пристрастие, что эта картина обещает дальнейшие успехи. Если обстоятельства, которые часто не благоприятствовали нашим артистам, если обстоятельства позволят ее живописцу заниматься постоянно сочинением больших картин, то можно ожидать, что он, утвердясь в выборе, в употреблении и согласовании красок и познакомясь со многими механическими приемами (тайны, которые должен угадывать художник в живописном деле), при твердой, правильной и красивой его рисовке, при изобретательном и благоразумном даровании, со временем не уступит лучшим живописцам италиянской, французской и испанской школы».
Будучи от природы снисходительнее и любя наслаждаться всем прекрасным, я с большим удовольствием смотрел на картину г. Егорова и сказал мысленно: «Вот художник, который приносит честь Академии и которым мы, русские, можем справедливо гордиться».
В следующих комнатах продолжались выставки, и по большей части молодых воспитанников Академии. Я смотрел с любопытством на ландшафт, изображающий вид окрестностей Шафгаузена и хижину, в которой государь император с великою княгинею Екатериною Павловною угощены новым Филемоном и Бавкидою. Вдали видно падение Рейна, не весьма удачно написанное.
В той же самой комнате проект на соборную церковь и два проекта для монумента из отнятых у неприятеля пушек: оба не соответствуют прекрасной и высокой мысли. Вот празднование Пасхи в Париже Александром и его победоносными войсками. Какой предмет для патриота! С каким чистейшим удовольствием смотрел я на эту картину! Толпы народа и войска представлены ясно; но я заметил, что цвет неба и облаков холоден и тяжел.
Множество зрителей всякого звания толпились перед большою картиною, изображающею Христа с учениками и блудницею. Одни хвалили с жаром, другие осуждали. De gustibus non est disputandum[15]. «Видно, что живописец, – сказал нам молодой наш путеводитель, – живописец, скупый на искусство и вкус, не пощадил полотна, розовой и голубой краски». – «И времени», – прибавил Старожилов. Вы видите здесь и другую картину – Венеру розовую, на голубом поле, с голубками и с Купидоном; неудачное подражание Тициану или китайским картинам без теней; Венеру, которая не имеет ни малейшего сходства с Венерою Омера, Овидия или Лукреция, но живым образом напоминает нам какую-нибудь богиню из шуточной поэмы Майкова или из «Энеиды, вывороченной наизнанку». Вы видите там, на другой стене, триумф государя, наподобие Рубенса. Теперь взгляните на этого больного старика с факелом, подражание Жирару де ла Нотте, и признайтесь, что эти живописцы в своем подражании оригинальны. Они-то могут назваться со временем основателями новой италиянской школы, la Scuola Petro-borghese[16] и затмить своею чудесною кистию славу своих соотечественников – славу Рафаэля, Кореджио, Тициана, Альбана и проч.
Пускай глаза наши, ослепленные яркими красками сих живописей, на которых Ньютон мог бы открыть все преломления луча солнечного, пускай глаза наши отдохнут на произведении г. Есакова. Вот его резные камни: один изображает Геркулеса, бросающего Иоласа в море, другой – киевлянина, переплывшего Днепр. Большая твердость в рисунке! – Пожелаем искусному художнику[17] более навыка, без которого нет легкости и свободы в отделке мелких частей. Смелости у него довольно, а знаний?.. «Век живи, век учись, – сказал Старожилов. – Согласитесь однако же, – шепнул он молодому художнику, – согласитесь, что кроме картины Егорова мы ничего еще не видели совершенного или близкого к совершенству».
«Может быть! – отвечал он, – но прошу вас взглянуть на рисунок Уткина. Этот превосходный рисунок, как вы видите, изображает святую фамилию с Гвидо Рени. Другой рисунок – портрет князя Александра Борисовича Куракина, и с него гравированный портрет сего вельможи». – «Вот истинное искусство!» – сказал Старожилов, изменяя своему прекрасному правилу: Nil admirari[18]. Г. Уткин, известный и уважаемый в Париже, может стать наряду с лучшими граверами в Европе. Конечно, и в отечестве своем найдет он людей просвещенных, достойных ценителей его редкого таланта!»
Но с каким удовольствием смотрели мы на портреты г. Кипренского, любимого живописца нашей публики. Правильная и необыкновенная приятность в его рисунке, свежесть, согласие и живость красок – все доказывает его дарование, ум и вкус нежный, образованный{2}.
Старожилов, к удивлению нашему, пленился мастерскою его кистью и, отрыв в своей памяти два италиянские стиха, сказал их с необыкновенною живостию…
Manca il parlar di vivo altro non chiedi.Ne manca questo ancor s a gli occhi credi.[19]«Видите ли, – продолжал он, – видите ли, как образуются наши живописцы? Скажите, что б был г. Кипренский, если б он не ездил в Париж, если бы…» – «Он не был еще в Париже, ни в Риме», – отвечал ему художник. – «Это удивительно! удивительно!» – повторил Старожилов. – «Почему? Разве нет образцов и здесь для портретного живописца? Разве Эрмитаж закрыт для любопытного, а особенно для художника? Разве не позволяется художнику списывать там портреты с Вандика, пейзажисту учиться над богатым собранием картин, единственных в своем роде? Или вы думаете, что нужен непременно воздух римский для артиста, для любителя древности; что ему нужно долговременное пребывание в Париже? В Париже? – согласен; но сколько дарований погибло в этой столице? Рассеяние, все прелести света не только препятствовали развитию дарования, но губили его навеки». «Вот московские виды», – сказал молодой художник, указывая на картины, изображающие Каменный мост, Кремль и пр. с большою истиною и искусством. Какие воспоминания для московского жителя! Рассматривая живопись, я погрузился в сладостное мечтание и готов был воскликнуть почти то же, что Эней у Гелена, в долинах Хаонейских, где все чудесным образом напоминало изгнаннику его священную Трою, рощи, луга и источники родины незабвенной[20]; я готов был сказать моим товарищам:
Что матушки Москвы и краше и милее?
Но Старожилов рассеял воспоминание о древней белокаменной столице громким и беспрерывным смехом, рассматривая чудесные мозаики, в той же комнате выставленные. – Я взглянул на него с негодованием, пожал плечами и пошел в другую комнату, где ожидал нас портрет покойного гр<афа> А. С. Строганова, писанный г. Варником. Вокруг него мы нашли толпу зрителей: одни хвалили смелость кисти, отделку платья, белого глазета и весь рисунок картины; другие, напротив того, утверждали, что краски вообще тусклы, отделка груба, нетщательна и пр. и пр. и пр.; а я восхищался удивительным сходством лица.
«Так это он! точно он! – сказал какой-то пожилой человек нашему путеводителю. – Эта прекрасная картина г. Варника возбуждает в моей памяти тысячу горестных и сладких воспоминаний! Она живо представляет лице покойного графа, сего просвещенного покровителя и друга наук и художеств, вельможу, которого мы будем всегда оплакивать, как дети – нежного и попечительного отца. Полезные советы, лестное одобрение знатока, редкое добродушие, истинный признак великой и прекрасной души, желание быть полезным каждому из нас, пламенная, но просвещенная любовь к отечеству, любовь ко всему, что может возвысить его славу и сияние: вот чем отличался почтенный президент нашей Академии, вот что мы будем вспоминать со слезами вечной признательности и что искусная кисть г. Варника столь живо напоминает всем академикам, которые имели счастие пользоваться покровительством любезнейшего и добрейшего из людей. Черты, незабвенные черты нашего мецената будут нам всегда драгоценны!»
Художник говорил с большим жаром, и слезы навернулись на его глазах. Я был вне себя от радости; ибо я разделял вполне его чувства. Сам Старожилов был тронут и долго стоял в молчании пред почтенным ликом почтенного старца, престарелого Нестора искусств, истинного образца людей государственных; вельможи, который доказал красноречивым примером целой жизни, что вышний сан заимствует прочное сияние не от богатства и почестей наружных, но от истинного, неотъемлемого достоинства души, ума и сердца.
Долго сладкое впечатление оставалось в моей душе, и я, занятый разговором почтенного художника, прошел без внимания мимо некоторых картин ученической работы иностранцев, которые на сей раз, как будто нарочно, согласились уступить бесспорно преимущество нашим художникам, выстави безобразные и уродливые произведения своей кисти. Мы остановились у подножия Актеона (изобретения г. Мартоса), большой статуи, отлитой для гр<афа> Н. П. Румянцева г. Екимовым: прекрасное произведение русских художников! «Заметьте, – сказал нам услужливый путеводитель наш, – заметьте, что литейное искусство сделало большой шаг в России, под руководством г. Екимова»[21].
Картина г. Куртеля: «Спартанец при Фермопилах» привлекла наше внимание. Прекрасный юноша, сразившийся за свободу Греции, умирает один, без помощи, без друга, в местах пустынных. Кровавый долг Спарте отдан, оружие избито, кровь пролита ручьями из ран глубоких и смертельных, и последние минуты убегающей жизни принадлежат ему: последние взоры, исполненные страдания и любви, устремлены на медальон, изображающий черты ему любезные. «Вот прекрасная мысль, – сказал я моим товарищам, – и выраженная мастерскою кистию». Но они заметили, и справедливо, что в фигуре нет ни соразмерности, ни согласия. «Это туловище небольшого фавна, приставленное к ногам Боргезского борца, – сказал молодой художник. – Конечно, много истины в выражении лица и мертвенности других членов; но, признаюсь вам, я неохотно смотрю на подобные сему изображения! И можно ли смотреть спокойно на картины Давида и школы, им образованной, которая напоминает нам одни ужасы революции: терзание умирающих насильственною смертию, оцепенение глаз, трепещущие, побледнелые уста, глубокие раны, судороги – одним словом, ужасную победу смерти над жизнию. Согласен с вами, что это представлено с большою живостию; но эта самая истина отвратительна, как некоторые истины, из природы почерпнутые, которые не могут быть приняты в картине, в статуе, в поэме и на театре».
Разговаривая таким образом, мы оставили Академию. Если мое письмо не наскучило пустыннику, то я сообщу тебе продолжение нашей прогулки и разговора о художествах. Прости до первой почты.
N. N.P. S. На третий день моей прогулки в Академию я кончил мое письмо к тебе и готов был его запечатать, как вдруг мне пришла на ум следующая мысль: если кто-нибудь прочитает то, что я сообщал приятелю в откровенной беседе?.. «Что нужды! – отвечал молодой художник Н., которому я прочитал мое письмо. – Что нужды? Разве вы обидели кого-нибудь из художников, достойных уважения? Выставя картину для глаз целого города, разве художник не подвергает себя похвале и критике добровольно? Один маляр гневается за суждение знатока или любителя; истинный талант не страшится критики: напротив того, он любит ее, он уважает ее, как истинную, единственную путеводительницу к совершенству. Знаете ли, что убивает дарование, особливо если оно досталось в удел человеку без твердого характера? Хладнокровие общества: оно ужаснее всего! Какие сокровища могут заменить лестное одобрение людей чувствительных к прелестям искусств! Один богатый невежда заказал картину моему приятелю; картина была написана, и художник получил кучу золота… Поверите ли, он был в отчаянии». – «Ты недоволен платою?» – спросил я. – «О нет! я награжден слишком щедро!» – «Что же огорчает тебя?» – «Ах, любезный друг, моя картина досталась невежде и сгниет в его кабинете: что мне в золоте без славы! – В Париже художники знают свою выгоду. Они живут в тесной связи с писателями, которые за них сражаются с журналистами, с знатоками и любителями, и проливают за них источники чернил. Две, три недели, часто месяц занимают они публику после первого выставления картин». – «Это все справедливо; но я мог ошибаться». – «Что нужды, если без намерения!» – «Но я употребил в моем письме новые выражения, например: механический прием (в живописном деле), желая изъяснить то, что французы называют le faire[22] и боюсь…» – «Пускай другие переведут лучше, исправнее; у нас еще не было своего Менгса, который открыл бы нам тайны своего искусства и к искусству живописи присоединил другое, столь же трудное: искусство изъяснять свои мысли. У нас не было Винкельмана… Но запечатайте, запечатайте письмо: его никто не прочитает!» – повторял художник с хитрою улыбкою. И его слова успокоили меня, хотя не совершенно. Признаюсь тебе, любезный друг, я боюсь огорчить наших художников, которые нередко до того простирают ревность к своей славе, что малейшую критику, самую умеренную, самую осторожную, почитают личным оскорблением.