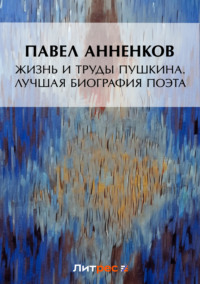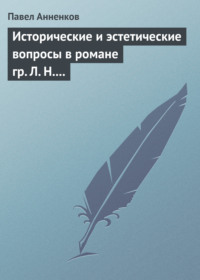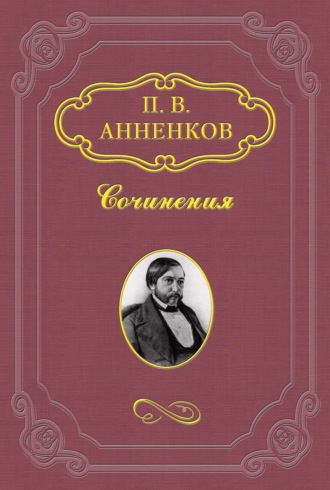 полная версия
полная версияМатериалы для биографии А. С. Пушкина
сумасшествие Марии и визг ее непристойны: «эдак говорят только об обваренных собаках», и в заключение Пахом Силыч определяет музу Пушкина[184]: «Ето есть, по моему мнению, резвая шалунья, для которой весь мир ни в копейку; ея стихия пересмехать все худое и хорошее… не из злости или презрения, а просто из охоты позубоскалить. Ето то сообщает особую физиономию поэтическому направлению Пушкина, отличающему оное решительно от Байроновой мизантрофии и от Жан-Полева юморизма. Поэзия Пушкина есть просто пародия…» и проч. и проч. Как будто устыдясь приговора своего, критик на следующий год, при разборе 7 главы «Онегина» («Вестник Европы», 1830, № 7) смягчает его, уделяя Пушкину славу Скаррона, Пиррона, Верни, Аретина и находя, что из-под его кисти выпадают нередко если не картины, то картинки, на которые нельзя не насмотреться. Он сызнова переделывает мнение о музе Пушкина и переходит только к другой странности: «В одном «Онегине» только, – говорит он, – после «Руслана и Людмилы» вижу я талант Пушкина на своем месте… в своей тарелке. Ему не дано видеть и изображать природу поэтически, с лицевой ее стороны, под прямым углом зрения: он может только мастерски выворачивать ее наизнанку. Следовательно, он не может нигде блистать, как только в арабесках. «Руслан и Людмила» представляет прекрасную галерею физических арабесков; «Е. Онегин» есть арабеск мира нравственного». И вся эта непрерывная цепь заблуждений, все это изворотливое, хотя и не совсем ловкое искание дела, произошло от недостатка художнического чувства и от мысли заменить живую поэзию представлениями философско-эфического рода!
Таковы были статьи «Вестн<ика> Европы», резкий тон которых был нов для слуха и оскорбителен вообще для поэта. Вскоре нашлись и подражатели молодому критику. Спустя несколько времени одна газета представила разбор VII главы «Онегина», написанный как будто под влиянием решимости, оказанной «Вестником Европы». Разбор («Северная пчела», 1830, №№ 35 и 39) объявлял совершенное падение Творца «Руслана», новую главу романа – пустословием, предметы описаний – низкими, стихи – прозаическими и непонятно модными, но этот разбор уже не заслуживает подробного изложения{347}. Образец его выражал литературное мнение и ошибочную теорию творчества (вот почему мы и остановились на нем); подражание выражает только произвол и уже не имеет корня ни в каком вопросе науки или искусства. Долго не мог Пушкин вполне постигнуть свое положение в литературном мире. Как человек, открывавший новый и обширный горизонт искусства на Руси, он должен был поднять против себя много возражений и вражды и считать их естественным следствием, необходимостию своего призвания; но они волновали и сердили его. Только с 1832 года видит он свое место и назначение, умолкает для всех толков и распрей; но уже от горького чувства, оставленного ему журналистикой и пересудами публики, избавиться не может. Чувство это таится в нем, несмотря на молчание и наружное спокойствие, которым он обрек себя. Часто является оно невольно в дружеской переписке. Так, в 1831 году, на уведомление одного из своих приятелей о новом появившемся разборе его «Годунова», он отвечает: «Ты пишешь мне о каком-то критическом разговоре, которого я еще не читал. Если бы ты читал наши журналы, то увидел бы, что все, что называется у нас критикой, одинаково (глупо и) смешно. С моей стороны я отступился; возражать серьезно невозможно, а плясать перед публикою не намерен… 21 июля 1831»{348}. Три года спустя, именно в апреле 1834 <г.>, он повторяет ту же мысль в другом письме: «Вообще пишу много про себя, а печатаю поневоле и единственно для денег: охота являться перед людьми, которые вас не понимают, чтобы… ругали вас потом шесть месяцев в журналах. Было время – литература была благородное, аристократическое поприще. Нынче это иначе. Быть так»{349}.
При выходе в свет «Полтава» снабжена была замечательным предисловием, сохраненным в нашем издании, и красовалась эпиграфом из Байрона, напечатанным, однако ж, с ошибкой во втором стихе, что лишило его смысла (см. примечания к «Полтаве»)[185].
Глава XVII
Осень 1828 г., зима 1829 г. и отъезд на Кавказ: Отъезд из С.-Петербурга в Маленники, деревню гг. Вульфов тотчас по окончании «Полтавы». – Посвящение поэмы, неизданные стихи «Я думал, сердце позабыт…». – В ноябре 1828 г. кончена последняя строфа «Онегина», тогда же «Анчар». – Мысли Пушкина становятся светлее и покойнее. – «Ответ Катенину», «Ответ Готовцевой», «Послание к Великопольскому», значение всех этих стихотворений. – Письмо к Дельвигу с анекдотом о сахарном Пушкине. – Письмо о деревенской жизни. – Возвращение в Петербург, утомление и нравственная усталость овладевают Пушкиным снова. – Мысль о «Годунове» и предисловии к нему.
Окончив «Полтаву», Пушкин тотчас же уехал из Петербурга, и притом в ясном состоянии духа, а 27 октября был уже в Тверской губернии, в деревне Маленники, принадлежавшей соседям Пушкина по Михайловскому – владетелям Тригорского. В этот день написано там посвящение поэмы:
Тебе… но голос музы тайнойКоснется ль слуха твоего? и проч.– с эпиграфом: «I love this sweet name» (люблю это нежное имя)[186].
4 ноября 1828 г. окончена там же последняя шуточная строфа VII главы «Онегина»; 9 ноября написан «Анчар»; за ним (10 ноября) «Ответ Катенину», о котором уже говорили; лотом «Ответ Готовцевой», в весьма милых стихах упрекавшей Пушкина (см. «Северные цветы» на 1829 г.) в непонимании женского достоинства, поводам к чему послужил, вероятно, отрывок из «Ев<гения> Онегина», напечатанный в «Московском вестнике» (1827, № XX) под названием «Женщины»{350}, а может быть, и несколько строк в «Мыслях и заметках» Пушкина 1828 г. Ранее «Ответа Катенину» написано и веселое «Послание к В<еликопольскому>, сочинителю «Сатиры на игроков», послание, не попавшее в полное собрание сочинений нашего автора, но напечатанное в «Северной пчеле» (1828 г., № 9){351}, с выноской издателей: «Имени сочинителя сих стихов не подписываем: ex ungue leonem»[187].
В поименованных произведениях нет и следов нравственного беспокойства, какие отличают его произведения, писанные весной и летом: они ясны и спокойны. В дружеской переписке с Дельвигом, посылая ему свои стихотворения, Пушкин беззаботно шутит и рассказывает детский анекдот с удовольствием человека, готового веселиться при малейшем поводе: «Вот тебе в «Цветы» ответ Катенину вместо ответа Готовцевой, который не готов. Я совершенно разучился любезничать. Не знаю, долго ли останусь в здешнем краю. Жду ответа от Баратынского. К новому году, вероятно, явлюсь к вам, в Чухляндию. Здесь мне очень весело. П<расковью> А<лександровну> я люблю душевно – жаль, что она хворает и не беспокоится. Соседи ездят смотреть на меня, как на собаку Мунито{352} – скажи это графу Х<востову>. П<етр> М<аркович>{353} здесь повеселел и уморительно мил. На днях было сборище у одного соседа, я должен был туда приехать. Дети его родственницы, балованные ребятишки, хотели непременно туда же ехать. Мать принесла им изюму и черносливу и думала тихонько от них убраться, но П<етр> М<аркович> их взбудоражил. Он к ним прибежал: дети, дети! мать вас обманывает; не ешьте черносливу, поезжайте с нею. Там будет Пушкин – он весь сахарный… его разрежут, и всем вам будет по кусочку. Дети разревелись: не хотим чернослива, хотим Пушкина. Нечего делать, их повезли, и они сбежались ко мне, облизываясь, но увидев, что я не сахарный, а кожаный, – совсем опешили… Я толстею и поправляюсь в моем здоровье…» и проч.{354}.
В другом письме, следовавшем вскоре за этим, он повторяет, что весело ему и даже, противореча прежним своим признаниям, прибавляет, что душевно любит деревенскую жизнь. «Вот тебе ответ Готовцевой… Как ты находишь ces petits vers froids et coulants?..[188] Правда ли, что ты едешь зарыться в смоленской крупе?{355} Видишь, какую ты кашу наварил. Посылаешь меня за Баратынским, а сам и драла. Что мне с тобой делать? Здесь мне очень весело, ибо я деревенскую жизнь очень люблю. Здесь думают, что я приехал набирать строфы в «Онегина», и стращают мною ребят, как букою. А я езжу на пароме и играю в вист по 8 гривен роббер… Скажи это нашим… – я приеду к ним. Полно. Я что-то сегодня с тобою разоврался.
26 Ноября 1828.
Что «Илиада» и что Гнедич?»
К новому 1829 году Пушкин явился в Петербург{356}, но здесь опять покидает его то расположение духа, в каком видим его в деревне. Через два месяца по приезде утомление и какая-то нравственная усталость снова нападают на Пушкина. Он начинает томиться жаждой физической деятельности, которая всегда являлась у него, как верный признак отсутствия деятельности духовной. Единственной я постоянной мыслию его делается уже в это время издание «Годунова». Он пишет тогда известные свои письма о нем и сильно занят планом и сущностью предисловия, которое кажется ему совершенно необходимо для объяснения хроники. Мысль эта занимает его круглый год и не покидает в самом Арзруме, как увидим. «Борис Годунов» явился, однако ж, только через год, к 1 января 1831 г.
Глава XVIII
«Путешествие в Арзрум» 1829 г. и кавказские стихотворения: Неожиданная поездка на Кавказ в марте 1829 г. – Пребывание в Москве в эту эпоху, жажда покоя. – 15 мая Пушкин в Георгиевске, – «Путешествие в Арзрум», эпоха его появления. – Причина путешествия, обстоятельства поездки в Тифлис и в действующую армию. – Мысли о «Годунове». – Возвратный путь, русский журнал в Владикавказе с разбором «Полтавы». – Пушкин был на возвратном пути на Горячих водах 8 сентября 1829 г., в начале: ноября в деревне, по свидетельству стихов «Зима, что делать нам в деревне…». – Стих<отворение> «Зимнее утро» с замечательной поправкой и другие. – Пушкин в Петербурге около 16 ноября, газетные известия о путешествии поэта. – Корреспонденция «Северной пчелы» по этому предмету. – Известие «Северной пчелы» о возвращении Пушкина в Петербург. – Стихи, писанные на Кавказе: «Дон», «Делибаш», «Монастырь» и проч.; их значение. – Появление кавказских стихотворений в печати. – Почему напечатаны они были не скоро и вразбивку. – Мысли, навеянные случаем и сохранившиеся в бумагах поэта. – Неизданные стихи «Был и я среди донцов…», «Критон, роскошный гражданин…», «Напрасно видишь тут ошибку…». – Поэтическая беседа с самим собой – «Зорю бьют – из рук моих…».
Пушкин вдруг весьма круто и неожиданно отрывается от общества и в марте 1829 г. уезжает из Петербурга на Кавказ, не испросив даже разрешения на поездку у кого следовало. В бумагах его сохранился только вид, данный ему от спб. почт-директора 4 марта 1829 г. на получение лошадей по подорожной, без задержания, до Тифлиса и обратно. Вид этот на обороте листа носит свидетельство, что был заявлен на Горячих Минеральных Водах уже 8 сентября того же года, на возвратном пути поэта.
В Москве останавливался он в это время большею частию у одного из самых коротких ему людей – П.В. Н<ащоки>на. Чрезвычайно любопытны рассказы последнего об образе жизни поэта нашего во время его приездов в Москву в последние годы его холостой жизни и во все продолжение женатой. Из слов П.В. Н<ащоки>на можно видеть, как изменились привычки Пушкина, как страсть к светским развлечениям, к разноречивому говору многолюдства смягчилась в нем потребностями своего угла и семейной жизни. Пушкин казался домоседом. Целые дни проводил он в кругу домашних своего друга, на диване, с трубкой во рту и прислушиваясь к простому разговору, в котором дела хозяйственного быта стояли часто на первом плане. Надобны были даже усилия со стороны заботливого друга его, чтоб заставить
Пушкина не прерывать своих знакомств, не скрываться от общества и выезжать. Пушкин следовал советам П.В. Н<ащоки>на нехотя: так уже нужда отдохновения начала превозмогать все другие склонности. Но в 1829 году наслаждения семейственности еще смутно представлялись ему. Цель была впереди, а запас страстей, еще не покоренный правильному течению жизни, утихал только на короткое время. Из дому Н<ащокин>а Пушкин выехал в Тифлис и 15 мая был уже в Георгиевске, где впервые начал известный свой журнал, приведенный в порядок только в 1835 году и напечатанный уже в «Современнике» 1836 года под заглавием «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года».
Несколько пояснительных слов к этому равно драгоценному и по содержанию, и по изложению своему документу не будут лишними. В черновой рукописи его Пушкин изъясняет первую причину своего путешествия следующим образом; «В 1829 году отправился я на Кавказ, лечиться на водах. Находясь в таком близком расстоянии от Тифлиса, мне захотелось туда съездить для свидания с некоторыми из моих приятелей и с братом, служившим тогда в Нижегородском драгунском полку. Приехав в Тифлис, я уже никого из них не нашел: армия выступила в поход. Желание видеть войну и сторону малоизвестную побудило меня просить позволения приехать в армию. Таким образом, видел я блестящую войну, конченную в несколько недель и увенчанную переходом через Саган-Лу и взятием Арзрума». Слова эти взяты из предисловия в то время, как уже Пушкин начал приводить журнал свой в порядок (1835). Журнал этот, как видели, начат был в Георгиевске; Александр Сергеевич возвратился к нему во второй раз в Владикавказе 22 мая. В июне, переехав Кавказ, он уже был в Тифлисе, где прожил около двух недель, ожидая позволения явиться в действующую против турок армию. Получив его, он тотчас же выехал и 13 июня прибыл в русский лагерь, расположенный за хребтами Саган-Лу, на берегу Карса-Чая. «Тифлисские ведомости» разноречат с этим показанием самого поэта, говоря, что он прибыл только 16-го июня в лагерь наш при Искан-Су: как бы то ни было, но с этого времени он разделял труды и походы армии, находился при разбитии сераскира{357} Арзрумского, при поражении Гаки-Паши и при взятии самого Арзрума 27 июня. Он был один во всем лагере в статском платье и довольно забавно писал в Москву, что солдаты величают его пастором, когда он проезжает мимо их верхом. 19 июля покинул он Арзрум, начертив в тот же самый день строки, выражавшие основную мысль, которую должно было развить будущее предисловие к «Борису Годунову». После долгих рассуждений с приятелями он опять еще пишет для себя в Арзруме: «С величайшим отвращением решаюсь я выдать в свет «Бориса Годунова». Успех или неудача моей трагедии будет иметь влияние на преобразование драматической нашей системы. Боюсь, чтоб собственные ее недостатки не замедлили хода…»{358} 1-го августа находим Пушкина снова в Тифлисе на возвратном пути в Россию; он выезжает оттуда 6-го августа, а 10-го нападает во Владикавказе на русский журнал, разбиравший его «Полтаву» в том духе, как мы показали{359}. Он с горечью замечает: «Таково было мне первое приветствие в любезном отечестве»{360}. 8-го сентября он уже находится на Горячих Минеральных Водах, по свидетельству почтамтского вида; в ноябре – в деревне, где 2-го ноября написано стихотворение «Зима! Что делать нам в деревне? Я встречаю…», между тем как «Дорожные жалобы» обозначены еще числом 4-го октября в рукописи и, если судить по первоначальному их заглавию «Дорожные стихи», может быть, писаны в повозке или на станции. В Петербург он является в половине ноября месяца[189].
В дополнение к этим заметкам да позволят нам привести несколько журнальных известий о путешествии поэта. Мы начнем прямо с местных «Тифлисских ведомостей», которые содержат довольно любопытные известия о пребывании поэта в столице Грузии. Вот что заключал в себе № 29 (28 июля 1829, пятница) «Тифлисских ведомостей»:
«Надежды наши исполнились. Пушкин посетил Грузию. Он недолго был в Тифлисе: желая видеть войну, он испросил дозволение находиться в походе при действующих войсках и 16 июня прибыл в лагерь при Искан-Су. Первоклассный поэт наш пребывание свое в разных краях России означил произведениями славного его пера: с Кавказа дал он нам «Кавказского пленника», в Крыму написал «Бахчисарайский фонтан», в Бессарабии – «Цыган», во внутренних провинциях писал он прелестные картины «Онегина». Теперь читающая публика наша соединяет самые приятные надежды с пребыванием А. Пушкина в стане кавказских войск и вопрошает: чем любимый поэт наш, свидетель кровавых битв, подарит нас из стана военного? Подобно Горацию, поручавшему друга своего опасной стихии моря, мы просим судьбу сохранить нашего поэта среди ужасов брани».
32<-й> № «Тифлисских ведомостей» (9 августа 1829) в том же тоне извещал о вторичном посещении Тифлиса Пушкиным:
«6 августа А. Пушкин, возвратившийся из Арзрума, выехал из Тифлиса к Кавказским минеральным водам. Любители изящного должны теперь ожидать прелестных подарков, коими гений Пушкина, возбужденный воспоминаниями о закавказском крае, без сомнения, наделит нашу литературу».
Корреспондент «Северной пчелы» писал ей из крепости Владикавказа от 10 августа («Северная пчела», № 110, 12 сентября 1829 года):
«Сего числа был здесь проездом А.С. Пушкин. Он приехал к нам из Арзрума и на другой день отправился далее с намерением побывать на Кавказских минеральных водах и потом отправиться чрез Моздок и Кизляр в Астрахань». (?)
Почти в одинаковом тоне и одинаковыми словами, как и «Тифлисские ведомости», извещала «Северная пчела» о приезде Пушкина в Петербург («Северная пчела», № 138, 16 ноября):
«А.С. Пушкин возвратился в здешнюю столицу из Арзрума. Он был на блистательном поприще побед и торжеств русского воинства, наслаждался зрелищем, любопытным для каждого, особенно для русского. Многие почитатели его музы надеются, что он обогатит нашу словесность каким-нибудь произведением, вдохновенным под тенью военных шатров, в виду неприступных гор и твердынь, на которых мощная рука эриванского героя{361} водрузила русские знамена».
Пушкин не обманул ожидания; он написал «Дон», «Делибаш» (7 сентября){362}, «Монастырь на Казбеке» (20 сентября). «Кавказ» (того ж числа и месяца), «Обвал» с французским пояснением заглавия в скобках: «Avalanche»[190] (29 октября) – все эти необычайно свежие и вместе смелые картины природы, составляющие драгоценные перлы описательной поэзии. Природа вообще отражалась удивительно полно и ясно в душе художника и на его произведениях. Он не ловил впечатлений ее с усилием, с боязнью недосмотреть или недосказать чего-либо. Картины природы у Пушкина немногословны, но всегда рождаются вместе с впечатлением и даже в стихах отражают характер каждого явления, возбудившего их. Стих пьесы «Дон» исполнен блеска и радости; он сжат и суров в «Обвале», мерен и торжественно спокоен в «Кавказе». Чудная песнь «Олегов щит» была патриотической песнью Пушкина, довершившей эту вдохновенную передачу впечатлений славной войны, гремевшей вокруг него; но довольно странно, что все эти произведения стали появляться уже спустя два года после своего создания, именно в 1831 году, и притом отдельно и в разных изданиях, как-то: в «Северных цветах», «Литературной газете» и «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду». Причину этой медленности и разрозненности появления должно преимущественно искать в самих воззваниях газет, какие сопровождали путешествие нашего поэта. Поэт сделал наперекор ожиданиям их. Он не терпел постороннего вмешательства в дело творчества, как мы уже знаем, и обращения газет к его музе производили на него неприятное впечатление. Он никак не мог понять, а еще менее допустить права распоряжаться его вдохновением, назначать предметы для труда и преследовать жизнь его таким образом до самых тайных ее помыслов и побуждений. Мысль эту перевел он, по обыкновению, на поэтический свой язык и выразил в 1830 году в превосходном своем стихотворении «Ответ анониму» («О, кто бы ни был ты…»), о котором мы скажем еще несколько слов. В самом описании своего путешествия он посвятил ей еще несколько строк: «Искать вдохновения, – говорит он в предисловии, – всегда казалось мне смешной и нелепой причудою: вдохновения не сыщешь; оно само должно найти поэта». Еще свободнее изъяснялся он об этом предмете в дружеских разговорах: «Чего нельзя сказать ни о ком, – утверждал он, – то можно сказать о поэте. Ведь никто не позволит себе написать: мы думали, что такой-то поехал на Кавказ за отличием, а он вывез оттуда одну лихорадку? Почему же можно сказать в печати: мы думали, что поэт напишет такое-то стихотворение, а он написал совсем другое?»{363}
Несколько беглых мыслей, навеянных случаем, встречей, минутной вспышкой вдохновения, сохранились в тетрадях поэта от этой эпохи. К числу таких произведений, как известно, принадлежит послание «К калмычке» («Прощай, любезная калмычка…»), о которой Пушкин говорит еще в рукописи своей, что она имела довольно приятный голос и смуглое, темно-румяное лицо. На обратном пути из Арзрума в Тифлис 30 человек линейных казаков, сопровождавших Пушкина и возвращавшихся на родину, встретили казачий полк, шедший им на смену. Приветственные выстрелы из пистолетов загремели с обеих сторон в знак радости, а потом земляки наскоро обменялись новостями, которые внушили Пушкину несколько строчек:
Был и я среди донцов,Гнал и я османов шайку;В память боев и пиров,Я привез домой нагайку.Дома… в тишине.Сохранил я балалайку —С нею рядом, на стенеЯ повешу и нагайку…Что таиться от друзей?Я люблю свою хозяйку:Часто думал я об нейИ берег свою нагайку.В самом Арзруме 14 июня промелькнула в голове его мысль» не оставившая потом никакого следа:
Критон, роскошный гражданинОчаровательных Афин,Во цвете жизни предавалсяВсем упоеньям бытия…Однажды – слушайте, друзья!Он по Керамику скитался,И вдруг из рощи вековой,Красою девственной блистая,В одежде легкой и простойЯвилась Нимфа молодая…{364}По сю сторону Кавказа он встречает где-то бюст завоевателя и пишет к нему:
Напрасно видишь тут ошибку: Рука искусства навелаНа мрамор этих уст улыбку И гнев на хладный лоск чела.Недаром лик сей двуязычен. Таков и был сей властелин:К противочувствиям привычен В лице и в жизни арлекин.Все это походит как будто на поэтическую беседу с самим собой, которой вообще Пушкин часто предавался. Подобные стихотворные заметки превращались у него иногда в полные, художественные создания. Кстати уже будет привести здесь и стихотворение, порожденное внезапным звуком военной зори, поразившим поэта:
Зорю бьют… Из рук моихВетхий Данте выпадает;На устах начатый стихНедочитанный затих…Звук далече улетает.Звук привычный, звук живой!Сколь ты часто раздавалсяТам, где тихо развивалсяЯ… давнишнею… порой!..Глава XIX
«Галуб» и «Путешествие Онегина»: Программа «Галуба». – Посмертные названия, данные его (Пушкина) произведениям издателями. – В «Галубе» первое проявление эпического настроения. – Анализ «Галуба». – О выпущенной странице в «Путешествии в Арзрум», где говорился о значении христианской проповеди для диких племен. – Вторая программа «Галуба». – В декабре 1829 г. начаты первые строфы VIII главы «Онегина», которая заключала в себе странствование Онегина. – Как писался «Онегин». – Пропущенные строфы. – Перечень глав с хронологическими указаниями. – Связь идеи «Демона» с I главой «Онегина» по рукописи. – Неизданные стихи «Мне было грустно, тяжко, больно…». – Отрывок из «Странствований Онегина», помещенный в «Московском вестнике» 1827 г. – Заметка об этой выдержке. – «Онегин» в производительном отношении столько же замечателен, как и в художественном.
По возвращении своем в С.-Петербург Пушкин приступил к новой поэме «Галуб»[191]. Правда, в это время набросал он только программу ее и первый очерк; он принялся снова за поэму после долгого промежутка времени, который с достоверностью определить нельзя, но который полагать можно в 3 или 4 года, да и тогда еще оставил он новое произведение свое без окончания и отделки. Все это объясняется теперь направлением, какое стала принимать творческая способность Пушкина в последние годы его жизни. «Галуб» был первым и еще не совсем ясным проблеском эпического настроения духа, поражающего в Пушкине особенно с 1833 года. Поэма осталась в отрывке, потому что не вполне еще установилось самонаправление автора. Изложение ее программы пояснит наши слова, но скажем наперед, что Кавказ и в это время был поводом к новым соображениям для поэта, как за 9 лет перед тем.
Поэма навеяна историческим горным хребтом, но в этот раз Пушкин взял героя из самой среды племени, населяющего его. Тазит, может быть, одной беглой чертой связывается с европейским миром: поэт вскользь упоминает, что это ребенок, неизвестно где найденный; но затем герой поэмы уже составляет часть того народа, с которым вскоре начинает расходиться в характере и в требованиях нравственной природы. Поэт даже и не описывает, как это случилось, какой цепью мыслей приведен он был к разноречию с своим племенем:
Как знать? Незрима глубь сердец!В мечтаньях отрок своеволен,Как ветер в небе… Но отецУже Тазитом недоволен.Такое молчание есть замечательная черта силы творческого соображения. Пушкин не останавливается над тайной работой духа, неуловимой, как подземная, скрытая работа природы. Он тотчас переходит к описанию трех дней отсутствия Тазита из отцовского дома и с первых стихов уже вполне выражает в чудной картине неспособность Тазита к так называемым доблестям племени: мщению, жажде корысти и наконец отвращение его от всей нравственной основы народного существования единокровных. Сцены между Тазитом и отцом принадлежат к разительнейшим сценам драматического искусства. Отвергнутый отцом, Тазит ищет любви и сватается за дочь одного чеченца. На этом месте отрывок кончается, но уже читатель предвидит неуспех дела: Тазит выступил из принятого круга понятий и войти снова в общую жизнь народа не может. В том виде, в каком дошла до нас поэма, читатель остается в совершенном недоумении, где и какой исток найдет вся эта тревога мощной души, пробужденной к истине, чем и когда может завершиться эта неожиданная драма? Программа отвечает на вопрос и сообщает настоящее слово поэмы, ее истинную мысль: вся драма должна была объясниться и закончиться христианством. Вот как составлена программа у Пушкина: