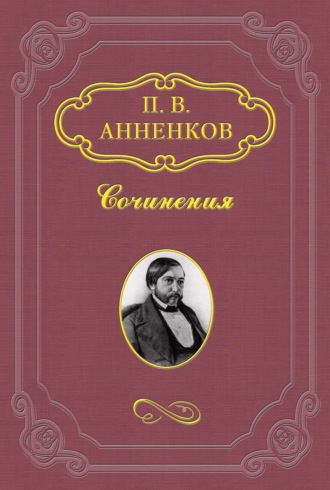 полная версия
полная версияМатериалы для биографии А. С. Пушкина
И надо видеть в переписке его с издателем «Московского вестника»{308}, напечатанной в «Москвитянине» (1842, № 10), сколько усилий, поощрения, заботливости и увещаний истощил Пушкин на поддержание бодрости в редакции и на утверждение журнала. Когда издатель его, вероятно, по недостаточности средств, доставляемых «Вестником», хотел опять приступить к альманаху «Урания», уже изданному им раз в 1826 г., Пушкин пришел почти в ужас. Цель журнала была именно уничтожить бесплодные сборники, так сильно размножившиеся в это время. Пропускаем начало письма и приводим существенную часть его:
«Нет, вы не захотите марать себе рук альманашной грязью. У вас много накопилось статей, которые не входят в журнал; но каких же? Quod licet Uraniae, licet тем паче Вестнику; не только licet, но decet[165]. И другие причины. Какие? Деньги Деньги будут, будут. Ради бога, не покидайте «Вестника»; на будущий год обещаюсь вам безусловно деятельно участвовать в его издании; для того разрываю непременно все связи с альманашниками обеих столиц. Главная ошибка наша в том, что мы хотели быть слишком дельными; стихотворная часть у нас славная, проза, может быть, еще лучше, но вот беда: в ней слишком мало вздору. Ведь, верно, есть у вас повесть для «Урании»? Давайте ее в «Вестник». Кстати о повестях: они должны быть непременно существенной частью журнала, как моды у «Телеграфа». У нас не то, что в Европе, – повести в диковинку. Они составили первоначальную славу Карамзина, у нас про них еще толкуют. Ваша индейская сказка «Переправа»{309}[166] в европейском журнале обратит общее внимание, как любопытное открытие учености; у нас тут видят просто повесть и важно находят ее глупою. Чувствуете разницу? «М<осковский> вестник», по моему беспристрастному, совестному мнению, – лучший из русских журналов. В «Телеграфе» похвально ревностное трудолюбие, а хороши одни статьи Вяземского; но зато за одну статью В<яземского> в «Телеграфе» отдам 3 дельных статьи «Московского вестника». Его критика, положим, несправедлива, но образ его побочных мыслей и их выражения резко оригинальны: он мыслит, сердит и заставляет мыслить и смеяться. Важное достоинство, особенно для журналиста!.. 31-е августа. Михайловское». Письмо писано в 1827 году, стало быть, шесть месяцев после основания журнала.[167]
Глава XIV
«Московский телеграф» и история первого издания стихотворений Пушкина в 1826 г.: «Московский телеграф», его значение и отношение к Пушкину. – Сочувствие Пушкина к «Телеграфу» в первое время, изменившееся влиянием Веневитинова. – Смерть Веневитинова и его характер. – Веневитинов направляет мысль Пушкина к Гете. – «Новая сцена между Фаустом и Мефистофелем», перо от Гете. – Перечень поэм и времени их появления в печати с 1825 по 1829 г. – История первого полного издания мелких стихотворений. – Письмо из Одессы в 1824 г. о притязаниях Гнедича на издание стихотворений. – Стихотворения обещаны трем лицам. – Письмо к Я.Н. Толстому с отклонением нового предложения и стихами «Горишь ли ты, лампада наша…». – Отрывок из письма к Бестужеву из Одессы 1824 <г.> о выкупе стихотворений у Всеволожского, другой к брату из Кишинева в 1823 г. и том же. – Получение рукописи от Всеволожского в 1824 <г.> и восторг, произведенный окончанием этого дела. – Письмо к брату из Михайловского в 1825 <г.> с возвращением исправленной рукописи, с советами, как печатать ее, и с заметкой на стихи Жуковского «Мотылек и цветы». – Выход в свет собрания стихотворений в 1826 г. – Письмо из Михайловского в 1825 г. с указанием, как писать предисловие к изданию стихотворений 1826 г.
Нельзя оставить без упоминовения другой журнал, «Московский телеграф», который так часто приходит на ум и на язык Пушкина в его переписке с друзьями. В холодности поэта к этому изданию открываются, между прочим, черты характера, не лишенные своего значения и занимательности. Пушкин находил в нем более хлопотливости вокруг современной науки, чем изучения какой-либо части ее, и не одобрял хвастовства всякой чужой системой при первом ее появлении, не дозволявшем еще зрелого обсуждения. По существу своему, журнал вообще представляет более наружный вид всякого дела, чем настоящий, истинный его смысл, и преследовать это – значило именно отвергать жизненное условие журнала. Всего же более оскорбляло Пушкина то уничтожение авторитетов и литературных репутаций, которое происходило от немедленного приложения вычитанных идей к явлениям отечественной словесности. Несмотря на ловкость и остроумие, с какими иногда производились эти опыты, Пушкин не имел к ним ни малейшего сочувствия. Притом не должно упускать из вида и весьма важного обстоятельства. Журнал «Московский телеграф» был совершенною противоположностию духу, господствовавшему у нас в эпоху литературных обществ; он их заместил, образовав новое направление в словесности и критике. С его появления журнал вообще приобрел свой голос в деле литературы, вместо прежнего назначения – быть открытой ареной для всех писателей, поприщем для людей с самыми различными мнениями об искусстве. Расположение литературных обществ к своим сочленам, прямое участие, так сказать, в их замыслах, близкое знакомство с существенными качествами и недостатками их таланта, отчего похвала и осуждение принимаемы были добродушно и покорно самими подсудимыми, – все это уже сделалось тогда достоянием истории нашей литературы. Пушкин, можно сказать, сохранял долее многих своих товарищей основные убеждения старого члена литературных обществ. К новому порядку вещей, где личное мнение играло такую роль, он уже не мог привыкнуть всю свою жизнь. С первых же признаков его появления он начал свою систему рассчитанного противодействия, забывая иногда и то, что высказывалось по временам дельного и существенного противниками, и постоянно имея в виду только одно; возвратить критику в руки малого, избранного круга писателей, уже облеченного уважением и доверенностью публики[168].
В марте 1827 года умер в Петербурге Д.В. Веневитинов. Он именно принадлежал к тому кругу молодых людей, которые искали в науке и в строгих занятиях удовлетворения своему благородному стремлению к идеалу, добру и красоте. Вся его литературная деятельность проникнута этим стремлением, и он имел свою долю влияния на Пушкина, как почти каждая замечательная личность, встречавшаяся ему на пути. В порывах Веневитинова к истине, в его томительном желании полноты знания, даже в нравственном упадке сил, следующем за напряжением мысли и чувства, лежало много залогов будущности и развития… За несколько времени до смерти своей Веневитинов написал «Послание Пушкину», в котором призывал певца Байрона и Шенье воспеть великого германского старца, Гете. Пушкин в превосходной сцене, созданной в это же время и названной им «Новая сцена между Фаустом и Мефистофелем», изменил отчасти образы германского поэта, но с замечательной силой, энергией поэзии{310}. Есть предположение, что Гете знал об этой сцене. Рассказывают, что он послал Пушкину поклон чрез одного русского путешественника и препроводил с ним в подарок собственное свое перо, которое, как мы слышали, многие видели в кабинете Пушкина, в богатом футляре, имевшем надпись: «Подарок Гете»{311}.
Между тем с 1826 по 1829 год, в течение трех лет, Пушкин выдавал одно за другим новые свои произведения и перепечатывал старые. В 1826 изданы были стихотворения его в одной книжке, о которых мы уже говорили, и II глава «Онегина» (первая появилась в 1825 году); в следующем 1827 г. изданы III глава «Онегина» и «Цыганы»; затем 1828 г. видел появление IV, V и VI глав «Онегина» и новое издание «Руслана и Людмилы» с прологом и предисловием; наконец, в 1829 году перепечатан из «Северных цветов» «Граф Нулин» в одной книжке с повестью Е. Баратынского «Бал»{312}, явилась «Полтава», сделано второе издание первой главы «Онегина» и выдано новое собрание стихотворений в двух книжках. Все это, при сотрудничестве в «Московском вестнике» и «Северных цветах», приносило Пушкину способы на роскошное существование, но деньги исчезали в руках его прежде, чем он мог сделать из них употребление… Первое появившееся собрание его стихотворений 1826 г. перешло через несколько рук, проданное или уступленное им, пока не возвратилось опять к одному из друзей поэта, преимущественно занимавшемуся его интересами.
Несколько подробностей об этом издании покажут убедительным образом, что добродушная ветреность его не раз вредила всем его расчетам и надеждам на несомненные выгоды.
Прежде чем П.А. Плетнев и отчасти брат поэта Л.С. Пушкин приступили в 1825 году к собранию стихотворений, долженствовавших войти в новое издание, оно уже наперед и в разные времена обещано было трем лицам, именно Н.И. Г<неди>чу, Я.Н. Т<олст>ому и Н.В. Все<воложск>ому. Всех больше прав, кажется, имел последний, выдавший Пушкину еще в 1820 году 1000 руб. вперед за издание до будущих окончательных расчетов. Требования первого кандидата на издание Пушкин отстранил очень решительно в письме из Одессы от 12 января 1824 <г.>, к Б<естужеву>. «Гнедич, – говорит он в нем, – шутит со мной шутки в другом роде. Он разгласил, будто бы все новые стихи, обещанные мною Т<олсто>му, проданы уже ему, Г<неди>чу. Т<олсто>й написал мне письмо пресухое, в котором он справедливо жалуется на мое легкомыслие, отказался от издания моих стихотворений, уехал в Париж, и мне об нем нет ни слуху ни духу. Он переписывается с тобою в «Сыне отечества»; напиши ему слово обо мне, оправдай меня в его глазах, да пришли его адрес. Повторяю тебе в последний раз мои пени и просьбы и обнимаю тебя sans rancune[169] и с благодарностью за все остальное…» Мы видим, что Я.Н. Т<олст>ому были обещаны все новые стихи; но из другого письма Пушкина к тому же лицу (Кишинев, 1823) оказывается, что в это же время настоящий покупщик, Н.В. Всеволожский, сохранял все свои права, да была еще, кроме того, отдельная подписка на них, что уже требовало двух разных изданий. Путаница еще увеличивается, когда из того же письма видим, что Т<олст>ой предлагал четвертого или пятого покупщика, князя Л<обано>ва, которому Пушкин тоже не вполне отказывает. Вот это любопытное письмо: «Милый Яков Николаевич. Приступаю тотчас к делу. Предложение князя Л<обано>ва льстит моему самолюбию, но требует с моей стороны некоторых объяснений. Я сперва хотел печатать мелкие свои сочинения по подписке, и было роздано уже 30 билетов; обстоятельства принудили меня продать свою рукопись Никите Все<воложско>му и самому отступиться от издания. Разумеется, что за розданные билеты я должен заплатать, и это первое условие. Во-вторых, признаюсь тебе, что в числе моих стихотворений иные должны быть выключены, многие переправлены, для всех должен быть сделан новый порядок, и потому мне необходимо нужно пересмотреть свою рукопись. Третье: в последние три года я написал много нового. Благодарность требует, чтоб я все переслал князю Александру, но <цензура, цензура>, милый друг! Подождем еще два, три месяца. Как знать? Может быть, к новому году мы свидимся, и тогда дело пойдет на лад. Покамест прими мои сердечные благодаренья: ты один из всех моих товарищей, минутных друзей минутной младости, вспомнил обо мне. Кстати или некстати, два года и шесть месяцев никто ни строки, ни слова:
Горишь ли ты, лампада наша,Подруга бдений и пиров?Кипишь ли ты, златая чаша,В руках веселых остряков?Все те же ль вы, друзья веселья,Друзья Киприды и стихов?Часы любви, часы похмельяПо-прежнему ль летят на зовСвободы, лени и безделья?В изгнанье скучном, каждый часГоря завистливым желаньем,Я к вам лечу воспоминаньем,Воображаю, вижу вас.Вот он, приют гостеприимный,. . . . . . . .Где своенравный произволМенял бутылки, разговоры,Рассказы, песня шалуна,И разгорались наши спорыОт искр и шуток, и вина.Я слышу, верные поэты,Ваш очарованный язык…Налейте мне вина кометы!Желай мне здравия, калмык!»{313}После этого уклончивого письма в прозе и стихах обстоятельства переменились. Н.И. Г<неди>ч был отстранен от издания, Я.Н. Т<олст>ой сам отказался от него; оставался Н.В. Всеволожский и 30 подписчиков. В отношении первого Пушкин опять пиетет к Б<естужеву> из Одессы от 24 июня 1824 <г.>{314}: «Кончу дружеской комиссией. Постарайся видеть Н. Все<воложско>го, лучшего из минувших друзей моей минутной молодости. Напомни этому милому… эгоисту, что существует некто А. Пушкин, такой же эгоист и приятный стихотворец. Оный Пушкин продал ему когда-то собрание своих стихотворений за 1000 руб. ассигнациями. Ныне за ту же цену хочет у него купить их. Согласится ли Аристипп Всеволодович)? Я бы в придачу предложил ему дружбу, mats il l’a depuis longtemps, d'ailleurs cela ne fait que 1000 roubles[170]. Покажи ему мое письмо». Совсем другой тон является в письме Пушкина к брату из Кишинева от 4-го сентября 1823 г.{315} о том же предмете. Вот с какой заботливостию выражается он, когда говорит от сердца и, что называется, с глазу на глаз: «Теперь, моя радость, поговорю о себе. Явись от меня к Н. Все<воложско>му и скажи ему, чтоб он, ради Христа, погодил продавать мои стихотворения до будущего года. Если же они проданы, явись с той же просьбой к покупщику. Ветреность моя и ветреность моих товарищей наделала мне беды. Около 40 билетов розданы. Само по себе разумеется, что за них я буду должен заплатить. В послании «К Овидию» перемени таким образом:
Ты сам дивись, Назон, дивись судьбе превратной,Ты, с юных лет презрев волненья жизни ратной,Привыкнул и проч.Кстати об стихах. То, что я читал из «Шильонского узника», – прелесть{316}. С нетерпением ожидаю успеха «Орлеанской девы»{317}. Но актеры, актеры! Пятистопные стихи без рифмы требуют совершенно новой декламации… Трагедия будет сыграна тоном «Смерти Роллы»{318}. Что сделает великолепная Семенова, окруженная так, как она окружена… Боюсь! Не забудь уведомить меня об этом и возьми от Жуковского билет для первого представления на мое имя…» Наконец, только 14 марта 1825 года пришло известие в Михайловское, где тогда жил поэт, о том, что рукопись наконец выручена, и надо видеть при этом восторг Пушкина. Вот в каком духе отвечает он брату своему: «Брат! Обнимаю тебя и падаю до ног. Обнимаю также и Александра Все<воложско>го. Перешли же мне проклятую мою рукопись и давай уничтожать, переписывать и издавать. Как жаль, что тебя со мною не будет! Дело бы пошло скорее и лучше. Дельвига жду, хоть он и не поможет: у него твой вкус, да не твой почерк. Элегии мои переписаны, потом послания, потом смесь, потом благословясь <и в цензуру>.
Душа моя! Горчицы, рому; что-нибудь в уксусе, да книг: Conversations de Byron, Mémoires de Fouché, «Талию», «Старину», да Sismondi (Littérature) да Schlegel (dramaturgic){319}, если есть у St. Florent[171] Хотел бы я также иметь новое издание: «Собрание русских стихотворений» – да дорого, 75 р. … Посмотри, однако ж.
Каченовский восстал на меня. Напиши мне, благопристоен ли тон его критик. Если нет – пришлю эпиграмму…
Тригорское 14 марта.
Достань… мои мелкие стихотворения и перешли мне скорее. Что же ты обещал мне прислать Парни?» Через четыре дня после этого письма Пушкин, получивший между тем рукопись, возвращает ее назад в Петербург уже в исправленном виде и с приложением новых стихотворений. Письмо его по этому поводу чрезвычайно оригинально и, как видно из приписки, составлено тотчас после веселой и обильной трапезы, что не мешает ему отличаться остроумием, живостию и здравомыслием: «Брат Лев, брат Пл<етне>в, третьего дня получил я мою рукопись. Сегодня отсылаю все мои новые и старые стихи. Я выстирал черное белье наскоро, а новое сшил на живую нитку. Но с вашей помощью, надеюсь, барыня-публика не прибьет меня…, как прачку. Ошибки правописания, знаки препинания, описки, бессмыслицы прошу самим исправить. У меня на то глаз не достанет. В порядке пиес держитесь также вашего благоусмотрения, только не подражайте изданию Батюшкова. Исключайте, марайте сплеча. Позволяю, прошу даже, но для сего труда возьмите себе в помощники Жуковского, не во гнев Бул<гари>ну, и Гнедича, не во гнев Гри<боедо>ву. Эпиграфа или не надо или из А. Шенье. Виньетку не худо, даже можно, даже должно, даже, ради неба, сделайте; именно: Психея, которая задумалась над цветком (кстати: что прелестнее строфы Жук<овского>: Он мнил, что вы с ним однородные…» и следующей; конца не люблю.[172]. Что, если б волшебная кисть Ф. Толстого?
Нет, слишком дорогаА ужасть, как мила!..{320}К тому же, кроме Уткина, ничей резец не достоин его карандаша. Впрочем, это все наружность. Иною прелестью пленяется…
Что сказать вам об издании? Печатайте каждую пиесу на особенном листочке, исправно, чисто, как последнее издание Жук<овского> и пожалуйста без – и без – и без[173]. Вся эта пестрота безобразна и напоминает Азию. Заглавия крупными буквами и à la ligne[174], но каждую штуку особенно, хоть бы из четырех стихов состоящую (разве из двух, так можно à la ligne и другую). 60 пиес? Довольно ли будет для 1-го тома?..»{321}
Книжка стихотворений вышла в 1826 <г.> действительно без типографской пестроты и без сбивки многих пьес на одном листе, но эпиграф к ней взят из Проперция, а желаемой виньетки совсем не было приложено. Таким образом, наконец разрешилось дело, продолжавшееся не менее шести лет и которое замечательно тем, что показывает в Пушкине соединение необычайной заботливости к своим выгодам с такой же точно непредусмотрительностию и растратой своего добра. В этом заключается и весь характер его.
В дополнение к этой истории одного издания, открывающей любопытные черты из самой жизни поэта, приводим еще одно письмо, которое заканчивает ее весьма живым и оригинальным образом. Мы уже видели, что собрание стихотворений 1826 года снабжено было предисловием от издателей, где об авторе говорится как о третьем, постороннем лице, но это предисловие составлено по указаниям самого Пушкина и вдобавок еще им же и исправлено. Вот что писал он брату из Михайловского в том же 1825 г.: «Получил ли ты мои стихотворения? Вот в чем должно состоять предисловие: «Многие из сих стихотворений дрянь и недостойны внимания российской публики, но как они часто бывали печатаны бог весть кем, бог знает под какими заглавиями:, с поправками наборщика и с ошибками издателя, так вот они, извольте кушать-с, хоть это-с дрянь» (сказать это помягче). 2) «Мы (сиречь издатели) должны были из полного собрания выбросить многие штуки, которые могли бы показаться темными, будучи написаны в обстоятельствах неизвестных или малозанимательных для почтеннейшей публики (российской) или могущие быть занимательными единственно некоторым частным лицам, или слишком незрелые, ибо г. Пушкин изволил печатать свои стихи в 1814 г. (т. е. 14 лет). 3) Пожалуйста, без малейшей похвалы мне. Это непристойность, и в «Бахчисарайском фонтане» я забыл заметить это Вяземскому. 4) Все это должно быть выражено романтически, без буффонства – напротив. Во всем этом по+лагаюсь на Пл<етне>ва. Если я скажу, что проза его лучше моей, ведь он не поверит. Ну, по крайней мере, столь же хороша: доволен ли он? Да перешли на всякий случай это предисловие ко мне, а я пришлю вам замечания свои…»{322} Предисловие действительно написано было в том смысле, как указал поэт наш, и первое издание его стихотворений наконец принадлежало ему одному безраздельно. К сожалению, мы имеем весьма мало сведений для истории других его изданий, а она могла бы представить много любопытного и важного в биографическом отношении.
Глава XV
Торговая сторона деятельности Пушкина и история происхождения некоторых лирических его произведений. – Пушкин как прозаик: Пушкин развил нашу книжную торговлю. – Продажа стихов Пушкина в книжной торговле. – Отвращение являться в обществе в звании поэта. – Стихи «На это скажут мне с улыбкою неверной…». – Письменные выговоры Пушкина в 1824 г. друзьям за преждевременное распространение его стихотворений и нарушение тем его денежных выгод. – Письмо к Дельвигу 1827 г. с присылкой стихотворения «Под небом голубым…» и других. – Значение стихотворений «Под небом голубым…», «Для берегов отчизны дальней…», «Заклинание» в жизни поэта. – Стихотворение Туманского «На кончину Ризнич». – Пушкин зачеркивает или действительно слабые теста произведений, или такие, которые содержанием своим слишком резко выражали задушевную его мысль. – История создания пьесы «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день…») как образец того, что Пушкин соединял осторожность с искренностию в своих произведениях. – Неизданное окончание стихотворения «Я вижу в праздности, в неистовых парах…». – Пушкин-прозаик. – «Мысли и замечания» его, помещенные в «Северных цветах» <на> 1828 г. – «Арап Петра Великого», задуманный в 1826, пишется в 1827 <г.> – Пушкин издает свои сочинения непоследовательно, с перескоками, затруднявшими правильную их оценку. – Появление «Полтавы», «Годунова», «Повестей Белкина», «Арапа Петра Великого». – Пушкин еще в Михайловском склоняется к роману из старых русских преданий. – С первой попытки в «Арапе» находит свой оригинальный стиль, который отражается и в «Капитанской дочке» 9 лет спустя.
Пушкин сам гордился тем, что один из первых развил у нас книжную торговлю, что было совершенно справедливо. Еще в 1825 году писали ему из Москвы в Михайловское, что за право вторичного издания трех тогда уже вышедших поэм его г. Селивановский предлагает 12 тысяч руб. ассигнациями{323}. Сделка, кажется, не состоялась, и право издания перешло к г. Смирдину, который перекупил издание «Бахчисарайского фонтана» за 3 тысячи ассиг. и заплатил 7 тысяч за право перепечатания двух других поэм. Мы не знаем, сколько автору принесли остальные его произведения, но первое полное издание «Евгения Онегина»{324} куплено у него было за 12 тысяч руб. ассиг., и, вероятно, вдвое, если не более, доставила ему отдельная продажа глав. В 1828 году уже сам Пушкин писал из Петербурга: «Здесь мне дают (à la lettre)[175] по 10 руб. за стих»{325}. Вообще торговая сторона нашей литературы, еще весьма мало известная, могла бы сообщить цифры весьма любопытные и привести к немаловажным заключениям. Статистические данные книжной торговли, изложенные с некоторым знанием дела, объяснили бы историю нашей письменности в таких наклонностях, которые или мало, или совсем не замечены журнальной оценкой. Книжная торговля была важным делом для Пушкина: он никогда не упускал ее из вида и с нее начинал даже многие литературные свои предприятия. Кто несколько ближе мог вникнуть в характер Пушкина, того не удивит мнение, которое с особенною настойчивостью долго старался он укоренить в друзьях и знакомых, что он пишет и печатает единственно для денег. Это уверение, расточаемое упорно и с какой-то претензией, уже показывало тем самым нетвердость своего основания. Дело в том, что оно поясняется, с одной стороны, теорией творчества про самого себя, о которой недавно говорили, а с другой – жизненным противоречием, в котором долго находился наш поэт. Известно, что он всего более опасался, в виду света, своего настоящего призвания и титла поэта. Обязанный лучшими минутами жизни уединенному кабинетному труду, он искал успехов и торжеств на другом поприще и считал помехой все, что к нему собственно не относилось. Уверением, что он пишет из расчета, как другой заводит фабрику или занимается агрономией, старался он перед светом закрыть свое достоинство писателя, в котором никак не хотел явиться перед ними, хотя доброй частью своих успехов обязан был именно блеску, сопровождающему необыкновенный талант. Только в последних годах своей жизни теряет он ложный стыд этот и является в свете уже как писатель. Важные труды, принятые им на себя, и знаменитость самого имени освобождают его от предубеждения, отличавшего его молодые года. В эпоху, которой занимаемся, всякое смешение светского человека с писателем наносило ему глубокое оскорбление. С одушевлением читал он свои произведения людям, занимающимся литературой, но когда в одном и весьма любимом им доме высшего круга просили его прочесть что-нибудь, он с жаром и негодованием прочел только что написанное стихотворение «Чернь», и говорил потом: «В другой раз не будут просить у меня стишков»{326}. Это двойственное положение в обществе превосходно выражено им самим в том отрывке, который, со многими другими, предшествовал созданию «Египетских ночей». Художественно передана там в лице Чарского борьба различных направлений в одном человеке, и образ Чарского как произведение искусства гораздо лучше объяснит читателю лицо поэта, чем все наши разборы и описания. Такое значение имеют постоянные уверения Пушкина, что он пишет для себя, печатает для денег и не думает о славе или известности. У нас есть продолжение неизданного и утерянного стихотворения поэта, написанное им на одной стороне печатного объявления, оторванного, вероятно, от какого-нибудь французского романа.
На это скажут мне с улыбкою неверной:– «Смотрите! Вы поэт; уклонкой лицемернойВы нас морочите. – Вам слава не нужна:Смешной и суетной вам кажется она;Зачем же пишете?» – Я? для себя! – «За что жеПечатаете вы?» – Для денег! – «Ах мой боже!Как стыдно!» – Почему ж?..{327}На другой стороне листка, где набросаны эти стихи, не лишенные, как кажется, некоторого иронического оттенка, напечатано объявление французского книгопродавца: Ouvrages sous presse: Contes Noires, I Volume in 8°. – Aloïse ou le testament de Robert[176], и проч. и проч.[177].









