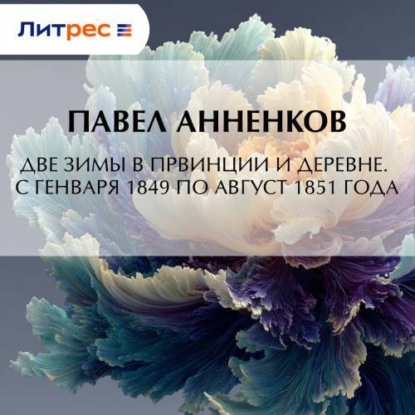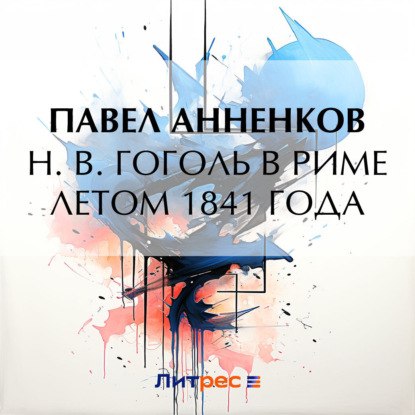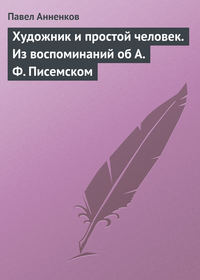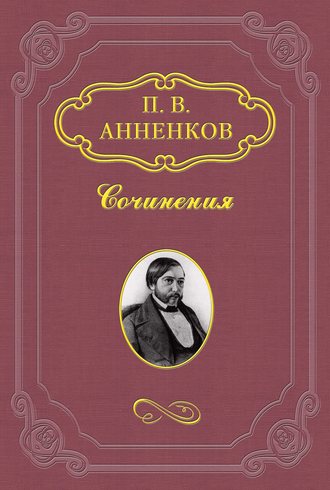
Полная версия
Замечательное десятилетие. 1838–1848
XIV
Чем более приходилось мне узнавать Париж, куда я попал наконец в ноябре 1841 года, тем сильнее убеждался, что повода для зависти соседей он действительно заключает в себе очень много благодаря сильно развитой общественной жизни своей, своей литературе и прочему, но причин для суеверного страха перед его именем он содержит весьма мало. Я застал Париж волею или неволею подчиненным строго конституционному порядку; правда, что этого никто не хотел видеть, а видели только опасности, представляемые народным характером французов, забывая притом коренное отличие конституционного режима, состоящее в его способности мешать развитию дурных национальных сторон и наклонностей. Еще очень много было людей, считавших даже это средство спасать народы от заблуждений и увлечений опаснее самого зла, которое оно призвано целить.
После популярного воинственного Тьера управление Францией принял на себя англоман по убеждениям Гизо{61}, который в ненависти и презрении к самодеятельности и измышлениям народных масс и их вожаков совершенно сходился с королем, хотя оба они были обязаны именно этим массам и вожакам своим возвышением. Оба они были также и замечательные мыслители в разных родах: король – как скептик, много видевший на своем веку и потому не полагавшийся на одну силу принципов без соответственного подкрепления их разными другими негласными способами; министр его – как бывший профессор, привыкший установлять основные начала, им самим и открытые, и верить в их непогрешимость. Из соединения этих двух доктринеров противоположного рода возникла особая система конституционного правления, старавшаяся водворить в стране переворотов мудрствующую, резонирующую и себя проверяющую свободу. Система располагала множеством приманок для энергических людей, которым нужно было составить себе имя, положение, карьеру, – но беспощадно относилась к тем, которые не признавали ее призвания водворить порядок в умах и ее учение о важности правительственных сфер и строгой иерархической подчиненности. Доброй части французов, однако же, система эта казалась олицетворенной, невообразимой пошлостью: жить без всякой надежды на успех какой-либо внезапной политической импровизации, какого-либо отчаянного и счастливого покушения (соuр-de-tete), которые, сказать мимоходом, все подавлялись с особенной энергией и скоростью министерством Гизо в течение восьми лет, – жить так значило, по собственным словам партизанов непосредственной народной деятельности, обречь себя на позор перед потомством. Партии истощались в усилиях подорвать министерство, и в 1848 году совершенно случайным образом опрокинули его, но уже вместе с конституционной монархией.
Говоря правду, им действительно не за что было любить это министерство. Его «мещанская» честность и стыдливость мешали ему лакомить Францию фразами о ее призвании побеждать народы, к вящему их преуспеянию, и воспрещали также разделять восторги толпы к недавнему еще прошлому страны, которое величалось не иначе, как временем доблестей и славы. Оно вдобавок неустанно обличало пустоту и ничтожество народных идеалов, проектов революционного обновления государства и различных укоренившихся догматов народного самолюбия и тщеславия. Вся эта добропорядочность поведения не могла сделать, конечно, правления Гизо популярным в его отечестве{62}. Да он и не гнался за популярностию, презирая ее столько же, сколько и героев, вознесенных клубами и партиями, и рассчитывая единственно на поддержку деловой, степенной части населения, которая в нужную минуту ему, однако же, позорно изменила, как известно. Взамен популярности, он искал почетного имени в истории и думал его найти вместе со своим старым королем, сделав из Франции свободное и благочинное государство, водворяя в нем конституционные нравы, работая неусыпно за обузданием крайних политических страстей – и все это под перекрестным огнем печати, которая, несмотря на пресловутые сентябрьские законы, пользовалась при нем свободой, не имевшей себе подобия на континенте, за исключением маленькой Бельгии и некоторых кантонов Швейцарии. Притом же каждый день Гизо приносил свою систему на публичное обсуждение в тогдашние почти постоянно бурные заседания палаты депутатов, где он часто достигал до героизма в откровенности и до цинизма в ответах врагам. Впоследствии вся эта кипучая жизнь, выработывавшая исподволь конституционный фундамент для страны, нагло объявлена была, при второй империи, презренной игрой в парламентаризм и заменена игрой полицейских агентов на улицах, скандальной журналистикой в печати и законодательным корпусом в четырех глухих стенах, без прав трибуны и без гласности!
Из боязни прослыть эгоистическим «буржуа», лишенным органа для понимания народных стремлений и скрытых бедствий работающих классов, немногие решались тогда высказывать вполне все, что они думали о Париже сороковых годов. Достоверно однако же, что путешественники имели тогда дело с городом вполне изящным по своим приемам и обычаям, который отличался, как естественным следствием конституционных порядков, мягкостию сношений, отсутствием мелкой подозрительности к людям, возможностию для всякого иностранца отыскать сочувствие, симпатический отголосок на любое серьезное мнение или начинанье, а наконец, и относительною честностию всех сделок частных людей между собою. Все это, как известно, исчезло тотчас же при Второй империи. Для подтверждения этого краткого очерка достаточно поставить его в параллель с тем, чем сделался город Париж после потери июльской конституции.
На совести и репутации Гизо, конечно, есть несколько пятен. Так, его упрекали в употреблении неблагородных средств для поддержания своей системы, в подкупах избирателей и особенно в том, что для легчайшего управления ими он держал число избирателей на ограниченной цифре, какую застал сам. Все это правда и опровергнуто быть не может, но правда также и то, что упрочить конституционные порядки во Франции он мог только, как доказал это последующий опыт, единственно с тем персоналом единомышленников, который находился у него в руках. Таким знатокам английской истории, как король Луи-Филипп и Гизо, не могло быть безызвестно, что только упроченная конституционная система бывает способна к перестройке себя совершенно заново, не теряя ни своей силы, ни своих оснований. Пример английской конституции был налицо: она имела тоже свои эпохи «снисходительных» подкупных парламентов, но не только победоносно вышла из всех опасностей и затруднений, а изменила все законодательство о выборах в камеру общин, восстановила право обиженных местностей и сословий на посылку депутатов в парламент и переформировала весь состав представительства, не утеряв при этом ни на волос коренного своего значения и влияния на страну. Весь вопрос, таким образом, сводился для Гизо и его администрации на упрочение конституции, и нельзя сказать, чтобы он слепо, эгоистически и бессознательно защищал действующие законы о выборах. В жару прений о расширении их он не раз заявлял мнение, что дело изменения их не может ограничиться в такой стране, как Франция, одним присоединением способностей к лику избирателей. За этим присоединением «способностей» он уже прозревал новые уступки и всеобщее народное голосование – тот грубый и ничего не выражающий ответный вопль толпы, которая постоянно возвращает вопрошателю только слова, брошенные им в ее среду, что и совершалось постоянно при Наполеоне III. Как бы то ни было, непозволительно предположить, что парламентаризм Гизо и Луи-Филиппа, столько преследуемый и позоримый впоследствии их врагами, поднял бы в постепенном прогрессивном своем развитии благосостояние Франции и рабочих ее классов не менее последующих декретов Второй империи о национальных мастерских, о перестройке целиком заново Парижа, о создании «городков» для мастеровых (cites ouvrieres) и проч.
XV
Нужно ли говорить, что сочувствием нетерпеливых или пылких умов в Европе пользовалась совсем не Франция Гизо, а та, которая стояла за нею и протестовала против ее конституционных затей, не отвечающих, по ее мнению, духу страны. В самом деле, что за надобность была германским передовым людям, а за ними и другим кружкам политиков до какой-то новой Франции, старающейся держаться в границах своей хартии, Франции приличной, благопристойной и тем самым извращающей все старые понятия о стране, которые сложились у народов с конца прошлого столетия? Для них это была совершенно неведомая Франция, которую они и изучать не хотели, а искали прежней, еще недавней, хорошо всем знакомой, типической Франции, той, которая имеет абсолютные решения по всем вопросам социального, политического и нравственного характера, а когда они слишком долго медлят своим появлением, принимает меры вызвать их силой. Вот эта последняя, старая Франция и была еще тогда для многих в Европе исконной, вековой Францией, а другая, только что начинавшая показываться на политическом горизонте, считалась подлогом, наваждением злого духа, словом – призраком, самозванно подменившим родовую физиономию страны какою-то отвратительно гладкой глупой маской. Не зная, чем объяснить это превращение, заграничные партии объясняли его не иначе, как насилием, беспримерным в летописях истории: смирный король-гражданин, Луи-Филипп, постоянно честился у себя дома и за порогом его прозвищем «le tyran», Гизо называли за границей, например в Англии, конституционным «герцогом Альбой» и тому подобными именами и т. д. Воззрение русских кружков на Францию недалеко отходило от общего представления ее дел, сложившегося у крайних либералов Европы: у нас тоже искали потаенной Франции, вместо той, которая была на виду, и ожидали, что первая рано или поздно сменит вторую. Смена и действительно произошла скорее, чем ожидали ее, – и дала совсем непредвиденные результаты. Она именно очистила дорогу великолепной французской империи, которая так хорошо отметила за все предшествовавшие ей правительства, рассеяв и подавив как своих, так и их врагов. Кажется, в этой роли Немезиды и состоит все ее историческое призвание. В России один только Т. Н. Грановский, по особенному историческому чутью, которым был наделен, и по присущему ему чувству истины старался как можно менее вторить хору ругателей монархии Луи-Филиппа, а в числе его ругателей были у нас очень высокопоставленные правительственные лица. Помню, что летом 1845 года несколько слов, сказанных мною в защиту Гизо на даче в Соколове (близ Москвы), возбудили общий насмешливый протест друзей. Грановский, однако же, при самом разгаре спора взял меня под руку и, уводя в соседнюю аллею, промолвил им с юмором в интонации, не передаваемым на бумаге: «Оставьте нас с ним наедине потолковать, господа, и об нас не беспокойтесь. Мы к вам вернемся порядочными людьми». И тогда-то выразил он мнение, что политические идеалы Гизо преднамеренно узки и скромны, соответственно тому невеликому представлению о политических способностях французов, которого министр никогда не скрывал. «Но пренебрежение к народному духу, – добавил Грановский, – не может обойтись даром во Франции: она знает, что этому духу обязана своим местом и ролью в истории Европы. Так или иначе, рано или поздно, система Гизо и Луи-Филиппа не выдержит: они и умны и ошибаются не по-французски, и вот это-то им не простится». Я не думал тогда, что слова Грановского были – пророчество.
Надо заметить и то, что борющаяся и так интересовавшая всех позади стоящая, революционная Франция производила свои нападки на строй конституционной жизни и порядки, ею заведенные, с большою ловкостию, энергиею и замечательным талантом: она почти вся состояла из даровитейших людей эпохи. Группа писателей, преследовавшая свистками систему Луи-Филиппа, производила неотразимое впечатление на лиц, образованных литературно, да обладала и другим привлекательным качеством. Она поднимала, кроме вопросов текущего дня, перед которыми мы всегда чувствовали слабость своего практического опыта и суждения, еще и всего более широкие, отвлеченные вопросы будущности, темы нового социального устройства Европы, смелые постройки новых форм для науки, жизни, нравственных и религиозных верований, а наконец критику всего хода европейской цивилизации. Здесь мы уже были, что называется, на просторе, приученные измала к великолепным ипотезам, к широким, изумительным обобщениям и умозаключениям.
Таким образом, когда осенью 1843 года я прибыл в Петербург, то далеко не покончил все расчеты с Парижем, а, напротив, встретил дома отражение многих сторон тогдашней интеллектуальной его жизни{63}.
Книга Прудона «De la propriété», тогда уже почти что старая; «Икария» Кабе, малочитаемая в самой Франции, за исключением небольшого круга мечтательных бедняков-работников; гораздо более ее распространенная и популярная. система Фурье, – все это служило предметом изучения, горячих толков, вопросов и чаяний всякого рода[18]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Рассказ В.Г. Белинского.
2
Жалобы эти не остались без последствий для литературы. При издании Пушкина (1854 г.) возникли цензурные затруднения при передаче суждений нашего поэта о Державине, так как прежде того состоялось распоряжение цензурного комитета оберегать от непрошеных критик имена Державина, Ломоносова, Карамзина, а также и личность самого Булгарина. Никто не чувствовал тогда обиды, наносимой первым трем великим именам нашего отечества этим уравнением их с персоной издателя «Северной пчелы». (Прим. П.В. Анненкова.)
3
третьего сословия (франц.)
4
Кольцов уже введен был тогда Станкевичем в круг московских друзей его и, по всей вероятности, был косвенной причиной тех надежд, которые выражал Белинский на людей среднего положения. (Прим. П.В. Анненкова.)
5
первое выступление (англ.)
6
Пушкин прибавлял, по тому же свидетельству, секретно и еще замечание, что у Белинского есть чему поучиться и тем, кто его ругает. (Прим. П.В. Анненкова.)
7
Для поддержания этого издания Гоголь принял на себя роль пропагандиста и собирал подписки со всех своих знакомых в Петербурге – и, прибавим, чрезвычайно настойчиво и энергично. Каждый из нас должен был иметь и имел своего «Наблюдателя». (Прим. П.В. Анненкова.)
8
«Литературные воспоминания» И. Панаева, «Современник», 1861, февраль. (Прим. П.В. Анненкова.)
9
Умерший во время составления этих заметок. (Прим. П.В. Анненкова.)
10
В «Телескопе» 1835 года помещены были образцовые статьи: «О русской повести и повестях Гоголя», «О стихотворениях Баратынского», «Стихотворения Владимира Бенедиктова» и «Стихотворения Кольцова». Надеждин, поручивший издание «Телескопа» Белинскому при своем отъезде за границу, был удивлен по возвращении в декабре 1835 года и доброкачественностию статей, в нем помещенных, и запущенности редакции, не додавшей множество книжек журнала. Таков был и потом Белинский как «редактор». (Прим. П.В. Анненкова.)
11
См. мои «Воспоминания и критические очерки», т, I, в статье о Гоголе. (Прим. П.В. Анненкова.)
12
При отъезде моем за границу Белинский, рассказывая подробности сцены, поручал мне стараться о примирении врагов. «Было бы большим несчастием, – говорил он, – потерять такого человека, как Катков; действуйте особенно на Бакунина – он же резонер и на сделку пойдет скорее». (Прим. П.В. Анненкова.)
13
По странной случайности в то самое время, когда обновленные «Отечественные записки» принимали то направление, о котором говорим, в Москве возникал журнал «Москвитянин», который должен был служить как бы противодействием петербургскому изданию. «Москвитянин» был основан в 1841 году. (Прим. П.В. Анненкова.)
14
Он (Рейн) не должен стать ихним (нем.)
15
войсками (франц.)
16
военнообязанными (нем.)
17
Разумеется, при этом были, как и всегда, блестящие исключения: такие люди, как Гумбольдт, Варнгаген, Ранке, Гервинус, Ганс и др. никогда не исповедовали ужаса к французским идеям вообще и к французскому обществу в частности. (Прим. П.В. Анненкова.)
18
Я уже не говорю о новой религии «человечества», изложенной фантастическим теозофом Пьером Леру и его книге «De l'Humanité»: она по близости к надоевшему пиетизму и невыдержанности мысли в философском отношении, к чему мы были всегда очень чувствительны, не имела особенного успеха. Я цитирую разные книги на память, может быть не совсем точно обозначая их полное заглавие. (Прим. П. В. Анненкова.)
Комментарии
1
В. Г. Белинский переехал из Москвы в Петербург в конце октября 1839 г. для ведения критического отдела в журнале «Отечественные записки». Большую роль в привлечении Белинского к сотрудничеству в обновленном журнале сыграл И. И. Панаев (1812–1862) – беллетрист реалистического направления, един из основных сотрудников «Отечественных записок», а с 1847 г., вместе с Н. А. Некрасовым – издатель обновленного «Современника». Панаев был искренне привязан к Белинскому, принимал горячее участие в его нелегкой судьбе, сочувствовал его идейным устремлениям и с конца тридцатых годов до последних дней критика принадлежал к его ближайшему окружению (см. об отношениях Белинского и Панаева во второй части «Литературных воспоминаний» последнего и в его «Воспоминании о Белинском» – Гослитиздат, 1950. редакция текста, вступительная статья и примечания И. Г. Ямпольского). Вскоре по приезде в Петербург, очевидно через Панаева, Белинский вошел в «молодой и шумный» кружок А. А. Комарова. Поначалу кружок этот состоял из любителей литературы и искусства, из начинающих литераторов, группировавшихся вокруг прогрессивных тогда изданий Краевского. «Субботы» А. А. Комарова посещали И. И. Панаев, П. В. Анненков, И. И. Маслов, М. А. Языков, Н. Я. Прокопович, художник К. А. Горбунов, в дальнейшем – Н. Н. Тютчев, А. Я. Кульчицкий и др. На одной из «сходок» у Комарова П. В. Анненков и познакомился с Белинским. Первое упоминание об Анненкове, равно как и о А. А. Комарове, в письмах Белинского относится к середине июня 1840 г. «Доставитель этого письма, г. Анненков, – писал Белинский В. П. Боткину 13 июня, – мой добрый приятель, хоть я виделся с ним счетом не больше десяти раз… ты увидишь, что это бесценный человек, и полюбишь его искренно. От него ты услышишь многое обо мне интересное, о чем не хочу писать… Анненков тебе сообщит и о моих новых знакомствах, особенно о Комарове. Я вошел в их кружок и каждую субботу бываю на их сходках» (Белинский, т. XI, стр. 530).
2
Каченовский Михаил Трофимович (1775–1842) – журналист, профессор истории Московского университета. В исторической науке заявил себя критиком авторитета Карамзина. По этой причине Каченовский, очевидно, и сочувствовал молодому Белинскому, тоже потрясавшему литературные авторитеты.
3
«Библиотека для чтениям — ежемесячный журнал «словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод», основанный в Петербурге в 1834 г. на средства издателя-книготорговца А. Ф. Смирдина (1795–1857); до конца 1856 г. выходил под редакцией профессора восточных языков Петербургского университета О. И. Сенковского (1800–1858) – «Известные сатурналии» — беспринципные, рассчитанные на скандальный эффект критические оценки О. И. Сенковского с целью дезориентировать, «запугать молодое поколение» (Белинский). Сенковский превозносил, например, ходульно-романтические драмы Н. Кукольника, стихи Бенедиктова и глумился над произведениями Гоголя, над поэзией Пушкина и Лермонтова. «Чем взял Сенковский? – писал Белинский в начале 1840 г. – Основною мыслию своей деятельности, что учиться не надо и что на все в мире надо смотреть шутя» (Белинский, т. XI, стр. 453).
4
Греч Николай Иванович (1787–1867) – литератор, автор довольно популярной в свое время повести «Черная женщина», редактор журнала «Сын отечества» и соредактор Ф. В. Булгарина (1789–1859) по газете «Северная пчела». До разгрома декабристов Греч придерживался либерального направления, а после 1825 года круто повернул вправо и вкупе с Булгариным стал ревностным сторонником правительственной реакции. «Сиамские близнецы», как их называли, Греч и Булгарин представляли крайнюю реакционную «партию» в литературе того времени, связанную с 111 отделением и опиравшуюся в своей травле всего передового и прогрессивного на поддержку высокопоставленных чиновных кругов.
5
Анненков имеет здесь в виду литературно-философский кружок тридцатых годов, объединившийся вокруг воспитанника Московского университета Николая Владимировича Станкевича (1813–1840) и состоявший, главным образом, из той части московской университетской молодежи, которая увлекалась тогда немецкой философией. Наряду с кружком Герцена, интересовавшимся преимущественно социально-политическими вопросами, кружок Станкевича сыграл важную роль в развитии русской передовой мысли. Но Анненков не был в кружке Станкевича; он только с появления Белинского в Петербурге «получил понятие» о нем (ЛН, т. 67, стр. 547) и потому впадает здесь в ошибку, когда, очевидно со слов В. П. Боткина, объявляет Белинского «простым эхом» суждений и приговоров, существовавших в недрах кружка. Такую же ошибку он допускает и в «Биографии Н. В. Станкевича» (1857). Спорной, а подчас и неверной является характеристика, которую дает Анненков ниже первой обзорной и просветительской по своей направленности статье Белинского «Литературные мечтания».
6
Анненков имеет в виду Сергея Николаевича Глинку (1775–1847) – редактора издателя журнала «Русский вестник», одержимого ура-патриотическими и националистическими идеями.
7
Заговор против литературы — борьба так называемого с литературного триумвирата», то есть Булгарина («Северная пчела»), Греча («Сын отечества») и Сенковского («Библиотека для чтения»), против передовой русской литературы того времени во главе с Пушкиным и Гоголем. В этой борьбе «литературный триумвират» опирался на поддержку официальных кругов и «светской черни».
8
Масальский К. П. (1802–1861), Степанов А. П. (1781–1837), Тимофеев А. В. (1812–1883), Кукольник Н. В. (1809–1868) – посредственные литераторы официозно-реакционного направления, развращавшиеся похвалами и поддержкой барона Брамбеуса (литературный псевдоним Сенковского), Булгарина и Греча. Имея в виду целую школу литераторов, группировавшихся вокруг «литературного триумвирата», Герцен писал: «Подобные цветы могли расцвести лишь у подножья императорского трона да под сенью Петропавловской крепости» (Герцен, т. VII, стр. 221).
9
«Телескоп — журнал, издававшийся в Москве в 1831–1836 гг. с приложением еженедельника «Молва»; редактировался профессором Н. И. Надеждиным. В этом журнале и газете с 1834 г. вел борьбу с «литературным триумвиратом», главным образом, Белинский. Журнал был закрыт правительством в 1836 г. за напечатание «Философического письма» П. Я. Чаадаева. – «Московский наблюдатель — журнал, издававшийся в 1835–1837 гг. под редакцией В. П. Андросова при ближайшем участии С. П. Шевырева и М. П. Погодина. Вначале Пушкин и Гоголь поддерживали этот журнал, рассчитывая, что он будет серьезно «бороться с литературными концессионерами». Но Шевырев и Погодин повели дело так, что уже с первых номеров «Московский наблюдатель» заявил себя врагом не «Библиотеки для чтения», не изданий Булгарина и Греча, а «Телескопа» и в первую очередь Белинского. «Московский наблюдатель» влачил жалкое существование, и уже в статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» Гоголь писал о его безжизненности. «Современник» Пушкина, напечатавший в первом номере вышепоименованную статью Гоголя, наносившую главный удар «Библиотеке для чтения», тоже вскоре захирел со смертью поэта.