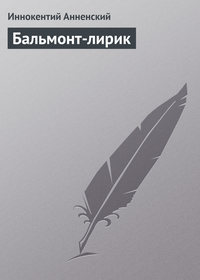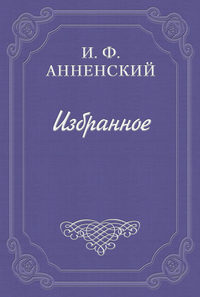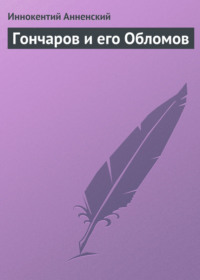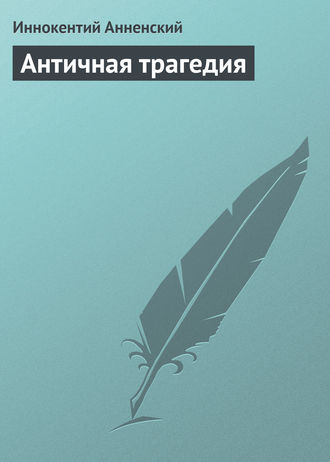 полная версия
полная версияАнтичная трагедия
О, все уже давно обдумано и решено.
Гермес
Еще раз, безумец, оглянись, дай вразумить тебя твоими же несчастьями.
Прометей
Ты докучаешь мне, но с такой же пользой, как если бы ты говорил волнам. Постарайся освободиться от мысли, что я могу от ужаса перед решением Зевса обратиться сердцем в женщину и, по-женски поднимая руки, молить того, который мне ненавистен, чтобы он избавил меня от цепей. Я далек от всего этого.
Гермес
Да, по-видимому, я говорил, и много, и совершенно бесполезно. Ты ни в чем не уступаешь и решительно не сдаешься на мои просьбы.
Как молодой едва объезженный конь, ты закусил удила и не хочешь покориться вожжам, борьба твоя лишена смысла. Вообще упрямство никогда не приносит пользы человеку, которой не хочет рассуждать. Посмотри, если ты не послушаешься моих советов, какая буря, какой неизбежный потоп бедствий готов на тебя обрушиться.
Сначала отец раздавит эти скалы огнем молний и тяжестью своих громов. Он поглотит твое тело, и его унесут отсюда каменные объятия. И долго будешь ты лежать погребенным, пока не возродишься для солнца, а тогда крылатый пес Кронида, жадный до крови орел, примется жадно пожирать обильные останки твоего тела. Незваный гость, он будет прилетать что ни день, и будет рвать твою черную печень, и не рассчитывай, чтобы эта кара когда-нибудь кончилась. Для этого кто-нибудь из богов должен занять твое место и сойти в темный Аид, в глубокие туманы Тартара.
Подумай, Прометей, ведь это не ложная и не пустая угроза, слово это ближе к действительности, чем ты, может быть, думаешь. Уста Зевса не умеют лгать, и реченное ими твердо. Подумай же, размысли, может быть, ты и не захочешь, в конце концов, предпочесть упрямство благоразумию.
Хор
Да, нам кажется, что Гермес говорит хорошо. Он хочет чтобы ты бросил упорство ради благоразумия, ради мудрости. Повинуйся ему. Стыдно Мудрому уклоняться от прямого рассудка.
Прометей
Мне известно все, что он здесь говорил и повторял. Справедливо и то, что враг терпит поношения от врага. Но пусть падет на меня крылатый змей, пусть Эфир содрогнется от грома и ярости вихря, пусть буря с корнями вырвет землю из ее устоев, пусть волны морей с хриплым клокотанием хлынут на пути небесных светил, а Зевс швырнет мое тело в самую глубь Тартара, и оно летит туда, бессильно кружась, – он не может меня убить.
Гермес
Да, так должны говорить и думать люди, охваченные безумием. И это совершенно понятно. Он болен и бредит, а ярость не допускает его до уступок.
(К хору). Но вы, которые стонете над его муками, не должны более оставаться здесь, если вы не хотите, чтобы ужасный рев грома лишил вас рассудка.
Хор
Говори иначе. Дай другой совет. Этим ты не убедишь меня. Твои слова невыносимы. Ты вызываешь меня сделать низость. С ним я хочу страдать, ненавидеть изменников. И нет недуга позорнее предательства.
Гермес
Пусть так, но я вас предупреждал. Объяты бедствием греха, не вините потом судьбы и не повторяйте, что Зевс неожиданно вверг вас в несчастье. Вы, конечно, будете захвачены вместе с ним огромной сетью бедствия, но не внезапно и не благодаря западне, а сознательно и благодаря вашему безумию.
(Уходит).
Прометей
Земля начинает колебаться… Да… Это не слова… Это так… До слуха доносится хриплое мычанье грохочущего грома. Зигзаги, сшибаясь, загораются. Вихри крутят пыль. Ветры мешаются в яростной схватке. Эфир сливается с морем. Да, Зевс открыто нападает на меня и разит меня ужасом. О, священная мать, о ты, клубящийся Эфир, ты, солнце, единое для всех. Глядите, от какой неправды я гибну.
(Проваливается).
Что может быть проще этой драмы по структуре, ужаснее по безысходному трагизму положений и характера и эффектнее по контрастам и заключению?
Я не буду говорить о втором Прометее, который у Эсхила и на сцене непосредственно примыкает к первому. Это завлекло бы меня слишком далеко. Мне надо было только хотя бы на одном примере показать моим слушателям, что такое античная трагедия и что понимали древние эллины под именем трагического. А теперь пойдем искать источников трагедии: она не вышла, как Паллада, готовою из головы Зевса.
Трагедия получила начало из легенды и культа Диониса. Когда я теперь повторяю это имя, то представляю себе Диониса в виде божественного присно отрока: того puer aeternus Овидия, который был позднейшим отзвуком праксителевского Диониса. Но чем глубже мы уходим в историю Диониса, которого под разными именами чтил весь древний мир, тем пестрее и неопределеннее мелькает перед нами этот образ, временами даже не образ, а символ – то бык, то лоза, то песня. Несомненно, что в эллинском Дионисе очень резко смешались черты двух совершенно разнородных богов: фракийского бога, культ которого отличался экстатическим характером, а легенды кровавыми подробностями, и мирного эллинского бога виноградной лозы – Дендрита с его веселыми хорами, маскарадом и шутливыми импровизациями. Афиняне, которые не любили признавать, что они что-нибудь заимствовали у других, и те делали исключение для культа Диониса. В том самом деме, откуда происходил первый известный нам трагик[7], создалась следующая поэтическая легенда:
К царю Икарию некогда пришел Дионис с дружиной, царь принял его радушно, и в награду Дионис дал ему вина, наказав только припрятать его хорошенько. Но пастухи Икария открыли лакомство по его аромату. Они попробовали вина, потом перепились и, наконец убили Икария, а тело его скрыли в яме, забросав его каменьями. И вот дочь Икария, Эригона, идет искать отца. Когда, при помощи верной собаки Мэры, она нашла, наконец, его могилу, то с горя тут же повесилась. Дионис взял всех троих на небо, где Икарий, и Эригона, и Мэра стали звездами. Но на земле смерть Эригоны вызвала массу подражаний – одна за другой стали вешаться местные девушки, и только искупительные жертвы прекратили, наконец, эту страшную болезнь.
Не надо большой проницательности, чтобы угадать смысл и бытовую сторону этого ботанического мифа. Убитый и забросанный камнями Икарий – это виноград под прессом, Эригона и эпидемия самоубийств, это ягоды нового винограда, которым обвесилась лоза, когда провяленный и выжатый виноград уже дал свой перебродивший, пьяный сок, пастухи выпили одно вино, и тогда убили Икария, т. е. стали готовить другое. Переход Диониса в Аттику из Фракии знаменуется новой его разновидностью: из вакхического, т. е. такого, который, по выражению Геродота, заставляет бесноваться, Дионис становится Лисием, т. е. разрешителем уз. В трагедию, хотя не в равной мере, вошли, конечно, оба Диониса. Вообще же и в сказках, и в кумирослужении этого бога были все данные, чтобы сделать именно его богом сцены. Во-первых, Дионис всегда является в сопровождении свиты и в самом появлении его есть уже, таким образом, зерно драмы. Во-вторых, жизнь этого бога полна приключений, полна причудливой смены страданий и торжества; в-третьих, в его служении были и экстаз, и тайна.
Еще ребенком Диониса водят густокосые нимфы, его кормилицы; потом эта горсть спутниц вырастает в блистательный фиас, т. е. дружину: там и белоногие менады с тирсами, бубнами, плющем или змеями в волосах, сатиры, полулюди с козьим хвостом и лошадиными ушами, пьяницы и лакомки, страстные музыканты и неутомимые танцоры, Пан, который изобрел свирель, фригийский бог потоков Силен, там румяный мальчик Ойнопий наливает богу вина, а Ойнос, олицетворенное вино, танцует с зажженным факелом, там целый ряд красивых нимф, и Лоза в цвету, и Головокружение, там и три божественных подруги Диониса: Опьянение, Прелесть и Мир.
Фиас Вакха, так дивно изображенный Еврипидом в одной из лирических сцен его «Вакханок», был не только сказкой; в жизни были тоже фиасы, только, конечно, не такие яркие и легкие, как в мечте: это были религиозные братства, которые, вне официальной религии, быстро распространялись по Малой Азии, Греции и Италии и заключали в своей среде и женщин, и вольноотпущенных, и даже рабов. Однако, не пестрому фиасу, а другой, более тесной и интимной и притом чисто эллинской, свите Диониса довелось положить начало театру. Диониса чтила вся Эллада, и хотя не коренной греческий бог, он именно здесь-то, вероятно, и стал богом виноградной лозы. Не было деревни, где бы сбор винограда или проба первого вина не сопровождались играми в честь Диониса, и именно в Элладе его свита получила хотя менее яркий, но зато более мирный и упорядоченный вид хора сатиров или трагов, козлов, – трагический хор.
Хор внешний, заносный, фиас имел в основе женщин – одержимость, экстаз; хор местный эллинский, куда Дионис вошел гостем, но откуда он мало-помалу вытеснил старого Дендрита, имел в основе мужское начало, – почина, изобретательности и развития; ему же и пришлось стать творческим началом трагедии. Отзвук фиаса остался в лирике да в живописи, а на сцене он мелькнул своим нарядным роем лишь под самый конец классического века драмы.
Для развития трагедии было важно и то обстоятельство, что она развилась из официальной религии, и что государственная община могла взять ее под свою опеку. Действительно, родившие трагедию хоры, как позже сама трагедия, рано сделались одной из основ власти над сердцами: потому-то тираны Сикиона, Афин, Сиракуз и Македонии и демагоги, как Фемистокл и Перикл, особенно много делали для сцены.
Легенды Диониса полны приключений, как его собственных, так и его врагов и жертв. Я напомню моим слушателям гомеровский гимн. Темнокудрый юноша в пурпуровом фаросе схвачен тирренскими пиратами. Они крепко вяжут бога, но синие глаза его только смеются. Кормчий предупреждает товарищей, что им не будет добра от этой дивной добычи, но пираты неумолимы, потому что они ждут богатого выкупа. И вот они в открытом море… Здесь начинаются чудеса.
Вдруг на быстрый и черный корабль ароматной волноюХлынула сладкая вакхова влага, и чудный повсюдуЗапах пошел от вина. И дивяся сидели пираты.Смотрят: по парусу следом и зелень лозы винограднойВниз потянулась, и парус покрылся и гроздья повислиТемною зеленью плющ пополз, расцветая на мачту.Следом на корабле появляется страшный лев. Моряки в ужасе: они бросаются в волны и делаются дельфинами, а Дионис награждает кормчего и называет себя.
В легендах Дионис почти всегда окружен врагами, причем эти враги обыкновенно борются в его лице против экстатичности его культа и вносимого им в жизнь беспорядка. Так, фракийский царь Ликург преследует с оружием в руках маленького Диониса, который, разгуливая со своими кормилицами по лесам Фракии, наполнял их слишком веселым шумом. Дионис в ужасе бросается от царя в море, на Ликурга же в наказание нападает слепота.
Фракиец убивает собственного сына, а самому себе обрубает ноги, в помрачении приняв их за ненавистные ему виноградные лозы.
Фиванский царь, Пенфей, наказан еще более жестоко: раздразнивший его Дионис мелькает перед ним в образе быка, которого тот, после отчаянных усилии, привязывает к столбу, думая, что привязал бога потом, в наказание за дерзость, Пенфей сходит с ума и в женском платье идет смотреть на тайные женские оргии Диониса, где его разрывают бешеные почитательницы бога, с его собственной матерью во главе. Превращениями и торжеством бога над людьми полны легенды всех греческих богов, но в сказках Диониса есть одна характерная особенность. Заметьте, что Дионис обманывает людей призраком своего унижения и страдания, что он увлекает их, играет с ними, дурачит их, то бросаясь от них в воду, то давая себя связывать, и что при этом его страдание и унижение только призрачное, а страдание его жертв уже настоящее.
Бытовым дублетом к превращению был шуточный маскарад, бытовым дублетом к призрачной, но ужасной по последствиям борьбе Диониса с людьми стала греческая трагедия.
Я говорил об обманах Диониса. Следующий характерный анекдот, сохраненный Плутархом, показывает, как тесно в сознании первоначального зрителя трагедии сценическая иллюзия спуталась именно с обманом.
Старик Солон, этот законодатель-счетчик, после одного из сценических успехов Фесписа, создателя трагедии, тяжко упрекает его за неправду; стуча посохом, он сердито повторяет, что, чего доброго, обман теперь со сцены перейдет и в расчеты и в договоры.
Но обратимся к культу Диониса.
В культе тоже проходят две неслиянных струи: экстатическая и освободительная. Символом первой является кровь. Символом второй – пировое вино. Первая выразилась в Агриониях и оргиях. Оргии справлялись женщинами ночью на лесистых вершинах Парнаса, Киферона или Гема и сопровождались страстным призыванием бога, кровавой жертвой и безумной пляской, а вина там, кажется, не было вовсе. С другой стороны, в Аттике, в центре Дионисий, стоял мирный культ виноградной лозы и царило вино. Уже давно было замечено, что в мифологии растение очень рано становится символом мысли, обращенной на исконные вопросы человеческого бытия. Действительно, растения с их незаметно развивающейся жизнью, расцветом и замиранием, нужной отзывчивостью на стихийные явления и красотой, не похожей на человеческую, не так легко ассимилируются в мифологическом творчестве человеческому миру, как животные, и если это можно сказать обо всем прозябающем, то к колосу и лозе, этим основам человеческого благополучия, мистическая символика оказалась особенно применимой. Хотя хлеб стал называться Деметрой, а вино Дионисом, но и колос, и вино остались священными символами, а первый, т. е. колос, создал вокруг себя стройный мир мистерий.
Аттические Дионисии представляли яркий контраст с экстазом оргий: вместо беспокойного искания бога в радении и кровавых жертвах оргий, здесь видим попытки таинственного соединения с Дионисом в символе, пире, гадании, поминовении усопших; вместо ослепления души экстазом, находим разрешение ее уз, ее временное очищение от житейской плесени. Трагедия, не чуждая экстаза оргий и дикого Диониса, более подходила к культу аттического узорешителя. Не даром же через 200 лет после ее начала Аристотель считает целью трагедии очистить душу от страстей. Мужской хор и разбавленное пировое вино, эти неизменные спутники аттических дионисий, стали источником и ареной драматического творчества. От их союза родились те импровизации запевал, которым суждено было стать зерном трагических монологов.
Самая песня трагов, дифирамб, была первоначально лишь отзвуком страстного призывания Диониса. Позже в своем недолгом расцвете дифирамб сделался блестящей музыкальной драмой, а затем мало-помалу, в качестве ее текста, спустился до роли шаблонного оперного либретто, так что в IV веке говорили уже «пошло, как дифирамб». Трагедию дифирамб отделил от себя между первым и вторым из отмеченных моментов, в тот период, когда из беспорядочной жреческой молитвы он стал делаться правильно организованной хоровой песнею, когда лиризм стал вытесняться из него, с одной стороны, интересным содержанием, а с другой игрою, т. е. зерном драмы, когда благодаря запросам на изобретательность, вымыслы, новизну уже не один Дионис, а мало-помалу и другие боги или герои стали делаться центром дифирамба, и когда, наконец, самая импровизация запевал, благодаря организации хора, стала обращаться в две раздельных задачи – творчество с одной стороны, и обучение хора и его парастатов[8] – с другой.
Но в вопросе о происхождении трагедии не надо забывать и самого свойства греческих сказок. Мифы эллинов давали много неразвитых трагедий. Илиада была полна пафоса, а ее образы и положения, независимо от наивных условностей эпического стиля (вроде повторений, постоянных эпитетов, громоздких сравнений) и местами грубой фантастики наполняют нас и теперь таким ужасом и дают нам вкусить такое чистое сострадание, что мы невольно забываем об особом драматическом культе этих эмоций. Восстановите в памяти самый яркий момент Илиады, ее трагический конец; каким ужасом веет от молчаливой, злой погони Ахилла за Гектором, в опустелом поле, в виду примолкших троянских стен, какую затем чисто еврипидовскую по своей жизненности жалость возбуждают в нас слова Андромахи о жребии ее маленького Астианакса, и с каким художественным тактом поэт заставил говорит об этом жребии именно мать.
Но эпическая поэзия не только давала поэтам материал для трагедий: она наставляла их открывать трагедии в жизни и мифах, она учила великому искусству ужасать и трогать сердца.
Не менее важным стимулом для трагического творчества сказались и исторические события. Возьмите хотя бы тот промежуток, в который уместилась организация трагедии от начала сценических агонов в 536 г. до первой победы Софокла над Эсхилом, т. е. первого успеха той сложной, психологической драмы, которая живет до наших дней. На начальной грани вы найдете падение лидийского царства, т. е. первую угрозу востока эллинской культуре; на второй изгнание Кимона из Афин, т. е. первые успехи той резко порвавшей с прошлым демагогии, которой суждено было оказать неисчислимые благодеяния человечеству и ускорить падение афинского могущества. Чего не пережила в этот промежуток Эллада, а в ней интенсивнее всех конечно, Афины! Падения царств, начала, дорогой блеск и концы тираний, опустение целых стран, сожжение городов, Марафон, Фермопилы, Саламин… Я ищу в истории трагедии не корней, а причин ее быстрого и плодотворного развития – причин, по которым из наивной импровизации на безобидную тему эллинского мифа она стала так скоро серьезной и глубокой по этическим задачам формой художественного творчества и приобрела всемирно-историческое значение.
Борьба, страдание, жертва, религиозный закон – все эти исконные элементы трагедии получают такой глубокий, такой вечный смысл именно потому, что великие трагики Эллады жили прямым или отраженным светом грандиозной трагедии человеческой жизни. Пафос, пережитый Элладой в великой борьбе, дал ей настоящий пафос, настоящее знание: он сковал иное Зевсово человечество вместо того инертного, из-за которого упрямо страдал великий титан. Мы сказали страдание: возьмем пример самый элементарный, Ореста: ребенок, на котором лежат грехи ряда поколений, груз кровавой и страшной истории, дерзает совершить величайшее из преступлений: он убивает мать; за этот страшный грех он претерпевает нечеловеческое наказание: его мучат эриннии, мучат скитаниями, безволием, безумием, бешенством, мучат, пока мука не прекращается Афиной на славу ее города. Правда Эллады и ее паладиум-ареопаг направляют ко благу людей самих эринний, этих хранительниц прометеевской мудрости, а страдание делают уроком. Мы сказали борьба: слабая Антигона борется против тирана Креонта, борется без всякой поддержки со стороны, но во имя вечного религиозного закона, запрещавшего всем народам надругаться над трупом. Она гибнет на театре, но побеждает в амфитеатре, потому что на стороне ее правда, и поэт заставил зрителей это почувствовать.
Мы сказали жертва. Нежная Алкеста решается отдать свою жизнь, чтобы продлить жизнь мужа: жизнь приносится в жертву, но не лицу, и не в безумном порыве или в силу рабского подчинения традиции, а свободно, во имя общественного сознания, для поддержки семьи, основы государства.
Нравственное значение греко-персидских войн лучше всего отразилось в двух благороднейших творениях эллинского гения: в истории Геродота и в поэзии Эсхила. Ни тени кичливости победителей или национальной исключительности, но везде и всегда на первом месте вопрос о божественной справедливости. Я удовольствуюсь одним примером. В 472 году, т. е. через 8 лет после Саламинской битвы, Эсхил ставил на афинскую сцену историческую трагедию «Персов»: в ней нет «славы победителей», а только пафос побежденных. Ксеркса победили не греки, его наказали боги. Но в пьесе является и идеал монарха, мудрого и религиозного, а потому и счастливого. Этот идеал – тень Дария, того самого перса, который начал греко-персидские войны и особенно ненавидел афинян.
II
Принято говорить, что греческая трагедия прожила 60 Олимпиад (от 61 до 120), это значит, что в течение 240 лет ставили на сцену новые трагедии. Но мы даже приблизительно не можем определить теперь, сколько за это время их было поставлено; предание говорит, что сначала требовалось в год по три трагедии, потом по шести, но были периоды, когда их ставилось по 12 и даже по 24. Сумма всех произведений более или менее значительных трагиков составляет от 1500–1600, но, конечно, этим числом далеко не исчерпывается богатство трагического творчества. Что же мы имеем теперь от этого богатства? 33 трагедии трех трагиков, появившиеся в течение 70 лет: 7 от Эсхила, 7 от Софокла, и 19, украшенных именем Еврипида (в том числе одна «драма сатиров»), да кроме того древняя литература сохранила нам около трех с половиною тысяч указаний или отрывков из не дошедших до нас трагедий. Прибавьте сюда несколько римских подражаний греческим трагикам целиком, и довольно большое количество их в отрывках, наконец расписные вазы, где живописцы могли передавать мотивы или сцены из старых трагедий, и вы получите довольно богатый материал для характеристики античной трагедии, но отнюдь не для ее истории. Лучше всего, хотя и односторонне освещен Еврипид.
Хотя триада корифеев V века и стояла, несомненно, в центре трагедии античного мира, но историку, да, пожалуй, и эстетику все же приходится пожалеть, что взамен «Персов» Эсхила, «Электры» Софокла и «Гекубы» Еврипида, судьба не сохранила нам по одной трагедии Фриниха, Агафона и старшего Астидаманта.
Фриних был самый замечательный из трагиков до Эсхила, он сделал переворот в трагедии, введя туда женские роли.
Агафон был друг Еврипида, но моложе его и принадлежал веку Платона; этот изящный поэт придумывал для трагедий новые мифы и пленял афинян утонченностью стиля и виртуозностью музыки. Это был декадент, но только не отверженный, как у нас, а напротив, бессменно венчанный. Наконец Астидамант сумел в IV веке во время упадка творчества, добиться медной статуи перед театром наряду со статуями трех корифеев V века. Но для историка были бы интересны не только гениальные и самобытные произведения трагического гения. В процессе эволюции такие пьесы являлись все же только точками.
Историку не достает, с одной стороны, фона шаблонных драм, характерных по наивной ограниченности концепции и неприкрыто выраженному направлению, а с другой стороны, произведений молодых, задорных, боевых, во вкусе сцены Электры с рабом, где Еврипид полемизирует с театральными приемами Эсхила[9]. Эволюция трагедии шла не по воле гениев, а по равнодействующей двух сил: силы вещей и традиции, с одной стороны, и гения, и критики – с другой.
В самом творчества древних трагиков, кроме их удивительной плодовитости, надо отметить три характерных черты. Во-первых, преемственность профессии: род Эсхила, например, оставался на афинской сцене более 1,5 столетий. Во-вторых, совместность работы. В писании хоров Еврипиду помогал, например, его домашний секретарь, некий Кефисофокт. Не подлежит также сомнению, что сыновья не раз переделывали посмертные пьесы своих отцов, сохраняя, впрочем, на этих пьесах славные отцовские имена. Я строго различаю, конечно, эти, так сказать, непосредственные переделки от тех позднейших, которые делались актерами, переписчиками и моралистами, и от которых теперь критике удается иногда хотя отчасти освобождать текст античных трагедий. В-третьих, деятельность драматурга была гораздо сложнее у древних греков, чем у нас. Так как трагедия вырабатывалась на почве хора и путем постепенного расширения роли его запевалы, то на драматурга силою вещей возлагалось три роли: сочинить пьесу, или сначала песню-пьесу, потом обучить ей хор и наконец или играть самому, или обучить актера (до начала V века одного, потом в течение 40 лет двух и позже трех).
Кроме того, драматург не только сочинял текст пьесы и обучал хор или актеров словам и жестам, но он должен был сочинять музыку и пляску трагедии и обучить музыке флейтиста и хор, а пляске хор или актеров. Не только первоначальные трагики участвовали в исполнении своих пьес, но даже Софокл танцевал в роли Навсикаи.
С развитием театральных профессий обучение хора и актеров могло происходить, конечно, и помимо автора, но даже в конце V века, при известии о смерти Еврипида, Софокл выводит на сцену свой хор сам. Очевидно, связь между хором и трагиком долго не порывалась. Зато античным трагикам почти никогда не приходилось сочинять сюжетов. Они делали выбор из готовых. Интересно отметить несколько точек в развитии трагических сюжетов. Трагедия начала с богов. Вначале призрачный Дионис был еще нераздельно и первым корифеем, и первым актером, Его миф стал первой трагедией, а его страдания и жертвы элементами первого пафоса. Но боги не остались в центре трагедии. И на это было несколько причин. Во-первых, Олимп Гомера был слишком ярок и каноничен, чтобы его переносить на сцену. Он годился разве для феерии или живой картины, и именно в этом виде один раз Эсхил воспользовался сценой из Илиады. В трагедии «Взвешивание жизней» на сцене являлся на минуту Зевс: он показывался над царскими дверьми на высоком выдвижном альтане[10]. У бога были в руках золотые весы, где он взвешивал жребии Ахилла и Мемнона, а по обе стороны Олимпийца на коленях стояли с мольбой матери героев, Фетида и Эос.