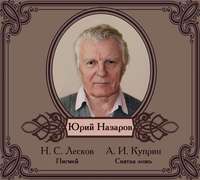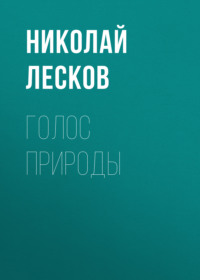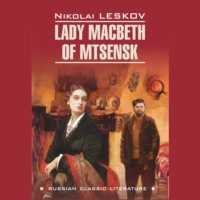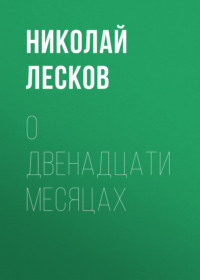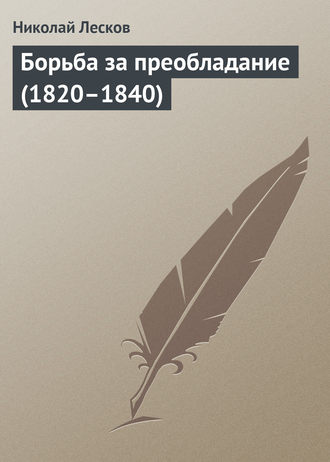 полная версия
полная версияБорьба за преобладание (1820–1840)
В одном из большого числа сохраняемых мною писем епископа Филарета Филаретова, помеченном 27 августа 1874 года, есть такая приписка: «Умер А. П. Муравьёв. Так скоро и быстро смерть его свалила, что и сам он не успел распорядиться своим добром. До конца однако же остался верен самому себе. Я соборовал его перед смертию. Он был почти в агонии, но после соборования всё-таки сказал: «благодарю, чинно совершено таинство».
Как жил он, так и угас, до последней секунды надзирая за «чинностию совершения таинств».
Духовенство русское более чем равнодушно к памяти Муравьёва и совсем не ценит его заслуг. Оно как будто понимает, что ханжеством всей своей жизни Муравьёв не мог поправить того огромного зла, которое он причинил своим самолюбивым и опрометчивым поступком с посылкою митрополита Серафима к государю для испрошения синоду «гусара».
Нет нужды, что тайности эти далеко не всем известны и до сих пор, сколько помнится, не встречали печатной оценки – у массы есть свой инстинкт, которым она отличает добро от зла.
Некоторых до сих пор интересует любопытный вопрос: что если бы Андрей Николаевич Муравьёв получил место обер-прокурора, – исполнил ли бы он своё намерение «упразднить» эту должность, или, по крайней мере, поставить иерархов выше себя и самому перед ними, как обещал: «смириться до приятия зрака раба».
Кто может решить то, что осталося тайным и неразрешённым в высших судьбах Провидения? Но насколько можно судить об исполнимости намерений по характеру и другим свойствам человека, их выражавшего, то я смею думать, что обещание Муравьёва осталось бы неисполненным.
Глава двадцать четвертая
Андрея Николаевича Муравьёва некоторые сравнивают с действующим ныне на литературном поприще князем Владимиром Петров. Мещерским. Сходство между ними действительно есть, но какое и в чём? Ведь критики духовных журналов находят сходство даже между Григорием Богословом и Шопенгауэром, или Василием Великим и Гумбольтом… Муравьёв, во-первых, был несравненно сведущей Мещерского в церковных делах и знал как св. Писание, так и историю церкви, в чём никто не дерзнёт обвинять князя Мещерского. Кроме того, Муравьёв вполне понимал нравы низшего и высшего духовенства и любил задавать страху всем духовным, тогда как князь Мещерский строг только к «модному духовенству», с воротничками и чистым бельем на виду, а к «фиолетам» он сам искательно подъезжает на особом «духовном передке» (ips. verba)[3]. Муравьёву же за то много и прощали, что он «гонял попов, да не давал спуску и архиереям» Здесь кстати расскажу, от какого случая он продолжал и унес в гроб неприязнь с митрополитом Арсением, который его пережил немного и хотел было лишить его успокоения под церковью, а зарыть в землю, как обыкновенного человека. Митрополит Арсений, объезжая епархию, однажды обедал у какого-то таращанского или звенигородского помещика, – кажется, если не ошибаюсь, у г. Млодецкого, поляка. За столом были духовные особы, сопровождавшие митрополита, и местный ксёндз. Православный же местный причет и соседнее духовенство во всё время обеда ожидали владыку на дворе, стоя у крыльца вместе с евреями, собравшимися поглазеть на экипажи и на гостя. Андрей Николаевич сделал за это выговор митрополиту без всякого послабления, а тот, чувствуя справедливость сделанного ему замечания, никогда не мог искренно помириться с Муравьёвым и завёл это до того, что даже мстил ему мёртвому. Митрополит сделал неожиданное затруднение в погребении его в склеп под Андреевскою церковью, хотя склеп этот был устроен Муравьёвым гораздо ранее его смерти и не без ведома митрополита Арсения.
Так же были исполнены резкостей, и притом совершенно неуместных, некоторые отношения Муравьёва к другому современному киевскому епископу – Порфирию Успенскому, большому и почтенному труженику, изыскания которого о Востоке должны быть высоко ценимы церковно-историческою наукою.
Выходит, что в последние дни своей жизни Андрей Николаевич из трех киевских архиереев кое-как благоволил только к одному, именно к Филарету Филаретову, да и к этому он преложил свой гнев на милость только незадолго перед смертью, и то благодаря особому расположению, которое оказывал Филарету содержащий ключ ко многим сердцам богач Павел Демидов Сан-Донато.
Таков был неуживчивый, беспокойный и претенциозный, но не лишенный некоторой смелости и отваги характер «готового», но «не состоявшегося обер-прокурора», А. Н. Муравьёва. По этому краткому, нельстивому, но и беспристрастному очерку всякий может сам умозаключить: были ли достаточные основания сожалеть, что Муравьёву в своё время был предпочтён Протасов, а потом другие, и можно ли было ожидать, что при Муравьёве христианство в России стало бы чувствоваться больше?..
Глава двадцать пятая
Из запутанной и неясной, но во всяком случае характерной истории борьбы, которую мы как могли рассказали с своими и чужими соображениями, может быть, и ошибочными, обыкновенно выводят или тщатся выводить, что благоуспешность проповеди и вообще церковного благочестия в России остановили маловерие одних обер-прокуроров и крутое самовластие других.
Верно ли это однако?
Сами мы этого разбирать не станем, так как это увлекло бы нас значительно дальше того, докуда мы метим собственно в интересах исторической заботы уберечь предания; но отметим краткое замечание, высказанное об этом г. Владимиром Соловьевым в журнале Ив. С. Аксакова.
По поводу нынешних жалоб на упадок в России «духовного авторитета», г. Соловьев емлется за достопамятное заявление епископа уфимского Никанора, который в слове на новый 1882 год откровенно, с кафедры возвестил, что «никто уже у них (епископов) больше не хочет учиться и их слушаться».
Положение епископов очень странное, но редакция «Руси» и её начитанный в церковных вопросах сотрудник усматривают главную причину этой странности всё-таки не в недостатке охраны или в слабости защиты «церковных интересов», а совсем в другом – именно в том, что («Русь» 18 сент. 1882 г., № 38) в описанном отчаянном положении «иные благонамеренные, но неблагоразумные ревнители духовного авторитета прибегают к отчаянному же средству – к признанию за русской местной (?!) иерархией привилегии непогрешимости во всех церковных делах, что составляет во всяком случае не совсем удачную пародию папизма».
Горячая преданность обоих этих лиц (Аксакова и Соловьева) интересам православия, разумеется, заставляет отнестись к их словам с серьёзною проверкою, тем более, что приведённые слова, кажется, справедливы и во всяком случае глубоко доброжелательны и искренни. А это во всяком разе те свойства, недостаток которых всего ощутительнее во всей рассмотренной нами истории.
Примечания
Впервые – «Исторический вестник», 1882, № 11, под названием «Синодальные персоны. Период борьбы за преобладание. 1820–1840».
Мещерский, Петр Сергеевич (1777–1856) – обер-прокурор Св. синода (1817–1833), сенатор.
Нечаев, Степан Дмитриевич (1792–1860) – обер-прокурор Св. синода (1833–1836), затем сенатор, действительный статский советник.
Филарет Дроздов (в миру Василий Михайлович Дроздов; 1783–1867) – митрополит Московский и Коломенский (с 1826), сторонник телесных наказаний простолюдинов; автор «Пространного православного катехизиса» и текста «Освободительного манифеста» 19 февраля 1861 г. Лесков повторял слова современников: «Николай погубил тысячи, а Филарет тьмы».
Муравьёв, Андрей Николаевич (1806–1874) – религиозный писатель, историк, автор книги «Раскол, обличаемый своею историей» (М., 1854); некоторое время «стоял за обер-прокурорским столом» (замещал обер-прокурора).
Смиренный Серафим (в миру Стефан Васильевич Глаголевский; 1759–1833) – митрополит Московский (1818–1821) и Петербургский (с 1821).
Протасов, Николай Александрович (1798–1855) – обер-прокурор Св. синода (с 1836), неоднократно управлял и министерством просвещения (1837–1840), член Главного управления цензуры (1840–50-е гг.).
Терновский, Филипп Алексеевич (1838–1884) – историк церкви, профессор Киевской духовной академии и университета, названный Н. С. Лесковым «человеком огромного ума, дивного сердца и поразительных познаний» (Письмо В. Г. Черткову от 4 ноября 1887 г.). По словам А. Н. Лескова, Терновский – большой личный друг писателя; при его горячем содействии 9 и 11 января 1883 г. в «Новом времени» была напечатана статья «Столетний юбилей митрополита Филарета», вызвавшая переполох в верхах церкви и государства. Отчасти в связи с этой публикацией Лесков 9 февраля «отчислен < … > от службы в Ученом Комитете министерства народного просвещения (по изданию книг для народного чтения), а 16 ноября < … > Терновский указом Синода лишен кафедры в Киевской духовной академии» – ИРЛИ АН СССР (Пушкинский Дом).
«Странник» – вначале журнал поместил публикацию Ф. А. Терновского «Из воспоминаний секретаря при Св. синоде Ф. Ф. Исмайлова (1829–1840)» (1882, № 9), а затем – продолжение: «Из воспоминаний прокурора грузино-имеретинской синодальной конторы Ф. Ф. Исмайлова» за 1840–1856 гг. («Странник», 1883, №№ 1, 2, 4–7).
Капцевич, Петр Михайлович (1772–1840) – генерал от инфантерии, а затем артиллерии, с 1828 – командир отдельного корпуса внутренней стражи, далее – тобольский и томский губернатор.
…два… прясла двенадцати коллегий… – два звена из соединённых между собой двенадцати близнецов – зданий (1722–1741), предназначавшихся Петром I для размещения высших учреждений по руководству государством – «коллегий» (ныне – главный корпус Ленинградского университета).
Налой (аналой, аналогий) – высокий пологий столик для размещения книг, икон и иных предметов, необходимых для богослужения.
Андрей Первозванный – апостол, согласно легенде, первый из христиан, посетивший Русь, земли полян и словен, и воздвигший крест на месте будущего Киева.
Духовный регламент Петра Великого – законодательный акт, реформировавший церковь, подчинявший ее государству и ликвидировавший патриаршество (1721). Текст «регламента» написал выдающийся проповедник, Новгородский архиепископ Феофан Прокопович (1681–1736) – поэт, драматург, теоретик словесности, личный друг Петра I.
Архиерейские наречения – официальные провозглашения кого-либо архиереем, возведения в сан архиерея.
III Отделение Собственной императорского величества канцелярии существовало в 1826–1880 гг.
Абцуг(от нем. Abzug) – карточный термин: однократное метание пары карт вправо или влево при игре в банк.
Подьячий (древнерусск.) – здесь: мелкий чиновник.
Партизаны (франц.) – приверженцы некоей партии.
Филипп Колычев (в миру Федор Степанович Колычев; 1507–1569) – игумен Соловецкого монастыря, митрополит (1566–1568), выступивший против опричнины и убитый в Тверском Отроче монастыре после отрешения от сана.
Калуер (церковнослав.) – монах, инок, чернец.
Шатобриан, Франсуа Рене де (1768–1848) – французский романист, консерватор.
…«высокий дуб развесистый»… – слова ставшего песней стихотворения А. Ф. Мерзлякова (1778–1830) «Среди долины ровныя…».
Арсений Москвин – митрополит Киевский (1860–1876).
Васильев, Иосиф Васильевич (1821–1881) – протоиерей русской церкви в Париже, писатель-переводчик, прежде упомянутый в книге Лескова «Русское общество в Париже (Письмо третье)» (1863).
Филофей (в миру Тимофей Григорьевич Успенский; 1808–1882) – митрополит Киевский.
«Православие, самодержавие и народность» – формула-концепция образования в России, утвержденная докладом министра народного просвещения графа С. С. Уварова Николаю I (19 ноября 1833).
…«даже Гросмихель опасался походить на Клейнмихеля» — этимологическая игра немецких слов («Гросмихель» – большой Михаил, «Клейнмихель» – малый Михаил), метившая в носителя немецкой фамилии графа Клейнмихеля Петра Андреевича (1793–1869) – главноуправляющего путями сообщения, члена Государственного совета, скомпрометировавшего себя служебными злоупотреблениями.
…с словами Исидора «Печется господь о Пилусе, – благовествую вам новую жизнь с Симпликием»… – ироническая констатация результата, обратного желанному. Исидор Пелусиотский (IV – сер. V в.) – причислен к лику святых, ученик Иоанна Златоуста, отшельник, позже настоятель монастыря в г. Пелусии (Пилусе) в устье Нила. Автор нескольких тысяч посланий. Симпликий – папа римский, активно выступавший против православия.
Соломон – мудрый царь Израильско-Иудейского царства (965–928 до н. э.). Ровоам – его сын и преемник, подорвавший свою власть жестокостью к народу, что вызвало распад государства на Израиль и Иудею (Библия. Третья кн. Царств; Вторая кн. Паралипоменон).
Петр Сергеевич Алферьев (ок. 1770 – ок. 1840) после Отечественной войны 1812 года управлял орловским имением помещика М. А. Страхова.
Сведенборгово толкование св. Писания — рассуждение шведского ученого Э. Сведенборга (1688–1772), создавшего теософское учение о «потусторонней» жизни и о поведении духов, о точных соответствиях («корреспонденциях») явлений земных и потусторонних, изложенное в его восьмитомном толковании Библии; русский перевод: «О небесах, о мире духов и об аде» (1863).
Феофановы слова: «о главо, главо!»… – предсмертные слова Феофана Прокоповича (см. также прим. к стр. 397).
…как лягушку из болота послом к Юпитеру… – эпизод басни И. А. Крылова «Лягушки, просящие царя».
Антоний (в миру Григорий Антонович Рафальский; 1789–1848) – митрополит Петербургский и Новгородский.
Толстой, Юрий Васильевич (1824–1878) – историк, сенатор, выпустил книгу «Списки архиереев и архиерейских кафедр иерархии всероссийской со времени учреждения святейшего правительствующего Синода», СПб, 1872.
«Униатские остатки» – последствия церковной унии (объединения) православной и католической церквей под властью папы римского в Польше и Литве (1596), сказавшиеся на западе и юго-западе России.
Никанор – Николай Степанович Клементьевский (1787–1856), митрополит Петербургский и Новгородский (с 1848).
…два вселенские патриарха… – одновременно были известны в Восточной Римской империи (Византии) в 1443–1450.
Григорий Богослов – Назианзин (ок. 329–390), «отец церкви» из Каппадокии (обл. в Малой Азии), византийский поэт-философ, ритор, автор догматических трактатов.
Василий Великий (ок. 330–379) – епископ Кесарийский, один из отцов церкви, автор «Шестоднева» – цикла проповедей на тему сотворения мира.
Чебышов, Петр Петрович – и. о. обер-прокурора Св. синода с 1768, обер-прокурор в 1770–1774.
Сербинович, Константин Степанович (1790-е гг. – 1875) – директор канцелярии обер-прокурора Св. синода (1836–1856), директор духовно-учебного управления при Синоде (1857–1859).
Эпитроп (древнегреч.) – опекун, управляющий, наместник.
Филиппов, Тертий Иванович (1825–1899) – видный чиновник (с 1889 – государственный контролер), писатель, собиратель и любитель народных песен.
Виталий – Василий Васильевич Гречулевич (1823–1885), епископ, религиозный писатель, библиограф.
Орден Владимира – учрежден Екатериной II (1782), имел 4 степени, давал потомственное дворянство, крест 4-й степени жаловался за 35-летнюю службу.
Викарий — епископ без епархии.
Ключарев, Алексей Иосифович (1821–1901) – архиепископ, проповедник, сотрудник «Московских ведомостей» М. Н. Каткова.
Макарий – Михаил Петрович Булгаков (1816–1882) – Московский митрополит, доктор богословия, церковный историк.
Голубинский, Федор Александрович (1797–1854) – протоиерей московского Вознесенского монастыря, профессор философии Московской духовной академии.
Знаменский, Петр Васильевич (1836–1917) – историк церкви.
Козьма Прутков – образ вымышленного автора создан в 1852–1863 поэтами А. К. Толстым, Алексеем, Владимиром и Александром Жемчужниковыми; ему был приписан тупо-благонамеренный «Проект: о введении единомыслия в России» (опубликован в «Свистке» № 9 – приложении к «Современнику», 1863, № 4).
…«стал на страже у Киева»… чтобы мимо его ни птица не пролетела, ни зверь не прорыскивал… – мотив былин о бое Ильи Муромца с сыном.
Зрак — образ, обличье.
Шопенгауэр, Артур (1788–1860) – немецкий философ-иррационалист.
Гумбольт (Гумбольдт), Вильгельм (1767–1835) – немецкий филолог, философ-гуманист, дипломат.
Мещерский, Владимир Петрович (1839–1914) – публицист, сочинитель обличительных романов из великосветской жизни, издатель газеты-журнала «Гражданин».
Андреевская церковь построена в Киеве Б. Растрелли в 1747–1752 гг.
Порфирий (в миру Константин Успенский; 1803–1885) – знаменитый филолог-востоковед, епископ Чигиринский.
Филарет Филаретов (1824–1882) – ректор Киевской духовной академии (1860–1877), затем епископ Рижский.
Павел Демидов Сан-Донато – видимо, ошибочное объединение двух лиц: Анатолия Николаевича Демидова (1812–1870), купившего титул Сан-Донато, и его брата Павла, мецената (1798–1840).
Соловьев, Владимир Сергеевич (1853–1900) – философ-идеалист, опубликовал в газете И С. Аксакова (1823–1886) «Русь» статью «О церкви и расколе» (1882, №№ 38–40; 18 и 25 сент., 2 окт.).
Никанор (в миру Александр Иванович Бровкович; 1826–1880) – епископ Уфимский и Мензелинский (1876–1883).
Сноски
1
жизнеописание (лат.)
2
вышивки (франц.)
3
ipsissima verba (лат.) – дословно: совершенно точно
Комментарии
1
Приняв у Муравьёва книгу, государь Николай Павлович сам «назначил его за обер-прокурорский стол в синод» (см приписку Муравьёва к 24 письму Филарета Дроздова). Считали, что этим назначением государь как бы «наметил» Муравьёва к обер-прокурорству и послал поучиться. Были уверены, что при первой смене обер-прокурора должность эту непременно займет Муравьёв. Сам он тоже, кажется, не должен был в этом сомневаться. (Прим. автора.)
2
Филарет Дроздов в этом отношении был несравненно деликатнее и не торжествовал по случаю семейного горя Нечаева. В изданных Муравьёвым в 1869 г «Письмах митрополита московского Филарета к А. Н. М.» (1832–1867), под одним письмом, писанным из Москвы 6-го июля 1836 г., есть такой post scriptum: «Здесь на сих днях ждут Стефана Дмитриевича (т. е. Нечаева). Не знаю, дождусь ли его. Не слышу, как он переносит своё лишение. О покойной можно думать с миром. Жаль его и детей». (Прим. автора.)
«Наконец, хочется мне сказать, чтобы вы поклонились от меня графу Николаю Александровичу» (т. е. Протасову). (Прим. автора.)
3
Николай Александрович Протасов занимал должность синодального прокурора с 1836 по 1855 г., т. е. в течение целых девятнадцати лет, а Нечаев всего три года (1833–1836). (Прим. автора.)
4
В воспоминаниях или записках, которые были в шестидесятых годах напечатаны в «Русском вестнике», помнится, как будто были поименованы все лица, подписавшие этот доклад. (Прим. автора.)
5
Mеня могут укорить, что, приводя в других случаях имена лиц, на свидетельство коих ссылаюсь, – здесь, где такое указание было бы всего уместнее, я употребляю неопределенное «некто». Очень об этом сожалею, но иначе сказать не могу, а постараюсь только объяснить причину. Этот «некто» был архиерей, на ближайшей родственнице которого был женат мой двоюродный дед, Иван Сергеевич Алферьев, служивший в московском сенате, а родной его брат, а моей матери отец, Петр Сергеевич Алферьев, имел обычай вести ежедневные записи всего по его мнению, замечательного. В этих записях и встречаются любопытные рассказы, которые мною теперь частью вставлены. Но приводятся они просто под такими словами «преосвященный рассказывал у брата Ивана», – или «были у преосвященного и слушали, что он говорил», – и далее самая запись, о чём был разговор. Но как звали этого преосвященного, нигде не записано, и я его не знал и не видал, да и происходило всё это в годы моего сущего младенчества. (Прим. автора.)
6
О высокопреосвященном Антонии Рафальском любопытно бы выяснить одно странное недоумение, в которое вводит литература, не согласная с фактом и с преданием. В «списке архиереев и архиерейских кафедр», который в 1872 году издал бывший товарищ синодального обер-прокурора Юрий Васильевич Толстой, Антоний Рафальский значится под № 281 с такими, между прочим, отметками: «1833 архимандрит, наместник Почаевской лавры, 1843 митрополит новогородский, 1848 ноября 4 уволен по болезни от управления, а 1848 ноября 16 скончался». Все, что касается увольнения Антония «по болезни», есть или ошибка со стороны Ю. В. Толстого, или же указание на какой-то синодальный секрет, которого не знал никто, – ни миряне, ниже само петербургское духовенство, но Толстой, которому были доступны синодальные тайности, мог знать более. Обыкновенно все думали и думают, что хотя Антоний и прихварывал недугом невоздержания, усвоенным им во время почаевского жития «при униатских остатках», но что он всё-таки умер не отставленный от митрополичьей кафедры и от места в синоде. Между тем оказывается, что он был уволен и скончался уже не митрополитом новогородским, – чего, говорят, будто не знал ни сам больной, переживший своё удаление только двенадцатью днями, ни все его окружающие, из коих многие до сих пор здравствуют и известию об удалении «зашибавшего» Антония весьма удивляются. Однако, приходится думать, что митрополит Антоний действительно был уволен, и именно 4-го ноября 1848 г, потому что в этот самый день (когда он был ещё жив) на его место был уже определен Никанор Клементьевский. Был, конечно, случай, что во вселенной одновременно были два вселенские патриарха, но то было при беспорядках Римской империи, но у нас два митрополита одновременно не могли занимать одну и ту же кафедру. Здесь, однако, имеем образец, как далеко распространялся в то время принцип «канцелярской тайны», к которой ныне обнаруживается обновлённое влечение, и, однако, никаких больших благополучий от торжества этого принципа не последовало. (Прим. автора)
7
Не знаю, следует ли этому верить. Протасов в числе прочих своих ловкостей очень умел представлять себя верующим и почтительным к церкви. Из всех обер-прокуроров едва ли не он один устроил у себя домовую церковь, в которой до самой недавней поры часто дьячил известный в своем роде эпитроп и писатель Филиппов. Тоже и о правилах: напротив Протасов первый издал так называемые «соборные правила» и «этим, а также и другими действиями в пользу православия старался приобрести расположение старца Серафима и приобрел». Это я беру из рассказа вставленного Myравьёвым между 24 и 25 письмами Филарета. Конечно, это противоречит тому, что пишет о Протасове Исмайлов, но правды в этой истории, где все наперебой хитрили, добиться чрезвычайно трудно. В шестидесятых годах нам приводилось читать в «Рус. вестнике» чьи-то любопытные записки, где эта борьба излагалась еще как-то иначе. Очень жаль что не имея полного указателя статей «Русского вестника» за те годы, мы лишены возможности сверить воспоминания Исмайлова с воспоминаниями, напечатанными в журнале М. Н. Каткова. Андрей же Н. Муравьёв в своих приписях что-то как бы нарочно путает. Напечатав письмо № 24 (от 6 июля 1836 г.), он делает такое прибавление: «Письмо это знаменует эпоху и в моем собственном быту и в делах управления церковного. Обер-прокурор Нечаев должен был отправиться на юг по болезни жены своей и на это время испросил (сам испросил), чтобы его место заступил флигель-адъютант граф Протасов, человек весьма образованный и ловкий в делах; но такое назначение военного было довольно странным и смутило архиереев». Далее говорится о Филарете Дроздове: «Он был в холодных отношениях с графом, который не имел к нему доверенности по наговорам о его мнимом мистицизме и протестантстве». Известно, что это со стороны Протасова было просто предлогом к устранению Филарета с синодального горизонта. Но если верить здесь Муравьёву, то выйдет, что Протасов был православнее самого Филарета, и тогда покор его Сербиновичем и иезуитом напрасен. Ещё ниже писано: «Члены (синода) желали, чтобы он заступил место Нечаева, ими нелюбимого, это вскоре исполнилось, когда Нечаев лишившись жены, был назначен сенатором в Москву. В то же время и мне граф Протасов испросил звание камергера за мою трехлетнюю службу» (т. е. за прошлую службу при Нечаеве)…