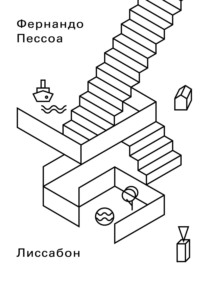Полная версия
Книга непокоя
11.
Литания
Мы никогда не осознаем себя.
Мы две бездны – колодец, глядящий на Небо.
12.
Я завидую – хотя и не знаю, завидую ли – тем, о ком можно написать биографию или кто может написать собственную. В этих впечатлениях без связи, без желания их связать я бесстрастно рассказываю свою автобиографию без фактов, мою историю без жизни. Это моя «Исповедь», и если в ней я ничего не говорю, то это потому, что сказать мне нечего.
Что можно рассказать на исповеди ценного или полезного? То, что с нами произошло или произошло со всеми людьми или только с нами; в первом случае это не новость, во втором – недоступно пониманию. Если я пишу, что чувствую, так это потому, что так я ослабляю лихорадку чувствования. То, в чем я исповедуюсь, не имеет значения, потому что ничто не имеет значения. Я создаю пейзажи из того, что чувствую. Я устраиваю праздники из ощущений. Я хорошо понимаю тех, кто вышивает из горечи, и тех, кто вяжет, потому что в этом есть жизнь. Моя пожилая тетушка бесконечными вечерами раскладывала пасьянсы. Эта исповедь в том, что я чувствую, есть мой пасьянс. Я не истолковываю их так, как тот, кто обращается к картам, желая узнать судьбу. Я их не прослушиваю, потому что в пасьянсах у самих карт нет ценности. Я разматываю себя, словно разноцветный клубок, или делаю из себя веревочные фигурки, как те, что плетут на расставленных пальцах и что переходят от одних детей к другим. Я слежу только за тем, чтобы большой палец не испортил петлю, которая ему выпадает. Потом переворачиваю руку, и образ оказывается иным. И начинаю заново.
Жить значит вязать и думать о других. Но во время вязания мысль свободна и все зачарованные принцы могут гулять по своим паркам между стежками спицы из слоновой кости с перевернутым крючком. Кружево из явлений… Интервал… Ничего…
Впрочем, на что я могу рассчитывать, имея дело с собой? Ужасная обостренность ощущений и глубокое понимание того, что я чувствую… Острый ум, который меня разрушает, и сила грез, стремящихся меня развлечь… Мертвая воля и размышление, убаюкивающее ее, словно живое дитя… Да, кружево…
13.
Убожеству моего положения не препятствуют спрягаемые слова, при помощи которых я постепенно составляю свою книгу, случайную и продуманную. Я ничтожно живу в основании каждого выражения, словно нерастворимый осадок на дне стакана, из которого пили только воду. Я пишу свою литературу так, как веду свои рабочие записи – старательно и равнодушно. Перед обширным звездным небом и загадкой множества душ, перед ночью неизвестной бездны и плачем от полного непонимания – перед этим всем то, что я записываю во вспомогательной бухгалтерской книге, и то, что я пишу на бумаге души, одинаково ограничивается улицей Золотильщиков и очень мало касается миллионных пространств вселенной.
Все это мечта и фантасмагория, и мало имеет значения, является ли мечта бухгалтерскими записями или приличной прозой. Разве лучше мечтать о принцессах, а не о входной двери конторы? Все, что мы знаем, есть наше впечатление, а все, чем мы являемся, есть чужое впечатление, мелодрама с нашим участием, в которой мы ощущаем себя, становясь своими собственными зрителями, своими богами по разрешению Муниципалитета.
14.
Знать, что будет дурным то дело, которое никогда не будет сделано. Однако еще хуже будет то, что никогда не будет делаться. То, что делается, хотя бы остается сделанным. Пусть оно будет неважным, но оно существует, как чахлое растение в единственной кадке моей парализованной соседки. Ей это растение в радость, а иногда и мне. То, что я пишу и признаю дурным, тоже может подарить мгновения отвлечения от дурного той или другой удрученной или грустной душе. Мне этого достаточно или недостаточно, но в каком-то отношении это полезно, и такова вся жизнь.
Тоска, которая включает в себя лишь предвкушение еще большей тоски; горечь оттого, что завтра будешь испытывать горечь оттого, что испытывал горечь сегодня – огромная путаница без пользы и истины, огромная путаница…
…Там, где, съежившись на скамье ожидания на полустанке, спит мое презрение, укутавшись в пальто моего уныния…
…Мир виденных в грезах образов, из которых в равной степени состоят мои познания и моя жизнь…
Сомнения, охватывающие меня в этот час, меня нисколько не тяготят и длятся недолго. Я жажду расширения времени и хочу существовать без условий.
15.
Я покорил, шаг за шагом, внутреннее пространство, которое с рождения стало моим.
Я вытребовал, клочок за клочком, болото, в котором остался в своем ничтожестве.
Я породил мое бесконечное бытие, но вытащил себя клещами из себя самого.
16.
Я предаюсь фантазиям по дороге между Кашкаишем и Лиссабоном. Я отправился в Кашкаиш, чтобы оплатить взнос шефа Вашкеша за дом, который у него есть в Эшториле. Я заранее предвкушал удовольствие от поездки, час туда, час обратно, от того, как буду смотреть на всегда меняющийся облик большой реки и на место ее впадения в Атлантику. На самом же деле, по дороге туда я забылся в абстрактных размышлениях, глядя на водные пейзажи, которые я с радостью собирался смотреть, но не видя их, а по дороге обратно забылся, осмысляя эти ощущения. Я не смог бы описать даже самую мелкую деталь путешествия, самый мелкий фрагмент того, что можно было увидеть. Я сохранил эти страницы по забвению и из противоречия. Не знаю, лучше это или хуже противоположного, и не знаю, что есть это противоположное.
Поезд замедляет ход, это Каиш-ду-Содре. Я прибыл в Лиссабон, но не пришел к какому-либо выводу.
17.
Иногда я часами предпринимаю одно-единственное усилие – пытаюсь смотреть на свою жизнь. Я вижу себя посреди безбрежной пустыни. Говорю, что вчера я существовал буквально, пытаюсь объяснить самому себе, как оказался здесь.
18.
Я спокойно, без чего-либо в душе, что являло бы собой улыбку, принимаю все большее замыкание моей жизни на этой улице Золотильщиков, в этой конторе, в окружении этих людей. Иметь то, что обеспечивает мне еду, питье и кров, и немного свободного пространства во времени, чтобы мечтать, писать – спать – чего еще я могу просить у Богов или ждать от Судьбы?
У меня были большие амбиции и обширные мечты – но были они и у посыльного, и у портнихи, ведь мечты есть у каждого: отличает нас друг от друга сила их осуществить или судьба, которая осуществляет их при помощи нас.
В грезах я равен посыльному и портнихе. Отличает меня от них только умение писать. Да, это действие, это моя реальность, которая отличает меня от них. В душе я им равен.
Я хорошо знаю, что есть острова на Юге и великие космополитические страсти и что, если бы весь мир был у меня в руке, я бы точно поменял его на билет до улицы Золотильщиков.
Возможно, моя судьба – вечно быть бухгалтером, а поэзия или литература – бабочка, которая, сев мне на голову, делает меня тем более смешным, чем красивее она сама.
Я буду скучать по Морейре, но что значит скучать по кому-то в сравнении с великими восхождениями?
Я хорошо знаю, что день, когда я стану бухгалтером торгового дома «Вашкеш и Ко», будет одним из великих дней моей жизни. Я знаю это с горьким и ироничным предвкушением, но и с благоразумным преимуществом уверенности.
19.
На берегу моря, в излучине пляжа между тропическими лесами и прибрежными долинами, из неясности бездны небытия всплывала непостоянность пылкого желания. Не нужно было выбирать между полем и лугом, и пространство уходило в кипарисовую рощу.
Сила слов, обособленных или объединенных в зависимости от созвучия, с сокровенными отголосками и со смыслами, которые расходятся ровно тогда, когда сходятся, пышность фраз, вплетенных между смыслами других фраз, порочность следов, надежда лесов и ничего, кроме спокойствия прудов в садах детства моих уловок… Так, среди высоких стен нелепой отваги, в рядах деревьев и среди страхов того, что увядает, кто-то другой, не я, услышал бы из грустных губ исповедь, которую не смогла вырвать и большая настойчивость. Никогда, среди звона копий в невидимом дворе, даже если бы возвращались рыцари по дороге, видной со стены, не было бы больше покоя во Дворце Последних и на той стороне дороги не вспоминалось бы иного имени, кроме того, что, вместе с именем колдуний, околдовывало по ночам дитя жизни и чудес, что умерло позднее.
Легкое, среди тропинок, оставшихся на траве от шагов, прокладывавших пустоши в бурной зелени, движение последних заблудившихся звучало словно шаркание, словно смутное воспоминание о грядущем. Те, кто должен был прийти, были стары, а молодые не придут никогда. Барабаны прогремели на обочине дороги, и никчемные горны висели на усталых руках, которые бы их оставили, если бы у них еще были силы что-либо оставить.
Но вновь, словно вследствие иллюзии, громко звучали минувшие вопли и собаки петляли среди видимых аллей. Все было нелепо, как траур, и принцессы из чужих грез неопределенно гуляли за пределами монастырей.
20.
Много раз в течение моей жизни, угнетенной обстоятельствами, со мной случалось, что, когда я хотел освободиться от любого их сочетания, меня сразу же окружали другие обстоятельства того же порядка, как если бы в неясной ткани вещей существовала отчетливая враждебность по отношению ко мне.
Я отрываю от горла сжимающую его руку. Вижу, что с руки, которой я ее оторвал, у меня сняли шнурок и он упал в ворот с жестом освобождения. Я осторожно откладываю в сторону шнурок и почти удушаю себя собственными руками.
21.
Существуют ли боги, или нет, мы – их рабы.
22.
Мой образ, такой, каким я видел его в зеркалах, всегда привязан к моей душе. Я не мог не быть таким сутулым и слабым, какой я есть, даже в моих мыслях.
Все во мне словно взято у разноцветного принца, вклеенного в старый альбом давным-давно умершего ребенка.
Любить меня значит меня жалеть. Однажды, ближе к исходу будущего, кто-нибудь напишет обо мне поэму, и, возможно, только тогда я начну царствовать в моем Царстве.
Бог – это наше существование и наше неполное бытие.
23.
Абсурд
Мы превращаемся в сфинксов, пусть и поддельных, и доходим до такого состояния, что уже не знаем, кто мы. Потому что, на самом деле, мы и есть поддельные сфинксы и не знаем, чем мы на самом деле являемся. Для нас единственный способ быть в согласии с жизнью – не быть в согласии с самими собой. Нелепое – божественно.
Разрабатывать теории, обдумывая их терпеливо и честно, только для того, чтобы потом действовать им вопреки – действовать и оправдывать наши действия при помощи теорий, которые их осуждают. Проложить путь в жизни, а затем делать все, чтобы по этому пути не следовать. Пользоваться всеми жестами и всеми приемами чего-то, чем мы не являемся, не стремимся быть и не стремимся выглядеть так, будто мы этим являемся.
Покупать книги и потом их не читать; ходить на концерты не для того, чтобы слушать музыку или смотреть, кто там есть; совершать долгие прогулки из-за того, что надоело ходить, и проводить дни за городом только потому, что сельская местность нам противна.
24.
Сегодня, поскольку движения моего тела сковала та старая тоска, что иногда переливает через край, я плохо поел и выпил не столько, сколько пью обычно, в ресторане или харчевне, в антресоли, которая является продолжением моего существования. И, когда я выходил, слуга, удостоверившись в том, что бутылка вина осталась наполовину недопитой, повернулся ко мне и сказал: «До свидания, г-н Соареш, желаю вам поправиться».
И при тревожном звуке этой простой фразы моей душе стало легче, как если бы на пасмурном небе ветер вдруг развеял тучи. И тогда я признал то, что никогда отчетливо не признавал, а именно: что эти официанты из кафе и ресторана, парикмахеры, посыльные на углу испытывают ко мне неподдельную, естественную симпатию и что я не могу похвастать тем, что получаю ее от людей, что общаются со мной более тесно, как бы неуклюже это ни звучало…
У чувства братства есть свои тонкости.
Одни правят миром, другие миром являются. Между американским миллионером, владеющим собственностью в Англии или в Швейцарии, и деревенским вожаком социалистов разница не в качестве, а всего лишь в количестве. Под ними находимся бесформенные мы, безрассудный драматург Уильям Шекспир, школьный учитель Джон Мильтон, лентяй Данте Алигьери, посыльный, который вчера доставил мне извещение, или парикмахер, который рассказывает мне анекдоты, официант, который только что проявил ко мне братское участие, пожелав поправиться из-за того, что я выпил всего полбутылки вина.
25.
Это, без сомнения, олеография. Я смотрю на нее, не зная, вижу ли я ее. На витрине, помимо нее, есть и другие олеографии. Она же находится в центре витрины в пролете лестницы.
Она прижимает к груди весну и смотрит на меня грустными глазами. Улыбается блеском бумаги, а лицо у нее алого цвета. Небо за ней цвета светло-синей ткани. У нее четко очерченный, почти маленький рот, а над ним, нарисованным, как на открытке, – глаза, глядящие на меня с большой горечью. Рука, держащая цветы, о ком-то мне напоминает. На платье или блузке открытое декольте с каймой. Глаза по-настоящему грустны: они смотрят на меня из глубины литографической реальности с какой-то искренностью. Она пришла с весной. Ее грустные глаза велики, но даже не из-за этого. Я отхожу от витрины, чувствуя большую тяжесть в ногах. Перехожу улицу и оборачиваюсь, бессильно бунтуя. Она по-прежнему держит весну, которую ей дали, а ее глаза грустны, как то, чего нет у меня в жизни. На расстоянии олеография, наконец, кажется более расцвеченной. У фигурки есть лента более розового цвета, обхватывающая ей волосы наверху; я ее не заметил. У нее человеческие глаза, хотя и литографические, и это ужасно: неизбежное предупреждение сознания, подавленный крик, выдающий наличие души. С большим усилием я прихожу в себя от мечты, в которой я мокну, и отряхиваю, как пес, влажность туманного мрака. И над моим пробуждением, словно прощаясь с любой другой вещью, грустные глаза всей жизни, этой метафизической олеографии, которую мы созерцаем на расстоянии, смотрят на меня так, будто я что-то знаю о Боге. Внизу гравюры – календарь. Снизу и сверху он обрамлен двумя слегка изгибающимися и плохо прорисованными черными полосами. Между верхом и низом рамки, над цифрой 1929 с каллиграфической виньеткой, выглядящей устарело и закрывающей неизбежное первое января, мне иронично улыбаются грустные глаза.
Любопытно, откуда мне, в конечном счете, было знакомо это изображение. В конторе, в дальнем углу есть такой же календарь, который я много раз видел.
Но, вследствие какой-то тайны, то ли олеографической, то ли моей, у изображения в конторе глаза не исполнены горечи. Это просто олеография. (Ее бесцветное существование, сделанное из блестящей бумаги, спит над головой левши Алвеша.)
Мне хочется улыбнуться всему этому, но я чувствую сильное недомогание. Чувствую холод внезапного недуга в душе. У меня нет сил восстать против этого абсурда. К какому окну и ради какой тайны Бога я приблизился бы, сам того не желая? Куда выходит витрина в лестничном пролете? Какие глаза смотрели на меня с олеографии. Я почти дрожу. Невольно поднимаю глаза и смотрю в дальний угол конторы, где находится настоящая олеография. Я постоянно поднимаю туда глаза.
26.
Наделять каждое переживание индивидуальностью, каждое состояние души – душой.
Девушки свернули на повороте пути, их было много. Они шли по улице и пели, и звук их голосов был счастливым. Не знаю, кем они были. Какое-то время я слушал их издалека, без какого-либо чувства. В сердце я почувствовал за них горечь.
За их будущее? За их несознательность? Не непосредственно за них – или, кто знает? Возможно, просто за себя.
27.
Литература, которая представляет собой искусство, обвенчанное с мыслью, и безупречное воплощение реальности, на мой взгляд, есть цель, к которой должно было бы стремиться всякое человеческое усилие, если бы оно действительно было человеческим, а не бесполезным проявлением животного нутра. Я верю, что произнести что-то значит сохранить его добродетель и устранить его ужасную сторону. Поля зеленее, когда о них говорят, чем на самом деле. У цветов, если их описывают при помощи фраз, которые их определяют в категориях воображения, будут такие устойчивые оттенки, которых не найти в клеточной жизни.
Двигаться значит жить, высказываться – выживать. Нет ничего реального в жизни, кроме того, что было хорошо описано. Критики мелкого масштаба имеют обыкновение отмечать, что та или иная поэма с замысловатыми рифмами, в конечном счете, просто говорит о том, что день прекрасен. Но сказать, что день прекрасен, трудно, а прекрасный день тоже проходит. Поэтому мы должны сохранить прекрасный день в избранной и придирчивой памяти и тем самым усеять новыми цветами или новыми звездами внешне пустынные и преходящие поля или небеса.
Все есть то, чем являемся мы, и все им будет для тех, кто последует за нами в разнообразии времени, в соответствии с тем, как ярко мы себе это представляли, то есть с тем, какими мы, обладающие заключенным в теле воображением, были на самом деле. Я не думаю, что история с ее большой выцветшей панорамой представляет собой нечто большее, чем поток толкований, нечеткое согласие разрозненных свидетельств. Мы все – романисты, мы рассказываем, когда видим, потому что видение столь же сложно, как и все остальное.
В это мгновение у меня столько важных мыслей, столько действительно метафизических вещей, которые я должен высказать, что я внезапно устаю и решаю больше не писать, больше не думать, а позволить лихорадке высказывания навеять на меня сон, чтобы я, закрыв глаза, как кот, позабавился всем тем, что я мог бы высказать.
28.
Дуновение музыки или мечты, что-то, что позволяет почти что чувствовать, что-то, что позволяет не думать.
29.
После того как последние капли дождя стали задерживаться на скатах крыш и на замощенной посередине улице постепенно начала отражаться лазурь неба, шум машин зазвучал иначе, громче и веселее, и послышалось, как навстречу вновь появившемуся солнцу открываются окна. Тогда по узкой улице от ближайшего угла пронесся громкий призывный крик первого продавца лотерейных билетов и гвозди, вколоченные в ящики в магазине на углу, заблистали в просвете.
Был непонятный праздничный день, официальный, но не соблюдаемый. Покой и труд сливались воедино, мне было нечего делать. Я встал рано и медлил, готовясь существовать. Ходил по комнате из угла в угол и мечтал вслух о вещах, не связанных друг с другом и невозможных – о жестах, которые забыл сделать, о недосягаемых амбициях, осуществленных без направления, о разговорах, которые были бы обстоятельными и постоянными, если бы состоялись. И в этих фантазиях, лишенных величия и спокойствия, в этой медлительности без надежды и без цели, шагая взад и вперед, я растрачивал свободное утро, а мои громкие слова, произнесенные тихо, многократно отражались в монастыре моего простого уединения.
Мой человеческий облик, когда я смотрел на него извне, был так же смешон, как смешно все человеческое, если оно сокровенно. Поверх простого облачения покинутой мечты я надел старое пальто, которое использую для таких утренних бдений. Мои старые тапочки были протерты, особенно левый. И, сунув руки в карманы посмертного пиджака, я прогуливался по моей комнате, точно по бульвару, широкими решительными шагами, воплощая при помощи бесполезных фантазий мечту, подобную тем, что есть у каждого.
Через открытую прохладу моего единственного окна все еще было слышно, как с крыш капали большие капли, скопившиеся, пока шел дождь. Все еще смутно чувствовалась свежесть выпавшего дождя. Небо, однако, было завораживающе голубым, и тучи, остававшиеся от побежденного или изнемогшего дождя, уступали, проплывая над Замком, всему небу его законное место.
Это был повод для веселья. Но что-то меня угнетало, неведомая тоска, неопределенное и даже незаурядное желание. Возможно, ко мне не спешило ощущение того, что я жив. И, когда я выглянул из очень высокого окна и склонился над улицей, на которую посмотрел, не видя ее, я вдруг почувствовал себя одной из тех влажных тряпок для мытья грязных вещей, оставленных сушиться и забытых скрученными на подоконнике и медленно покрывающих его пятнами.
30.
Я признаю, не знаю, с грустью ли, человеческую черствость моего сердца. Прилагательное для меня ценнее, чем настоящий плач души. Мой учитель Виейра[5] ‹…›
Но иногда я бываю другим, и у меня выступают слезы, слезы такие горячие, как у тех, у кого нет и не было матери; и мои глаза, пылающие этими мертвыми слезами, пылают внутри моего сердца.
Я не помню моей матери. Она умерла, когда мне был год. Все, что есть разрозненного и жесткого в моей чувствительности, проистекает из отсутствия этого тепла и из бесплодной тоски по поцелуям, которых я не помню. Я ненастоящий. Я всегда просыпался у чужой груди, убаюканный по ошибке.
Ах, меня отвлекает и терзает тоска по другому существу, которым я мог бы стать! Каким другим я был бы, если бы меня одарили той лаской, что идет от чрева и покрывает поцелуями маленькое личико?
Возможно, тоска оттого, что я не сын, сильно влияет на мое равнодушие в области чувств. Тот, кто прижимал меня, ребенка, к лицу, не мог прижать меня к сердцу. Она была далеко, в могиле – та, что принадлежала бы мне, если бы Судьба пожелала, чтобы она мне принадлежала.
Позднее мне сказали, что моя мать была красива, и говорят, что, когда мне это сказали, я ничего не ответил. Я уже сформировался телом и душой, был несведущ в эмоциях, и то, что мне говорили, еще не было новостью других страниц, которые трудно представить.
Мой отец, живший далеко, совершил самоубийство, когда мне было три года, и я его никогда не знал. Я даже не знаю, почему он жил далеко. Меня это никогда не интересовало. Я помню, что его смерть воспринималась с большой серьезностью во время первых трапез после того, как о ней стало известно. Помню, что на меня время от времени посматривали. И я глупо смотрел в ответ. Потом я ел старательнее, потому что, быть может, пока я не видел, на меня продолжали смотреть.
Я – все это, хотя и не хочу этим быть, в смятенной глубине моей роковой чувствительности.
31.
Часы, что находятся там сзади, в опустевшем доме, потому что все спят, медленно роняют четкий четырехкратный звон четырех часов ночи. Я не сомкнул глаз и не надеюсь уснуть. Ничто не отвлекает мое внимание, не давая мне спать, я не чувствую никакой тяжести в теле, которая не давала бы мне успокоиться; и я лежу в тени, которую рассеянный свет уличных фонарей размывает еще сильнее, в бессильной тишине моего чужого тела.
Мне так хочется спать, что у меня не получается думать; и не получается чувствовать оттого, что не могу уснуть.
Все вокруг меня – обнаженная, абстрактная вселенная, сотканная из ночных отрицаний. Я разрываюсь между усталостью и беспокойством и умудряюсь касаться телесным ощущением метафизического познания тайны вещей.
Порой душа моя смягчается, и тогда бесформенные детали повседневной жизни всплывают на поверхность сознания и я веду записи на поверхности моей бессонницы. В другие разы я прихожу в себя от полусна, в котором застыл, и смутные образы, обладающие невольным поэтическим колоритом, пропускают через мою невнимательность свой бесшумный спектакль. Мои глаза закрыты не полностью. Взгляд моих полуприкрытых глаз окаймлен светом, идущим издалека; это уличные фонари там, внизу, на заброшенных окраинах улицы.
Перестать, уснуть, заменить это сознание, в котором чередуются лучшие меланхолические вещи, сказанные тайком тому, кто меня не знает!.. Перестать, легко проскользнуть по пляжу, как прилив и отлив просторного моря на берегах, которые было бы видно той ночью, когда я действительно бы спал!.. Перестать, стать неизвестным и внешним, стать движением ветвей на отдаленных аллеях, мягким опаданием листьев, которое легче узнать по звуку, чем по падению, открытым морем с фонтанами вдали и всей неопределенностью ночных парков, затерянных среди постоянной путаницы, природных темных лабиринтов!.. Перестать, закончить наконец, но метафизически выжить, стать страницей в книге, пучком распущенных волос, колебанием вьюнка под полуоткрытым окном, ничего не значащими шагами по мелкому щебню на повороте улицы, последним уходящим ввысь дымом засыпающей деревни, кнутом кучера, забытым на утренней обочине дороги… Нелепостью, смятением, затуханием – всем тем, в чем нет жизни…