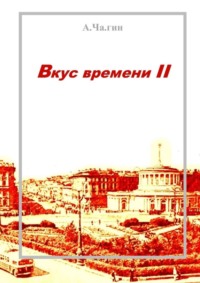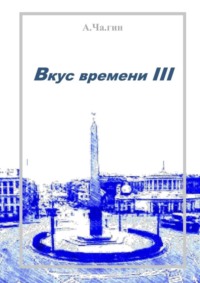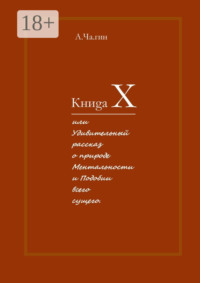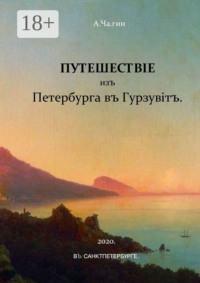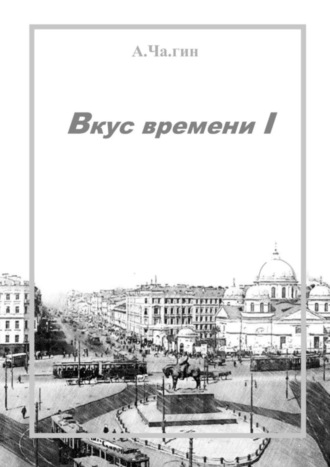
Полная версия
Вкус времени – I
А Николай П, как мог отреагировал на нечаянное и непредсказуемое происшествие в своем царстве, о чем сообщила в №4 «Нива» за 1905 год:
«Его Величество Государь Император в среду, 19-го января, осчастливил депутацию рабочих столичных и пригородных заводов и фабрик в Александровском дворце, в Царском Селе, следующими милостивыми словами:
«Я вызвал вас для того, чтобы вы могли лично от Меня услышать слово Мое и непосредственно передать его вашим товарищам. Прискорбные события с печальными, но неизбежными последствиями смуты произошли оттого, что вы дали себя вовлечь в заблуждение и обман изменниками и врагами нашей Родины.
Приглашая вас идти подавать Мне прошение о нуждах ваших, они поднимали вас на бунт против Меня и Моего правительства, насильственно отрывая вас от честного труда в такое время, когда все истиннорусские люди должны дружно и не покладая рук работать на одоление нашего упорнаго внешнего врага. Стачки и мятежныя сборища только возбуждают безработную толпу к таким беспорядкам, которые всегда заставляли и будут заставлять власти прибегать к военной силе, а это неизбежно вызывает и неповинные жертвы. Знаю, что не легка жизнь рабочаго. Многое надо улучшить и упорядочить, но имейте терпение. Вы сами по совести понимаете, что следует быть справедливым и к вашим хозяевам и считаться с условиями нашей промышленности. Но мятежною толпою заявлять Мне о своих нуждах преступно. В попечениях Моих о рабочих людях озабочусь, чтобы все возможное к улучшению быта их было сделано и чтобы обеспечить им впредь законные пути для выяснения назревших их нужд. Я верю в честныя чувства рабочих людей и в непоколебимую преданность их мне, а потому прощаю им вину их. Теперь возвращайтесь к мирному труду вашему, благославясь принимайтесь за дело вместе с вашими товарищами, и да будет Бог вам в помощь».
Не прибавить, не убавить…
Николай П, умный и добрый человек был действительно деморализован в начале своего правления и, похоже, действительно пророчествами Серафима Саровского, причем, чем дальше, тем больше, по мере подтверждения свершений.
На рубеже веков развелось неисчислимое количество политических партий, социальных движений и литературно-философских течений, которые с остервенелым убеждением доказывали истинность именно их пути развития не только родного государства, но и всего человечества в целом, и категорически отрицавшие монархию. Не стоит все их перечислять – они у современника столетия и так на слуху. Нечто подобное уже было, и опять повторится через век.
Но, НА ВЕРНОЕ, стоит привести на этот счет мнение писателя, пережившего все будущие советские катаклизмы и сформулировавшего свое мнение в разгар предстоящего «застоя». Но его книга вышла только через тридцать лет, когда мнение «инженеров человеческих душ» опять, как при царизме, смогло прозвучать и опять стало чего-то стоить. Итак, вот довольно большая цитата, но из этой песни слов уж точно не выкинешь:
«…Как известно, в последние два века в цивилизованных странах конкурируют между собой только демократия и монархия. После мировой войны и большевистского переворота на монархию навесили массу ярлыков: отжившая форма власти, отсутствие свободы, произвол, мракобесие и тому подобное. Причем подлинной критики монархии, в нашем случае – русского самодержавия как такового, нигде никогда не было.
Что есть монарх? Он обладает всей полнотой власти в государстве и осуществляет ее по единоличному усмотрению. Царя с раннего детства воспитывают лучшие учителя, готовя к государственному правлению. За его спиной – опыт отцов и дедов с их достижениями и ошибками. Монарх последователен, ибо продолжает дела своих предшественников, не претендуя на сиюминутный успех в предвидении грядущих через четыре года выборов. Царя не заботят деньги и награды. Деньги ему не нужны, а наградами распоряжается он сам. Для государства монархия дешевле демократии, хотя бы за счет экономии на бесконечных и бессмысленных выборах. По идее, царь всегда мудрее, опытнее, дальновиднее любого выборного лидера, поскольку мыслит категориями эпох, а не парламентских сроков…»
Так изложил свои логические построения писатель Василий Дмитриевич Звягинцев в конце столетия, пережив все прелести и преимущества социализма и капитализма, тирании и демократии, и Щеголевы, в общем и целом, были с ним согласны. А что может быть сильнее логики?!
Только любовь…
Что касается Щеголевых, то они на всю жизнь сохранили какую-то, похожую на детскую, обиду на Николая Александровича, так легкомысленно бросившего их на произвол судьбы.
Что ж, как в том же будущем напишет поэт: времена не выбирают, в них живут и умирают…
Но вот главная мысль всей этой книги и всего века семьи Щеголевых:
Мы знаем только то, что знаем мы сами и нам неведомы и непонятны соображения и поступки других людей и, тем более, мы не в состоянии постичь деяния тех, кто, волею Господа, стал гораздо значительней и умней нас.
А уж тем паче – судить и обижаться…
Маленький мальчик лежит в детской на своей кроватке под пологом. Он лежит тихо-тихо, боясь пошевелиться. Ведь вокруг него бродят Баба-Яга, Кащей Бессмертный и медведь с деревянной ногой. Если они узнают, где спрятался мальчик, то беды не миновать. Они умчат его в Тридесятое царство, а там не будет ни мамочки, ни нянюшки. Няня ушла в людскую есть гречневую кашу с постным маслом из общей миски, слушать, как рыгает конюх Игнат и говорить о своих семи осьминниках овса и ржи.
Владик строго-настрого наказал няне хорошо подоткнуть полог и скорее возвращаться. Главное, чтобы нигде не осталось ни единой щелочки, а то Кащей наверняка просунет в щелку свою костлявую страшную лапу с острыми когтями и схватит мальчика.
Зимнее утро. Весь дом еще спит. Только в длинном, длинном коридоре, который начинается от спальни родителей и тянется до самого зала, слышатся частные выстрелы. Это в печках сражаются с огненными змеями живущие в дымоходах гномики в бархатных колпачках. Огненные змеи выползают из сосновых поленьев, приносимых со двора Игнатом. Когда в печках темно и тихо, гномики выходят из трубы, водят хороводы и поют свои песенки под завывание ветра и стрекотание сверчков. Но как только они видят Змей-Горынычей, притаившихся в так вкусно пахнущих смолой и морозом дровах, то сразу берутся за свои ружья и поднимают пальбу.
Бедные гномики, думает мальчик, они воюют каждый день, а на войне всем так страшно и больно. А про войну мальчик узнал много плохого, рассматривая ужасные картинки в папиных журналах.
Но вот, к счастью, раздаются тяжелые шаги няни. Мальчик вздыхает с облегчением. Сегодня он спасен от врагов, а завтра положит под подушку свой браунинг. Этот боевой револьвер папа купил в Москве за один рубль, когда Владика возили представлять московским родственникам.
Няня раздвигает полог, улыбается доброй морщинистой улыбкой и при каждом движении ее большая мягкая грудь плавно колышется. Мальчик любит положить щеку и ухо на эту теплую подушку.
После умывания над большим тазом из синего эмалированного кувшина, мальчика ведут здороваться в спальню к папе и маме. Спальня находится рядом с детской. Папа и мама еще в постелях и мальчик забирается на мамину кровать. Ему хочется залезть под одеяло, но мама не позволяет – он уже в ботинках, на нем бархатные штаны. Это правда, он никогда не видел, чтобы в постели лежали в ботинках и бархатных штанах. Интересно знать, почему?!
– Доброе утро, Владющка – мама всегда первой заговаривает с малышом, пока тот ковыряет носком ботинка пол, – Как спалось, не холодно было?
– Неее… – чуть слышно блеет мальчик, но дальнейших ежедневных вопросов уже не слушает, он смотрит на две интересные штуки, которые стоят на тумбочках у кроватей.
Самая занятная штучка – это пепельница с верблюдом и погонщиком. Верблюд держит на спине будочку с коробочкой спичек, причем из-за верблюжьего горба коробочка приоткрыта. А у погонщика на голове чалма, из которой торчит шпинек для свечки. Около них имеется неглубокий колодец, куда бежит вода из родника. Жаль только, что папа бросает в колодец обгорелые спички.
Вторая ценность представляет собой фигурную подставку для часов. Но часов уже нет, от них остался только крючок, прикрепленный к арочке из кусков каменного угля. Впереди рудокоп толкает вагонетку полную угля. Но если потрогать уголь, то оказывается, что это просто крышечка, а в вагонетку мама прячет кольца и серьги, которые снимает на ночь.
В спальне полумрак. Небо немного закрывают старые липы парка, а на окнах, к тому же, висят гардины с занятными аппликациями. Мальчик уже хорошо знает обстановку спальни и кроме «штучек» там больше ничего особо интересного и нет.
У дивана, стоящего напротив кровати, холодная твердая спинка из красного дерева и на подлокотниках сверху тоже дерево и спинки кресел тоже холодные жесткие, а на плюшевой скатерти на столе неудобно рисовать. Пожалуй, еще одна ценная вещь это стаканчик на столе с зелеными стеклянными шариками. Шарики раньше закатывали в ручки для писания, а теперь не закатывают. На столе мама любит раскладывать пасьянс маленькими картами с красивыми дамами, королями и их сыновьями – валетами. А дочек у них нет. Наверное, королям нужны только храбрые сыновья-солдаты.
– Ну, беги, – через некоторое время говорит мама, – мы будем вставать.
Мальчик возвращается в детскую, там кровати уже накрыты, комната проветрена. Он смотрит в окно, выходящее во двор. Перед ним огромный каретный сарай, где хранится старинная карета, стоят другие экипажи.
Мальчик радостно вспоминает, – в сарае приятно пахнет сеном, лошадьми и бензином. Владик видит, как Игнат входит и выходит, занимаясь упряжью и держа в руках длинный черный лошадиный хвост с кожаной ручкой. Он обмахивает полость и сани, в которых папа поедет по делам.
В дальнем углу сарая скучает «американка» – это как бы шарабан на двух высоких колесах. Папа редко выезжает в этом заграничном экипаже, только в гости – к Урущевым, к Гуле Франку, к Бенкендорфам. Но, конечно, все это не самое интересное. Самое привлекательное – автомобиль. Он желтого цвета и выпущен фирмой «Бенц». Купил его дедушка Седа и подарил папе. Чаще всего на службу папа ездит в автомобиле, а мама всегда боится, что он разобьется или сломается в чистом поле. Жаль, что на автомобиле можно ездить только летом, а зимой нельзя – у него нет полозьев. У машины откидной брезентовый верх, впереди фонари и можно гудеть, нажимая на резиновую грушу. Груша похожа на уже знакомую Владику детскую клизму, но эта – автомобильная – для очень больших детей.
Когда летом все едут на авто в Тюнеж, к бабе Ане Урущевой, папа позволяет Владику управлять машиной. Но почему-то папа тоже держится за руль. А вот брат Борис управляет без папиных рук. Но мама начинает волноваться и вскрикивать, когда автомобиль вдруг виляет то вправо, то влево. Папа сердится и отбирает у брата руль. Мама и сестра Туся никогда не садятся за руль. Зато дома они крутят швейные машины, а мальчикам крутить не дают. Какая несправедливость!
Все эти размышления прерывает няня, говоря, что пора идти пить чай. Мальчик бежит в зал по коридору мимо девичьей, где хлопочет ключница Егоровна, мимо канцелярии, где работает письмоводитель Иван Дмитриевич, мимо дедушкиного кабинета, в котором слышно звяканье ложек и приглушенный разговор. Дедушка Седа уже очень старенький – ему, наверное, уже сто лет или может быть пятьдесят, он пьет чай у себя и выходит только к обеду.
В зале на столе кипит большой самовар в виде желудя. Белый хлеб нарезан на плято из пальмового дерева. На нем вырезаны незнакомые буквы и Владик знает, что они означают русские слова «хлеб» и «соль». На белой скатерти стоит молочник со сливками, масленка со свежим маслом, а для мальчика в фарфоровых рюмочках приготовлены яйца всмятку. Кусковой сахар насыпан в тяжелую красивую стеклянную сахарницу. Она в виде большого стакана синего цвета с круглыми прозрачными окошечками с нарисованными на них цветами и птицами. Мама сидит за самоваром в начале стола, папа напротив. Мальчик целует родителей, здоровается с Евдокией Лазаревной, по домашнему – Колюсей и усаживается за стол. Няня уходит к себе.
Начинается чаепитие с разговорами.
Вступает папа:
– Сегодня я еду в Мокрый Корь. Вернусь часам к шести.
Мама продолжает:
– На праздники обещали приехать Лидуся и Харкевичи. Нужно какой-нибудь дичи.
– Сейчас охоты нет, – сожалеет папа, – привезем из Каширы от Литкова дичь, от Прозоровой рыбу. Я пошлю приказчика.
Мама подключает к разговору родственницу:
– Евдокия Лазаревна, скоро явятся дети и верх надо получше протапливать.
Евдокия Лазаревна, или Колюся согласно кивает головой. Она делает это осторожно, так как парик, который она носит, может сбиться.
Кончив пить чай, мальчик крестится на красивую блестящую икону Александра Невского, и благодарит родителей.
Пора гулять. Няня уже ждет его с шубейкой в руках. Это поддевочка, крытая черным сукном. Мальчик с опаской оглядывается. Слава Богу, красного кушака нет. Он не хочет походить на ямщика.
Мальчик и няня выходят через черный ход по деревянной лестнице. На площадке перед лестницей устроены лавки и на них стоят пустые кадушки и ведра.
Няня в больших тусклых калошах, одетых на полусапожки, спускается боком, ставя ноги вдоль ступеней. Мальчика это всегда удивляет, и он показывает, как надо ставить ноги, но няня его не слушает и отмахивается.
Сегодня решено пойти к дому управляющего Александра Даниловича, там есть горка, и потом на конюшню поздороваться с выездными лошадями – Гусаром, Бедуином и Анархистом. Есть еще молодая, норовистая Бесценка, но Владик ее не любит. Анархист – это серая в яблоках лошадь брата и летом Боря ездит на ней верхом.
По двору ходят люди, мама отдает распоряжения по хозяйству. Птичница Катрена Листарова рассказывает ей как она откармливает индюка, насильно запихивая ему в клюв пшенную кашу, а для аппетита поит его водкою. Матрена сама не прочь выпить и летом балуется водкой, выдаваемой ей для лечения хилых индюшат. Так судачат в девичьей.
Когда мальчик вдоволь накатался с горки, а няня совсем замерзла стоя на месте, они заходят в дом управляющего. Дорогие гости стоят в прихожей на половике, так как няне трудно снимать калоши. Их угощают пирогом с морковью, но няня не дает есть мальчику – скоро обед.
Они подходят к конюшне. Еще издали слышно как лошади переступают на деревянном полу и пофыркивают. Двери конюшни полуоткрыты и в полумраке виднеются крупы лошадей. На стене висят хомуты, вожжи и сбруя. Стоя в дверях, мальчик по очереди окликает Анархиста, Гусара и Бедуина. Лошади косятся блестящими добрыми глазами.
Но пора домой. Обед ровно в час дня – опаздывать нельзя. И вот мальчик с вымытыми руками, причесанный снова идет в зало, где мама уже сидит около тарелки с супом. Ждут дедушку.
Появляется деда Седа. Он в бухарском халате с шелковой голубой подкладкой. Дедушка коротко острижен у него усы и небольшая бородка. Деда Седа раскланивается с мамой и Евдокией Лазаревной, целует внука, отвечает на вопросы о своем здоровье. Владик садится по правую руку от деда.
Сегодня на первое суп с гусиными потрохами и солеными огурцами, потом подают бараньи ребрышки с гречневой кашей, политой вкусным коричневым соусом. Ко второму полагается еще половинка моченого яблока. На третье мама раскладывает на десертные тарелочки по дольке миндального бланманже. Оно белое прохладное и колыхается как нянина грудь. Дедушке ставят чай в серебряном подстаканнике. Из буфета приносят вишневое варенье и бисквит.
Дед после обеда благодушен и решает «ущемить нос» современным всезнайкам:
– Милостивые государи, – обращается деда Седа ко всем, но скорее к сыну, – не изволите ли ответить на простой вопрос в котором, по моему мнению, содержится вся так называемая ваша правда мирозданья?
Катя звенит серебряной ложечкой, призывая к всеобщему вниманию и к решению за десертом столь насущного вопроса.
Знала бы мама Катя, что ответ на этот вопрос пройдет страшным ураганом по ее жизни сегодня еще такой милой и безоблачной…
– Так вот, дорогие мои, дети – и ты, Владик, тоже усиленно думай, какая вещь одновременно самая длинная и самая короткая? Самая быстрая и самая медленная? Самая раздробленная и самая протяженная? Наиболее пренебрегаемая и наиболее ценимая? Без нее не может ничего произойти! Эта вещь пожирает все что видит и дает жизнь всему сущему!
За столом наступило оживление, все предлагали свои ответы: «фортуна», «земля», «воздух», «свет».
Дед был доволен, он посмеивался себе в усы, но, вскоре, призвал всех к вниманию. Торжественно встав и чуть склонившись ко всем, он сказал:
– Это ВРЕМЯ!
И прибавил:
– Нет ничего длиннее его, потому что оно является мерой вечности; нет ничего короче его, потому что его не хватает на все наши начинания; нет ничего медленнее его, когда оно тянется; нет ничего быстрее его для тех, кто спешит; оно простирается до бесконечности в большом, оно делится до бесконечности в малом – все люди им пренебрегают и все сожалеют о его потере! Ничто не происходит без его участия, оно предает забвению все, что не достойно сохраниться для будущего, и делает бессмертными великие дела!
Наступила пауза и все, от мала до велика, почему-то переглянулись и передернули плечами, будто их коснулось ледяное прикосновение Вечности.
Даже Владик притих и чуть не заплакал. Но мама прижала его к себе, и что-то ласковое сказала ему на ушко.
Что же внесло такое смятение? Ответ на какой-то несущественный вопрос?
А дедушка, преисполненный величия, в своем восточном халате степенно уселся на свое место и оглядел всех: вот так-то! Что он этим хотел сказать, никто тогда не понял. Но скоро само Время ответило за него.
А сейчас тревога сразу забылась, и дед, находясь в ударе, уже рассказывает о событиях на германской войне, слышатся названия фронтов, имена генералов, а имя главнокомандующего – великого князя Николая Николаевича, упоминается так, будто дедушка с ним знаком запросто и вот намедни вместе ходили на Коровинские плесы на рыбалку. Владику эти рассказы страшно интересны и он запомнил фамилию генерала Жоффра, имя короля Леопольда. Дедушка чрезвычайно огорчен неудачами на фронте и наступлением немцев.
Невольно и мальчик поддается тревоге и думает, что скоро можно будет ждать врагов у нас во дворе. Тогда придется сражаться с ними, как сражаются со змеями гномики, и убивать их из его игрушечного браунинга. Жаль, что у него нет ружья.
Белоснежная колоннада Графской пристани сохраняла свою торжественную парадность, несмотря на копоть и следы от разрывов бомб. Поручик Щеголев с болью смотрел на руины еще совсем недавно прекрасного города, но «a la guerre come a la guerre», да и было просто некогда особо предаваться унынию. Англо-французский флот стоял на рейде и непрерывно обстреливал Севастополь, а войска лорда Рагана уже взяли Альму. К 1854 году Крымская война уже разгорелась не на шутку. Войска союзников, не ожидавшие серьезного сопротивления малочисленной русской армии, но неожиданно встретив ожесточенное сопротивление, пошли ва-банк.
Со стороны северной части Севастополя, где находилась батарея Александра Арсеньевича Щеголева, город был почти не виден из-за дыма пожарищ, многочисленных взрывов от стреляющих русских пушек и от падающих неприятельских снарядов. И весь этот страшный театр – Севастопольскую бухту, город и окружающие горы покрывал сверху давящим куполом неясный, но зловещий гул, подобный рокоту разбуженного вулкана.
Благословенный Крым на свое несчастье в очередной раз явился яблоком раздора великих держав. Поручик Щеголев, являясь строевым офицером и знатоком российской истории, хорошо понимал что как и сегодня, так и в будущем, брегам Тавриды суждена неспокойная жизнь из-за своего стратегического положения, а также из-за вожделенной сказочной красоты и плодородства этого российского полуострова. Он мог понять и объяснить для себя мотивы, двигающие европейскими государствами-членами коалиции, но вот вероломное поведение Северо-Американских Соединенных Штатов – молодой республики, которой Россия когда-то одной из первых протянула руку помощи, он не мог постичь и считал бесчестным. Секретные донесения, к которым поручик имел доступ, сообщали о финансировании неприятеля американцами и об их интересах к получению дешевых концессий в поверженной России.
Ну какие интересы у заокеанского государства могут быть на другой стороне света? Но эти размышления посещали Щеголева в короткие моменты передышки, в разговорах с офицерами штаба иногда можно было высказаться на отвлеченные от боевых действий темы.
Поручик и представить себе не мог, насколько распространятся интересы этой заокеанской страны уже в следующем столетии и как бессовестно они будут претворяться в жизнь. Первый звонок для всего мира прозвенел, но его мало кто услышал.
Здесь же, на Северной стороне Севастополя, на редутах под грохот пальбы, Щеголев на почве «стратегических» размышлений сошелся с молодым офицером, графом Львом Толстым, не предполагая однако, что перед ним будущий великий писатель и что вскорости они будут жить поблизости друг от друга в Тульской губернии, поддерживая знакомство на поприще общественных дел. Лев Николаевич сподвиг Щеголева на покупку имения поблизости от своего родового гнезда – Ясной поляны, и они, молодые офицеры, предвкушали свои совместные мирные чаепития и вечерние философические беседы…
Но сегодня еще предстояли дела далеко не мирные – по всей видимости, англичане готовились к решительному штурму. Батарея Щеголева, находившаяся на возвышенности у местечка Уч-куй на левом берегу крымской речки Бельбек, была почти полностью разрушена. Неприятель подбирался все ближе и ближе, и уже были видны красные мундиры английских солдат. Последняя русская пушка еще изрыгала дым и пламень, но все понимали, что это конец, и следующий снаряд или пуля уж точно будут по их души…
– Что может нас уберечь от неминуемой гибели, чудо?! – этот вопрос как тяжелая черная туча висел над всеми.
Но для поручика спасение пришло! Оглушительно рванула бомба у лафета, и взрывной волной Щеголева отбросило за бруствер.
– Вот и все, Господи… Прими… – успел прошептать Александр и провалился в бездонную пропасть. Небо сомкнулось, свет угас вместе с сознанием. Осколок бомбы, положившей чуть ли не всех оставшихся в живых, пронзил Щеголева насквозь, но спас от смерти безвозвратной.
А русский город Севастополь, теряя каждую минуту десятки человеческих жизней, обагряя море кровавыми пожарами и сгорая живьем, продержался еще почти год. Ему еще предстоит в грядущем пережить и более страшное разорение, выстоять и выжить, в отличие от своего древнего предка славного города Херсонеса Таврического, павшего когда-то под натиском всего лишь первобытной татарской орды…
Все это частенько рассказывал дедушка Александр Арсеньевич в семейном кругу, прибавляя к своему увлекательному повествованию шумовые эффекты и широкие жесты, демонстрируя размах шеренг при атаке кирасиров в пешем строю.
Подав в отставку после ранения, Щеголев, благодаря своим замечательным человеческим качествам, а также преумноженным родительским капиталам и лихому боевому прошлому, стал одним из самых важных и уважаемых людей не только во всем Крутогорье и его окрестностях, но и, пожалуй, во всей губернии. А такое задаром не дается, и даже маленький Владик понимал, что уважение надо еще и уберечь своим хорошим поведением.
От севастопольского времени сохранились две реликвии – пожелтевшая фотография совсем молодого дедушки в военном мундире и шкатулка-нессесер, пережившая не только своих хозяев, но и весь ХХ-й век.
Несессер молодой поручик возил повсюду с собой, так как в нем заключался набор самих наинеобходимейших предметов для офицера в бою: хрустальные флаконы с духами и одеколоном, спиртовка, употребляемая при завивке усов, крючки с ручками из слоновой кости, которыми натягивали сапоги. Граненые флаконы, дробящие свет на тысячи искр и вещицы из слоновой кости, отполированные руками деда, являлись свидетелями больших событий в жизни России, когда-то они внимали грохоту войны 1812-го года, стонам раненых и кликам прославленных полководцев, а потом и крымским сражениям. На крышке шкатулки-нессесера, имеется пластинка с фамилией деда. Куплена была шкатулка в Москве в незапамятные времена, но изготовлена все в той же воинственной Англии.
Семейство Щеголевых происходит из рязанских старожилов, но Александр Арсеньевич и его брат, после смерти родителей продали рязанское имение Перевиц, и дед по совету сановного друга на свою долю наследства купил имение в Тульской губернии, недалеко от Каширы на притоке реки Осетр. Ему видно приглянулась жирная земля, река, хороший лес, просторный дом екатерининских времен и большой липовый парк.
В свой новоприобретенный дом Щеголев ввел жену родом из Табуевых. Ее звали Александрой Алексеевной и она очень рано умерла. Когда Владик подносил ко рту чайную или столовую ложку с монограммой «АТ», то вспоминал бабушку, так благожелательно напоминающую о себе, хотя внуки ее никогда и не видели. Это столовое серебро она получила в приданое, а младшим Щеголевым оно досталось по наследству.