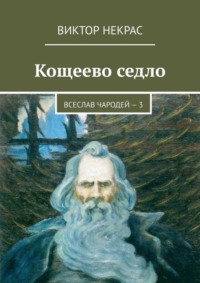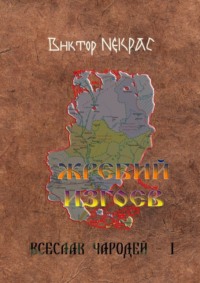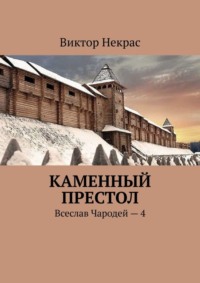Полная версия
Земля последней надежды – 1. Дети конопатого бога. Всеслав Чародей 2.1.
Всеслав вживе вообразил себе, как рыжая разбойница крадётся меж омётов на репище, потом долго стоит у отворённой калитки, не решаясь шмыгнуть во двор, усиленно нюхая воздух, и вздрагивая при каждом скрипе петель и при каждом хлопке мотающегося туда-сюда воротного полотна. Как, наконец, решась, стремительно проскакивает через калитку и начинает кружить по двору, нюхая следы и рыскать опричь стаи, стараясь держаться подальше от собачьей будки и нарочито не обращая внимания на рвущегося с цепи кобеля. А потом, забравшись по сугробу пологой загате на кровлю хлева и найдя там едва заметную прогнившую дыру, не залатанную всё тем же полоротым холопом, нырнёт внутрь, учуя из дыры живой дух – и встанет кровавая потеха сквозь истошный вопль гибнущей птицы!
Княжич так задумался о приключениях лисицы, глядя в пространство перед собой и бездумно улыбаясь, что не расслышал шаркающих шагов наставника. Холоп в углу чуть шевельнулся и предупредительно кашлянул, только то и спасло от оплошки. Всеслав вздрогнул, выпрямился, услышал шаги в сенях и, в досаде закусив нижнюю губу, протянул руку к книге.
«Псалтырь».
Чужое, хоть и знакомое слово отдалось в памяти гулким ударом вечевого била, Всеслав поморщился, но руки уже привычно откинули застёжку и перевернули крышку, и впрямь весящую немало. Как боевая рукавица, – подумалось мельком, и княжич сам подивился пришедшему сравнению. Страницы Псалтыри были под стать самой книге – пожелтелая от старости харатья со старательно выписанными буквами и прорисованными заставками. Всеслав невольно усмехнулся, вспомнив, как в первый год обучения он вот так же во время отсутствия наставника, едва умея писать, вздумал нарисовать себя верхом на коне и с мечом в руке на полях «Часослова», и как пресвитер Анфимий потом сокрушённо хлопал себя ладонями по бокам, повторяя непонятные слова: «Самого равноапостольного Мефодия „Часослов“!». Каждое слово в отдельности было понятно, а вот всё вместе – нет. Как и сокрушения наставника, как и прищуренный, словно прицельный (не прицельный, нет! мнихи не сражаются, не целятся, не стреляют! для них это грех!) взгляд епископа Мины, непонятный. Тогда – непонятный. Сейчас Всеслав понимал и слова Анфимия, и его опечаленность, и каждый раз при встречах с наставником его охватывала странная неловкость, хотя сам Анфимий тот случай вспоминал не иначе как со смехом. И только взгляда Мины Всеслав по-прежнему не понимал. Пожалуй, если бы Мина ещё раз взглянул на него ТАК ЖЕ, он, Всеслав, понял бы. Но епископ избегал встречаться взглядом с княжичем, словно знал о нём что-то стыдное или опасное (для него, Мины, для церкви, а то и для Руси всей опасное!) и боялся выдать это взглядом, боялся, что и он, Всеслав, поймёт это и узнает тоже.
Скрипнув давно не мазаными петлями, отворилась дверь, и через порог переступил пресвитер Анфимий. Остро глянул на Всеслава, словно проверяя, чем занят ученик, кашлянул удовлетворённо, сбросил длинную серую свиту, оставшись только в чёрном подряснике, и прошёл к столу. Всеслав притворился, что читает, даже губами зашевелил, хотя буквы плясали перед его глазами, и он не мог понять ни слова из тех, по которым сейчас бегал его взгляд.
– Оставь книгу сию, чадо, – добродушно сказал Анфимий. – Мы уже достаточно по ней занимались, сегодня у нас будет иное занятие.
Всеслав с нескрываемым облегчением вздохнул, отодвигая «Псалтырь». Какое бы занятие не придумал для него наставник, вряд ли оно будет скучнее чтения этого сборника непонятный славословий. И как только бог их терпит? – мелькнула крамольная мысль, но Всеслав постарался запихать её подальше, чтобы не стала заметной.
Анфимий поднял крышку огромной укладки, тяжёлой, резного дуба с железной оковкой, замер на мгновение, разглядывая внутренность дощатого короба, словно отыскивая нужное, потом наклонился и вытянул изнутри длинный чехол твёрдой, потемнелой от старости кожи. Положил его на стол, взял со стола «Псалтырь и вновь наклонился над укладкой, размещая книгу внутри. Чехол был длинный и круглый, и Всеслав сразу догадался, что там, внутри – свиток. Скорее всего, харатейный. Тоже должно быть, жёлтый, а то и тёмный от старости.
Пресвитер мягко опустил крышку укладки, с заметной натугой удерживая её на весу, и поворотился к столу. Раздёрнул шнуровку чехла и вытянул наружу свиток. Всеслав удовлетворённо улыбнулся. Оставалось теперь только пожелать, чтобы в этом свитке оказалось что-нибудь любопытное или полезное.
Свиток, едва слышно шелестя, развернулся на столе, и первые, заглавные буквы бросились в глаза княжичу.
– Правда роусьская, – прочитал он, разбирая витиеватые буквы, и поднял на наставника обрадованные глаза. А пресвитер только вздохнул и кивнул – да, мол, вот и пришло тебе время. – Суд Ярославль Володимерич.
Против ожидания, харатья с записанным на ней законом, оказалась вовсе не старой, без царапин и пятен, а письмена – довольно свежими, не потемнели и не расплылись. Всеслав несколько мгновений обдумывал увиденное. Он отлично знал, что всего двадцать лет прошло с той поры, как киевский князь Ярослав, отцов стрый, велел собрать и записать все законы. «Чтобы никто из судей не мог бы исказить закона и судить неправо», – передавали потом послухи. Когда же отец с Ярославом мирились, заключали ряд, после которого к Полоцку отошли города Витебск и Всвячь1 (отцу тогда было едва двадцать пять лет, а самого Всеслава ещё и вовсе на свете не было) великий князь в дар на заключение мира передал своему строптивому сыновцу список «Русской правды». «Неужели тот самый список и есть?» – с замиранием души подумал Всеслав, касаясь харатьи кончиками пальцев, не в силах отделаться от ощущения, что его сейчас касается само время, то, которому подвластно всё, даже и боги… «и бог!» – поправился княжич, покосившись на пресвитера – не догадался бы наставник, о чём думает его ученик. За упоминания старых богов полагалось наказание, и даже и сам князь Брячислав не смог бы его отменить, и пестун Брень Военежич тоже – отдавая сына в учение пресвитеру Анфимию и епископу Мине, Брячислав пообещал не вмешиваться в его учение.
Старых богов Всеслав знал – пестун Брень часто поминал их, а кое-что и рассказывал. Хотя рассказывать он умел хорошо, но не любил – чаще всего на вопросы про Перуна и Велеса он отворачивался со словами: «Я же не волхв, Всеславе», а его сын, погодок и друг Всеслава Витко, с которым они вместе проходи ли войскую и державную науку, только насмешливо скалил зубы. Впрочем, и уклончивость Бреня была понятна – гридень сам был крещён, и поминать старых богов и для него было грехом. А Всеслав в ответ только закусывал губу – до него уже не раз доходили слухи, что мать родила его «от волхвования», но на прямые вопросы (он несколько раз вроде как невзначай заставал таких сплетников и спрашивал в лоб) сплетники мешались, краснели, начинали экать и мекать, отговаривались какими-то ничего не значащими словами. Отца Всеслав про такое спрашивать стеснялся, матери же в живых уже не было, а когда была – Всеслав был ещё слишком мал. А и была бы она жива – вряд ли бы осмелился спросить. Вот и старался княжич стороной хоть что-то узнать про таинственное «волхвованье», про Ту сторону и приходящие с неё силы. Но знал пока что мало. Очень мало. А наставник Анфимий при первом же вопросе Всеслава побледнел, словно увидел какое-нибудь чудище на месте своего ученика. И Всеслав зарёкся спрашивать такие вещи у пресвитера. А уж про епископа Мину и речи нет – его Всеслав почему-то слегка побаивался, словно чуял в нём, епископе, что-то зловещее.
– Читай, – улыбаясь, велел Анфимий, садясь на лавку рядом с учеником.
– Аже оубиеть муж мужа, то мьстити брату брата, любо отцю, ли сыну, любо братучадо, ли братню сынови; аще ли не будеть кто его мьстя, то положити за голову осемьдесят гривен, аче будеть княжь моужь или тиоуна княжа; аще ли будеть русин, или гридь, любо купець, любо тивун бояреск, любо мечник, любо изгои, ли словенин, то сорок гривен положит и за нь, – нараспев прочитал княжич первую статью и несколько мгновений смотрел ещё на текст, вникая в суть и повторяя шёпотом отдельные слова.
– Понял ли, о чём? – Анфимий смотрел на княжича, подперев щёку ладонью.
– Понял, наставниче, – кивнул княжич.
– Тогда вот тебе бересто, вот писало и чернила. Перепиши.
Всеслав склонился над куском бересты, терпеливо скрипя писалом, а пресвитер Анфимий задумался, глядя на стриженную в кружок тёмно-русую голову ученика.
Миновало уже почти десять лет с того жуткого дня, когда они с епископом Миной стояли на крепостной стене детинца, и впору было бежать сломя голову, бежать, безумно запрокинув лицо, а внизу, под стеной, на площади перед княжьим теремом творилась сущая бесовщина. Пылали костры, плясал волхв с кудесом в руке, рокотал кудес и лилась в огонь кровь баранов, коней и быков. А разгневанное небо отвечало рокотом и ударами грома, невегласы же радовались и кричали, принимая божий гнев за благоволение своих демонов. А в княжьей бане кричала, надрываясь, роженица – полоцкая княгиня Путислава, дочь дреговского князя Грозовита менского. И волхв тоже был дрегович, пришелец из Менска, в котором и о сю пору (стыдно и выговорить даже!) нет ни единой христианской церкви, не крещён народ, и сам князь, говорят, в язычестве прозябает. И не княгиня ль этого волхва в город призвала?! И ведь вроде пришёл он один (или с одним-двумя холопами, что всё равно что один!), а враз послушались его, и побежали за дровами, приволокли скотину на забой, и барана, и коня княжьего любимого, и двух полудиких быков, в которые была примешана кровь туров и зубров, и народ набежал… силён враг человеческий, и сколь далеки ещё от Христа души невегласов здешних, лесовиков полудиких! Сколько трудов предстоит ещё приложить ему, пресвитеру Анфимию и епископу Мине, и другим полоцким христианам, которых, по правде-то сказать – горсть. Даже и князья до сих пор носят языческие имена, про христианские, крещёные вспоминая только в дни тезоименитства да престольных праздников. Вон, даже сын князя, крещёного во Христе, и то – носит на шее языческий оберег, не тем ли самым волхвом сделанный при его рождении, смеет выспрашивать (у него, Анфимия, пресвитера выспрашивать!) про демонов языческих и дерзает спорить со Священным писанием.
И Анфимий остро вспомнил вдруг, как год тому княжич вдруг показал свой норов.
Они тогда как раз читали Книгу Бытия, и закончили описание Всемирного потопа, когда княжич, то и дело морщившийся, словно от какой-то неприятной или навязчивой мысли, вдруг сказал:
– Наставниче (Анфимий никак не мог добиться от Всеслава обращения «отче» – княжич каждый раз упрямо повторял, что его отца зовут Брячислав, а не Анфимий), дозволь спросить? – и после молчаливого разрешения пресвитера спросил. – А зачем он их утопил?
– Не он, а Господь, – строго поправил пресвитер, хмурясь. – Как это зачем?! Ты же сам читал!
– Нет, это я понял… – Всеслав, однако же, упрямо мотнул головой. – Но всё ж…
– Что? – Анфимий, как мог, умерил гнев.
– Почему – всех?!
– Нууу… – протянул пресвитер, лихорадочно пытаясь отыскать ответ. Ну и вопросики у этого дитяти! И тут же обругал себя – в книгу загляни, дурило! – А ну, глянь, что там про то написано!
Всеслав немедленно склонил голову к книге:
– И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своём. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их.
Княжич смолк, ошалело мотнул головой и снова вопросительно посмотрел на Анфимия.
– Что, опять не понял? – вновь построжел пресвитер. – Все мысли и помышления сердца их были зло ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ. Вот за это и покарал господь…
– Всех? – переспросил Всеслав ошеломлённо.
– Да, всех, – кивнул пресвитер. – Опричь Ноя и его семьи. Они были праведники.
– А остальные…
– А остальные были грешники.
– Что, и дети? – неверяще спросил княжич. – И младени несмышлёные? Они ж тоже погибли в потопе. И скоты, и гады, и птицы… Их-то ЗА ЧТО?
Анфимий онемел. Он не знал, что ответить.
Не знал.
А Всеслав, меж тем, отложил писало и, подняв голову, сказал:
– Я переписал, наставниче.
– Ладно, – мягко ответил Анфимий. – Отдохни пока.
Да.
Тогда он так и не смог ответить княжичу, который своими словами смог посеять в нём сомнение (нет, нет! не смог! не может ребёнок такого!) в вере. И потом, когда урок закончился, и княжич вместе с холопом ушёл обратно в детинец, он, Анфимий долго молился, упрашивал господа наставить его на путь истинный, и внушить ему, как правильно ответить дитяти, как не отворотить его от лика господня.
Впрочем, на следующий день Всеслав уже не повторил своего вопроса, и он, Анфимий, вздохнул с облегчением, посчитав вопрос княжича за мгновенный каприз, о коем забывают на другой день. Недостойна была та радость, но он, пресвитер, ничего не мог тогда с собой поделать. В конце концов, может, такова и была божья воля, о которой он умолял ночью – чтобы княжич забыл о том, что спрашивал.
И потом, когда они читали главу об истреблении Содома и Гоморры, как он боялся, что княжич снова спросит о том же. Но Всеслав смолчал, хотя и опять морщился во время чтения. Видимо, понял уже тогда, что ответа не будет, что он, Анфимий, не сможет ему ответить.
И не захотел унижать учителя.
А может и не так, – тут же возразил себе пресвитер. – Может, он теперь просто презирает меня.
А Всеслав вдруг спросил, не поднимая головы:
– Наставниче, дозволь спросить?
Сердце захолонуло. Как тогда! Опять, как тогда! Что же он спросит теперь?!
– Спрашивай, чадо.
– А какая вера самая правильная?
– Ты чего, чадо? – изумился Анфимий. – Наша, конечно. Православная!
– Значит, избранный народ это мы, русь?
– Почему? – непонимающе спросил Анфимий. – С чего ты взял?
– Ну как с чего? – в свою очередь удивился Всеслав. – Ведь мы же сами возжелали стать христианами, ты это мне сам говорил. Князь Владимир Святославич, мой прадед, он же даже воевал с Царьградом, чтобы окреститься! Ведь так! Значит, господь должен любить нас больше, чем остальных…
– Ты не прав, сыне, – покачал головой пресвитер и привычно усмехнулся, видя, как Всеслав привычно же дёрнулся, но смолчал на обращение «сыне». – «Избранный народ» означает совсем не то, что ты подумал. Оно значит, народ был избран господом, чтобы в нём родился человек, сын божий, пророк, который смертью своей искупит грехи всех людей.
– Значит, избранный народ – иудеи? – подавленно спросил Всеслав.
– Ну да.
– Но зачем тогда?
– Что – зачем? – опять не понял пресвитер. Этот мальчишка сведёт его в могилу!
– Зачем тогда мы крестились? – непонимающе ответил Всеслав. – Ведь если бог избрал иудеев, значит, и сын его – иудей. При чём тут мы? У нас своя вера была.
А все иные веры – они неверны. Ложные.
– Почему? Откуда это известно?
– Потому что так сказал бог, – раздражение в голосе всё-таки прорвалось наружу. – Моисею на горе Синай, когда избранному народу были дарованы скрижали с заповедями. Первая заповедь гласит…
– Я помню, – угрюмо бросил Всеслав. – Я бог твой, бог отцов твоих, да не будет у тебя никаких других богов кроме меня. Но ведь он это сказал иудеям! Не нам, руси!
– Иисус, учитель наш, погиб за грехи ВСЕХ людей, – сдерживая готовое прорваться раздражение, сказал пресвитер. Ей-богу, будь на месте этого мальчишки какой-нибудь посадский альбо боярич… пресвитер бы давно уже потребовал его высечь или епитимью какую наложил бы на него. Но Всеслав был княжич. Анфимий не боялся гнева Всеславля отца, нет. Он боялся иного. Боялся, что наказание окончательно отворотит упрямого мальчишку, и без того нетвёрдого в вере, от христианства в объятья языческих демонов, в нечестие. Тем более, он прекрасно помнил тот весенний день, когда родился этот настырный мальчишка. – Всех, понимаешь.
– Что, и мои?
– И твои.
– А откуда он узнал, что я – буду. И что у меня грехи будут. И какие они будут? Это ж тысячу лет назад было.
– Он искупил твои грехи заранее, – Анфимий сжал зубы. Мальчишка явно испытывал его терпение.
– Ну да, – в его голосе послышалось недоверие, смешанное с радостью. – Я что, теперь грешить могу невозбранно?
– Ты… – Анфимий задохнулся.
– А что? Раз мне все грехи отпущены…
Всеслав вдруг вскочил на ноги, отпрянул назад.
– Вон, – прохрипел Анфимий, садясь на лавку и рванув ворот подрясника. – Вон отсюда, демонское отродье!
3. Дреговская земля. Окрестности Менска
Зима 1041 года
Зимой в лесу тихо. Особенно в таком дремучем, как в землях кривичей. Дремлют в морозном сне матёрые сосны и ели, закутались в снежные шубы и шапки. Застыли в недвижности голые дубы и берёзы, вспоминая в тягучем и тоскливом зимнем сне буйную весну, жаркое лето и яркую тихую осень. Не скрипит снег, и только лёгкий ветерок иной раз качнёт верхушки деревьев, сбрасывая в сугроб снежные шапки. Выглянет сторожко зверь да и сгинет тут же – добычу искать альбо от ворога прятаться.
Старый волк сторожил добычу – с утра лежал под огромной ёлкой, – только уши торчали из сугроба. Хоть и говорят, что волка ноги кормят, а только подкралась к старому охотнику нежданная немочь, сил не хватает рыскать весь день. Вчера он приметил у тропки заячьи следы и теперь ждал.
Заяц выскочил на поляну неожиданно, остановился на середине, заме на миг, сторожко озираясь посторонь. Волк начал было неслышно приподыматься, но тут заяц, заслыша что-то, стремительно метнулся в сторону, проскочил меж двух берёз и дал стрекача. Волк насторожился – теперь его ухо различало невдали какой-то неясный шум. Тот, что всегда сопровождал человека.
Волк беззвучно оскалился, приподняв верхнюю губу и показывая пожелтелые, но всё равно страшные клыки. Поднялся и неслышно канул в низкий разлатый ельник – теперь здесь зверья долго не дождёшься.
Удобные розвальни мчались по лесной дороге, подпрыгивая на ухабах и скользя на широких раскатах. Дробный топот коней дружины тонул в снегу, кони взбивали снег, разбрасывали в стороны. Изредка по реке слышался гул и тяжёлый треск, лёд словно чуть качался – ворочался, вздыхая во сне, речной хозяин.
В какую иную пору Всеслав скакал бы верхом – быстрее бы вышло. Да только перед тем, что ему ныне в Менске предстояло, лучше в дороге отдохнуть.
Звал Всеслава в Менск волхв Славимир. Зачем звал – невестимо, да только князь, хоть и мальчишка мальчишкой, и сам догадывался. Не глупый.
Встреча с волхвом его не пугала. А чего пугать-то? Он, чать, не людоед, не упырь, волхв-то. Его, крещёного, не загрызёт. Да и не крепок в вере христианской княжич Всеслав, в церковь на аркане не затащишь. Отец, хоть и сам не крепче, а весь извздыхался.
Впрочем, про настроения Всеслава, опричь отца, пока что ведали в Полоцке всего двое-трое бояр, да с десяток гридней, которые и сами тайком старой веры держались. Ничего, рано или поздно всё изменится, – мрачно подумал Всеслав, кутаясь в тяжёлую медвежью полсть, – благо есть на кого опереться.
А отец ладит в Полоцке собор каменный строить, – сумрачно подзудил княжич сам себя. Софийский, стойно царьградскому, киевскому альбо новогородскому. Думает через то престол свой с киевским да новогородским уравнять, вровень стать с Ярославом Владимиричем.
Всеслав криво усмехнулся, вспоминая слова наставника, гридня Бреня, который киевского князя почти ненавидел.
– Думает князь передолить киян через постройку собора, – задумчиво говорил Брень, стругая ножом ветку и бросая стружки в огонь. Огонь трещал, стреляя угольками, разгонял ночную темноту.
– А ты сомневаешься, наставниче? – спросил удивлённо Всеслав. Он привык, что слово его отца было почти законом для большинства окружающих взрослых.
– Мысль хорошая, – усмехнулся гридень, переломил палку о колено и бросил в костёр обломки. – Вот только все эти побуждения ничего не стоят без ратной силы.
– У отца есть дружина… – несмело сказал Всеслав. Отчего-то эти слова вдруг показались ему донельзя глупыми.
– Этого мало, – покачал головой Брень. – Нужны ещё и союзники. Сильные друзья. Великое княжение надо добывать сообща.
– Думаешь, отцу нужно великое княжение? – Всеслав слегка удивился – вот уж о чём, о чём, а о великом престоле отец никогда и не упоминал вовсе.
– Вот это-то и плохо, что не нужно, – непонятно сказал Брень и замолк.
До Менска оставалось всего вёрст пять – виднелись уже на окоёме острые шатры веж и даже тонкие струйки дымов, тающие в сером зимнем небе – когда возница, по княжьему велению, весело гикнув, сдержал разбег коней. Всеслав откинул полсть и встал на ноги, придерживаясь рукой за резной бортик саней.
На дороге, опираясь на длинный, даже на вид неподъёмный посох с причудливой резьбой, стоял старик в медвежьей шубе, и ветер свободно развевал его седую бороду и такие же седые космы на непокрытой голове. Волхв?
Вои (он их и взял-то с собой немного, с десяток всего, чести ради) гарцевали около старика, ещё чуть – и толкнут конской грудью, а там и до греха недалеко. Кто сможет проклятье волхва снести? Если это только и впрямь волхв.
Всеслав строго окликнул воев:
– А ну, охолонь! Покинь, кому говорю!
Спрыгнул на снег, поправил на голове шапку и зашагал к старику. Вои расступились – слушали князя не в шутку, невзирая на его всего-то двенадцать лет. Подошёл на пару шагов всего и остановился – старик таял в воздухе. Сделал всего один неуловимый жест рукой, указывая в сторону ближнего леса. И пропал, как не было.
Недовольно и испуганно загомонили вои.
Всеслав кивком велел подать коня, не касаясь стремени, взлетел в седло. Велел хмурому Бреню, невзирая на его неодобрительный взгляд из-под косматых бровей:
– Вы двигайте в Менск, к деду, ждите там, на княжьем дворе, я скоро ворочусь. Несмеян, Витко! Поедете со мной!
Двое мальчишек, ровесников Всеслава, которых он взял с собой из Полоцка – рыжий, Несмеян, родившийся с княжичем в один день, и тёмно-русый Витко, сын Бреня-пестуна, стремительно переглянулись.
– Да, господине!
Всеслав поворотил коня и тронул к лесу по самой кабаржине, благо снега там было немного.
На опушке ждала воткнутая в снег пара широких лыж.
Одна пара.
– Хм, – сказал Всеслав весело. – Похоже, меня там ждут одного.
– Кня… – неосмотрительно заикнулся рыжий Несмеян, но княжич резко оборотился и одним взглядом заставил его умолкнуть.
– Один пойду, – ровным голосом сказал князь.
– Мы за лыжами успеем, – безнадёжным голосом пробормотал Витко.
– Волхв меня одного ждёт, – веско повторил Всеслав. – Втроём пойдём – не дойдём. И обратно можем не воротиться. Заплутаем. Этого хочешь?
– Да ведь Брень-то воевода…
– Чего? – весело спросил князь, перекинул ногу через переднюю луку седла и соскользнул наземь. Примерился к лыжам и принялся крепить их прямо на зелёные сафьяновые сапоги.
– Прибьёт он нас и вся недолга.
– Не прибьёт, – хмыкнул Всеслав. – А и прибьёт, так не враз. А к тому времени я ворочусь.
Несмеян открыл рот, чтобы возразить ещё что-то.
– Я сказал – всё! – бросил не терпящим возражений голосом Всеслав и, не оглядываясь, заскользил по едва заметной лыжне вдоль опушки. Друзья уныло поглядели ему вслед, потом Несмеян поймал повод княжьего коня, и они двинули обратно к дороге, где всё ещё толпились вокруг княжьего возка вои.
Святилище возникло на пути внезапно – просто вдруг расступились тёмные разлапистые ели, открыв широкую, заросшую багульником заснеженную поляну. Высились резные столбы капей, высокая деревянная хоромина под двускатной кровлей, с медвежьим черепом на князьке, обнесённая высоким тыном, притаилась под снежной шапкой, небольшими окошками, хмуро насупясь, глядела на пришлецов.
И подымался позади них небольшой, но изящный терем, рубленный из смолистой сосны. Пылали в ямах вокруг капища огромные костры – невзирая на зиму, огонь стоял высоко.
Всеслав невольно остановился – по его подсчёту, прошёл он не более десяти вёрст – солнце едва начинало клониться к закату.
В отворённых воротах стоял старик – тот самый волхв, которого князь видел на дороге.
Старик подошёл вплотную и Всеслав увидел, что он не так уж и стар – за полвека перевалило, это, пожалуй, верно, но не больше. И по посоху, по ожерелью из медвежьих клыков, по твёрдому и холодному взгляду зеленовато-серых глаз Всеслав понял – да, волхв.
– Гой еси, княже, – старик чуть заметно наклонил голову – волхвы не кланяются княжьей власти. Это князь должен кланяться волхвам и порукой тому – судьба Вещего Ольга.