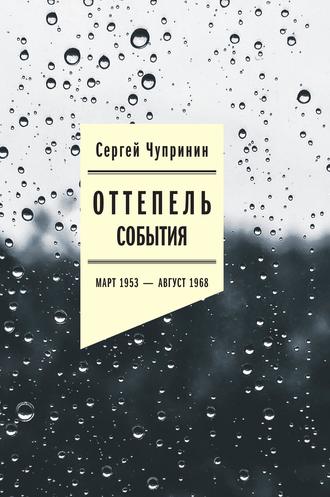
Полная версия
Оттепель. События. Март 1953–август 1968 года
213
Эта оценка вполне совпадает с позднейшим замечанием Ильи Глазунова, что «та выставка в Эрмитаже не показала нам ничего, кроме свободы выдумки и пустого трюкачества», хотя «некоторые, исполненные естественного чувства протеста, приветствовали выставку Пикассо, видя в ней вызов лакировочному искусству периода „культа личности“» (И. Глазунов. С. 646).
214
«Зал заседаний был переполнен. На заседаниях участвовало не менее четырехсот человек. Многие лица, желающие присутствовать на обсуждении, толпились перед зданием» (Аппарат ЦК КПСС и культура. 1953–1957. С. 582).
215
Судя по стенограмме, присутствовали также Л. И. Брежнев, М. А. Суслов и Е. А. Фурцева.
216
Полемизируя с Михаилом Шолоховым, выступившим на XX съезде КПСС, он, в частности, сказал: «Речь Шолохова, по моему твердому убеждению, нанесла существенный вред, и в этом надо отдавать себе отчет».
217
Правильно: Златверов.
218
Э. В. Лотяну (Loteanu).
219
Ю. В. Перов.
220
Т. Г. Мелиава.
221
«Причем, – вспоминает Наталия Рязанцева, учившаяся в ту пору во ВГИКе, – одного из этих студентов, собственно, никто не любил, как-то подозрительно все к нему относились, но все равно – защищали. А вот другого – Кафарова – наоборот, все любили и, как выяснилось позже, посадили его всего лишь за анекдоты. Он потом, когда уже отсидел, вернулся во ВГИК доучиваться…» (Кинематограф оттепели, 1998. С. 217).
222
Так у Н. Клеймана.
223
«В то утро, – вспоминает Ефим Эткинд, – я понял, что рецензия Дымшица поставила точку под нашим сотрудничеством и даже нашими добрыми отношениями. Выслушав меня до конца, он произнес длинную защитительную речь. „Поглядите на те два фонаря, – сказал он, показывая в окно. – На одном из них будете висеть вы, на другом я – если мы будем раскачивать стихию. Дудинцев этого не понимает, ему хочется вызвать бурю. А те, кто хвалит его роман, дураки и самоубийцы. Только твердая власть может защитить нас от ярости народных масс“. В этот раз он впервые произнес слово, запавшее мне в память: „Жлобократия“. И добавил: „Это и есть то самое, что построено в этой стране и что они называют социализмом“» (Е. Эткинд. С. 395).
224
Разрядка здесь и выше Р. Назирова.
225
Василий Смирнов, в те годы секретарь правления СП СССР.
226
И еще одна цитата, на этот раз из письма И. Шевцова от 20 мая 1957 г.: «Уверен, что в Тель-Авиве, Нью-Йорке и Париже встретили с радостью решение о запрещении „Желтого металла“. Симонисты тут одержали победу. Правда, сейчас „Желтый металл“ с любопытством читают люди, которые вообще редко что-либо из литературы читают (запретный плод). Это хорошо, пусть читают. И все-таки „в общем и целом“ происходит у нас что-то непонятное, странное, показывая нам то одну, то другую, совершенно противоположную, сторону» (цит. по: В. Огрызко. Охранители и либералы. Т. 2. С. 447).
227
«Публикация статьи К. Симонова „Литературные заметки“ является серьезной принципиальной ошибкой журнала. <…> Статья К. Симонова способствует возбуждению нездоровых настроений среди литераторов, разжигает реваншистские настроения и групповые страсти и может быть использована для дискредитации партийного руководства литературой и искусством» – сказано в справке Отдела культуры ЦК КПСС (цит. по: В. Огрызко. Охранители и либералы. Т. 1. С. 411).
228
Эта книга вышла – «после полутора лет редактирования, после долгих раздумий над ней издательского аппарата „Московского рабочего“, после того, как это изд-во твердо обещало издать книгу ко Дню поэзии», и только после того, как 19 сентября Евтушенко пожаловался в секретариат Союза писателей и на издательство, и лично на своего редактора Владимира Фирсова (Литературная Россия, 27 апреля 2017 года).
229
Единственный стихотворный сборник будущего прозаика, редактора журнала «Континент».
230
«И вышла, – вспоминает Булат Окуджава, – наконец, маленькая книжечка очень плохих стихов, потому что я писал – ну о чем я мог? – я писал стихи в газету к праздникам и ко всем временам года. Значит: весна – стихотворение, зима – стихотворение, по известным шаблонам» (цит. по: М. Гизатулин. С. 214–215).
231
На Х Международном кинофестивале в Канне (1957) фильму присужден Специальный приз жюри «За оригинальный сценарий, гуманизм и романтику».
232
«После XX съезда КПСС, – как указывают Виктор Бердинских и Владимир Веремьев, – освобождено подавляющее большинство заключенных, арестованных по политическим статьям. Если в 1954–1955 годах лишь менее 90 тысяч человек из них были выпущены на свободу, то в 1956–1957 годах Гулаг покинуло уже около 310 тысяч „контрреволюционеров“. На 1 января 1959 года в лагерях оставались 11 тысяч политических заключенных. Чтобы ускорить процедуру их освобождения, в ИТЛ направили более 200 специальных ревизионных комиссий, амнистировавших большое количество узников. Однако освобождение пока еще не означало реабилитации. За два года (1956–1957) реабилитировано менее 60 тысяч человек. Подавляющему же большинству пришлось ждать многие годы, а иным и десятилетия, чтобы получить желанную справку. Тем не менее, 1956 год остался в памяти людей как год „возвращения“» (В. Бердинских, В. Веремьев. С. 117).
233
Вновь арестована и осуждена в 1957 г. См. 1965 г.
234
По делам 1937 и 1941 гг. По делу 1929 г. будет реабилитирован (посмертно) только в 2000 г.
235
В 1957 г. посмертно восстановлен в Союзе писателей СССР.
236
В этом же году восстановлен в СП СССР
237
В этом же году восстановлен в СП СССР.
238
«Они хотели сделать из меня врага народа, но не смогли. Партия, ЦК КПСС пришли ко мне на помощь и вернули в жизнь, разоблачив негодяев! Как хорошо, что есть на свете справедливость», – 15 февраля комментирует в дневнике эту новость сам Жигулин (цит. по: В. Колобов. Читая дневники поэта. С. 193).
239
В этом же году посмертно восстановлен в Союзе писателей СССР.
240
По делу 1938 г.
241
В этом же году посмертно восстановлен в Союзе писателей СССР.
242
Членство в Союзе писателей СССР восстановлено в 1957 г.
243
Членство в КПСС и в Союзе писателей СССР восстановлено в 1956 г.
244
Луиджи Лонго – заместитель генерального секретаря ЦК Итальянской компартии.
245
Договор за № 8818 находится в фондах РГАЛИ (Ф. 613. Оп. 10. Ед. хр. 7728), что позволяет оспорить идущую от Е. Б. Пастернака датировку этого события 7 января.
246
Как рассказывает Олег Табаков, снимавшийся в этой ленте, «незадолго до окончания монтажно-тонировочного периода фильма „Саша вступает в жизнь“ (другой вариант названия „Саша выходит в люди“), были опубликованы роман Владимира Дудинцева „Не хлебом единым“ и рассказ Александра Яшина „Рычаги“. Тогдашние клевреты из идеологических холуев Никиты Сергеевича Хрущева не только быстро разнюхали эти „очаги инакомыслия“ в литературе, но и стали шарить по другим видам искусства. <…> В отношении кинематографа был намечен объект главного удара – фильм Швейцера по сценарию Тендрякова.
Молотили Швейцера дружно и настойчиво» (О. Табаков. Т. 1. С. 159).
После многочисленных пересъемок картина вышла в ограниченный прокат, но практически была положена на полку. В 1988 году фильм был выпущен в изначальном виде под авторским названием «Тугой узел».
247
«Характерно, что на московском собрании художников в декабре 1956 г. не были избраны делегатами Первого Всесоюзного съезда советских художников такие мастера, как А. М. Герасимов, Е. В. Вучетич, М. Г. Манизер, С. М. Орлов, А. И. Лактионов, В. П. Ефанов, Н. В. Томский, Г. И. Мотовилов, Ф. П. Решетников, А. М. Грицай, П. П. Соколов-Скаля, П. А. Кривоногов, Н. Н. Жуков.
Б. В. Иогансон, хотя и был избран делегатом, но по числу полученных голосов занял одно из самых последних мест (157 место из 173)» (Аппарат ЦК КПСС и культура. 1953–1957. С. 606).
Поэтому Оргкомитету Союза советских художников СССР было предложено «обеспечить избрание в качестве делегатов съезда выдающихся живописцев и скульпторов Москвы, Ленинграда и Киева на собраниях художников в союзных республиках. Предоставить для этого республиканским союзам художников право провести дополнительные выборы делегатов в связи с увеличением численного состава этих союзов» (Там же. С. 610).
248
А. Гиневский докатился «в конце концов до критики и подрыва основы основ советского искусства», – 5 января 1957 года указала газета «Советская культура» в фельетоне «Дешевая слава» (с. 2), автором которого значится анонимный «Журналист».
249
По рассказу И. С. Черноуцана, в 1984 году записанному Натаном Эйдельманом, эти постановления «Никита хотел отменить, но Суслов предложил повременить; приказано их не переиздавать и не ссылаться…» (с. 296).
250
Появление этой статьи, как вспоминал В. Каверин, в газете, которой руководил тогда «В. Кочетов, убежденный сталинист, один из злобных губителей нашей литературы, человек с маниакальной направленностью ума», вызвало активные протесты. Так, Вс. Иванов направил в «Литературную газету» письмо, в котором заявил о своем выходе из редколлегии в связи с тем, что В. Кочетов «не желает считаться с мнением отдельных членов редколлегии» (В. Каверин. Эпилог. С. 371) и что «ни тов. Еремин, ни кто другой не имеет права, критикуя, становиться в позу судьи и бездоказательно бросать политические обвинения!» (Там же. С. 372).
«Наша писательская общественность, – писал Вс. Иванов, – остро нуждается в атмосфере доверия и взаимного уважения, и редколлегия „Литературной Москвы“ за свою редакторскую работу вполне заслуживает поощрения и помощи от писателей» (Там же).
251
«Был у Казакевича, – 30 июня записывает в дневник К. Чуковский. – Остроумен, éдок по-прежнему. Говорили о Федине – и о его выступлении на пленуме. Федин с огромным сочувствием к „Лит. Москве“ и говорил (мне), что если есть заслуга у руководимого им Московского отделения ССП, она заключается в том, что это отделение выпустило два тома „Лит. Москвы“. А потом на Пленуме вдруг изругал „Лит. Москву“ и сказал, будто он предупреждал Казакевича, увещевал его, но тот не послушался и т. д. Я склонен объяснять это благородством Федина (не думал ли он таким путем отвратить от „Лит. Москвы“ более тяжелые удары), но Казакевич говорит, что это не благородство, а животный страх. Тотчас же после того, как Федин произнес свою „постыдную“ речь – он говорил Зое Никитиной в покаянном порыве: „порву с Союзом“, „уйду“, „меня заставили“ и готов был рыдать. А потом выдумал, будто своим отречением от „Лит. Москвы“, Алигер и Казакевича, он тем самым выручал их, спасал – и совесть его успокоилась» (К. Чуковский. Дневник. С. 235).
252
Как рассказал В. Каверин, «работой пленума руководил прятавшийся где-то за сценой (и так не появившийся в зале) А. Сурков. Без сомнения, именно он определил все дальнейшее направление дискуссии. Редкий оратор обошел мою речь. Н. Чертова утверждала, что я не понял Еремина. П. Бляхин сказал, что тон моего выступления „не делает мне чести“. Б. Галин заявил, что ему „было обидно слышать здесь речь Каверина“, а Б. Бялик утверждал, что я „возобновляю нравы, мешающие свободному выражению мыслей“. Эти нападки были немедленно перенесены в широкую прессу <…>» (В. Каверин. Эпилог. С. 365–366).
253
«Она, – вспоминает В. Дудинцев, – прямо плясала на трибуне, рвала гипюр на груди и кричала, что этот Дудинцев…! Вот я, говорит, я была там! Вот у меня здесь, смотрите, следы, что они там со мной делали! А я все время думала: спасибо дорогому товарищу Сталину, спасибо партии, что послала меня на эти страшные испытания, дала мне возможность проверить свои убеждения!» (В. Дудинцев. Между двумя романами. С. 98).
254
Отдел науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР в докладной записке, разосланной членам и кандидатам в члены Президиума, секретарям ЦК КПСС, признал это выступление В. Дудинцева «политически вредным». С осуждением позиции В. Дудинцева было рекомендовано выступить К. Симонову, опубликовавшему роман Дудинцева «Не хлебом единым» в «Новом мире», «поскольку Симонов является членом Центральной Ревизионной Комиссии Коммунистической партии Советского Союза» (Аппарат ЦК КПСС и культура. 1953–1957. С. 626, 629).
255
В этом полуподвальном помещении С. Эрьзя прожил до своей смерти в 1959 году.
256
Вот как об этой «новости» в разговоре с Виктором Астафьевым вспоминал Александр Макаров, бывший в то время главным редактором «Молодой гвардии»:
«Собрались однажды обсуждать номера журнала, вышедшего за год, ну, не бог весть что в них было, но было, и вместо обсуждения прозы, поэзии, публицистики давай чихвостить редактора. Из ЦК комсомола мальчики орут: „Он такой разэтакий!“, из секретариата Союза им поддакивают: „Да, да, рассякой и разэтакий“, – и кто-то из ораторов подает здоровую мысль: „Снять его, выгнать в шею, а Шолохова попросить возглавить журнал…“ – „Вот э-то да-а! Вот это здорово! Как раньше-то не додумались?!“ „Шолохова! Шолохова!“ И все это в моем присутствии, – горестно качая головой, рассказывал Александр Николаевич. – Не посоветовавшись ни с кем, в том числе и с самим Михаилом Александровичем. А они ведь поорут, подергаются, заранее зная, что Шолохов не пойдет, не поедет в Москву добивать последнее здоровье на этом журналишке, и уйдут, разбредутся по своим уютным кабинетам, а мне ведь завтра в котле кипеть, журнал выпускать, с людьми, в присутствии которых меня с г…м смешали, работать» (цит. по: А. Кутейникова // Москва. 2012. № 12).
257
Б. С. Рюриков в 1955–1963 годах занимал пост заместителя заведующего Отделом культуры ЦК КПСС.
258
См. оценку, которую 25 апреля 1963 года Н. С. Хрущев дал этому произведению на заседании Президиума ЦК КПСС: «<…> Слушайте, нуднейшая вещь. Когда я читал, я весь покрыл себя синяками, и то мог только первую книгу прочесть, вторую взял – ну никак не идет, никакие возбудительные средства не действуют» (Президиум ЦК КПСС. Т. 1. С. 710).
259
«Я горячо люблю Вас как великого артиста и человека и поэтому не могу Вам не высказать несколько мыслей по поводу голосования в комитете по Ленинским премиям, происшедшего вчера. <…> – еще 10 апреля написал Дмитрий Шостакович Давиду Ойстраху. – <…> К моему великому удивлению и огорчению, Вы „не прошли“. Ваша кандидатура собрала мало голосов. Требуется набрать более трех четвертей. Не собрали до нужного числа голосов три кандидатуры, в том числе и Вы. Первоначально музыкальная секция решила выдвинуть только одну кандидатуру (7-ю симфонию Прокофьева). После небольшой истерики, которую я учинил, решили выдвинуть и Вас. Вернее, решили включить Вас в бюллетень для тайного голосования. При последнем обсуждении бюллетеня некоторые члены комиссии, в том числе и „певица“ Чебан, высказали мысль, что Ваше искусство недостаточно понятно народу, что многие люди Вашей скрипке предпочитают „что-нибудь другое“, „более понятное, ясное“ и тому подобное.
Не слишком горячо поддержал Вас Т. Н. Хренников. Я покричал, и Вас включили в бюллетень. Однако должного количества голосов Вы не собрали.
Знайте, дорогой Додик, что лучшие музыканты всего мира, весь наш народ и все народы мира присудили Вам все премии.
Признание, которого Вы удостоились, должно быть Вам дороже всего» (Дмитрий Шостакович в письмах и документах. С. 340).
Давид Ойстрах станет лауреатом Ленинской премии в 1960 году.
260
В. М. Озеров.
261
В 1961 году, и с предисловием, но не И. Г. Эренбурга, а В. Н. Орлова.
262
Ее он в своей речи все-таки упомянул, назвав «грязной и вредной брошюркой», из чего, – говорит инструктор Отдела культуры ЦК Игорь Черноуцан, – стало ясно, что альманаха Хрущев «в глаза не видел» (Цит. по: У. Таубман. С. 339).
263
«Хотя, – вспоминает Лазарь Каганович, – эта речь была потом в печати изложена довольно гладко, но это была „запись“, хотя стенограммы за столом не вели (а если она и была, то вряд ли нашлась бы хоть одна стенографистка, которая сумела бы записать сказанное). И на обычной трибуне, когда он выступал без заранее написанной речи, речь его была не всегда в ладах с логикой и, естественно, с оборотами речи, а тут не обычная трибуна, а столы, украшенные архитектурными „ордерами“ в изделиях стекольной и иной промышленности, для „дикции“ заполненные возбуждающим содержанием. Можно себе представить, какие „культурные“ плоды дало такое гибридное сочетание содержимого на столе с содержимым в голове и на языке Хрущева. Это был непревзойденный „шедевр ораторского искусства“» (Л. Каганович. С. 577).
Несдержанность Хрущева и резкость, с какою он выступал, произвела столь сильное впечатление на его товарищей по Президиуму ЦК, что нашла отражение даже в материалах июньского пленума ЦК КПСС. Вот фрагмент стенограммы:
«Молотов. Когда советским писателям говорят, что „сотрем в порошок“, – это не воспитание.
Хрущев. Я говорил о тех людях, которые поднимут руку на партию, а не о всех писателях.
Молотов. Если же оказывать какое-либо воспитательное воздействие на писателей, нужны соответствующие методы. Этих методов в данном случае не оказалось.
Поспелов. Это был замечательный метод – метод прямоты, доверия, острой товарищеской критики (Молотов, Маленков, Каганович. С. 105).
264
На эту ошибку памяти обратил внимание М. Золотоносов, отметив, что речь шла наверняка о романе «Искатели», так как роман «Иду на грозу» был издан через пять лет (М. Золотоносов. Гадюшник. С. 481).
265
«В Москве, – вспоминает Шаламов, – есть человек, который является как бы дважды моей крестной матерью – Людмила Ивановна Скорино, рекомендовавшая когда-то самый первый мой рассказ „Три смерти доктора Аустино“ – в „Октябрь“ в 1936 в № 1 Панферову, Ильенкову и Огневу и в 1957 году в „Знамени“ напечатавшая впервые мои стихи – „Стихи о Севере“» (В. Шаламов. Т. 4. С. 308).
266
«По существу, первая моя публикация» (Д. Самойлов. Поденные записи. Т. 1. С. 286).
267
Оно, – как вспоминает Владимир Тендряков, – «<> для вящего устрашения было собрано не в Доме литераторов на Воровского, а в Краснопресненском райкоме партии. <…> Председательствует Сергей Сергеевич Смирнов <…>» (Знамя. 2019. № 7. С. 154).
268
Как вспоминает Вениамин Каверин, «накануне его выступления, 11 июня 1957 года, К. Паустовский и В. Рудный были у него – в поисках защиты, и он сказал с запомнившейся твердостью: „‘Литературную Москву’ я в обиду не дам“.
На другой день он не только воспользовался личным разговором между ним и Казакевичем, но и бессовестно солгал, утверждая, что на пленуме не нашлось защитников критикуемой книги альманаха.
Можно ли сомневаться в том, что он думал одно, а говорил и писал другое? Нет. „Мы потеряли Федина“, – сказал мне Казакевич, когда после собрания поздним вечером мы возвращались домой. Этого не случилось бы, если бы он сам не потерял себя, решившись на прямое предательство, в котором не было ничего загадочного (как это кое-кому казалось) и которое было неизбежным следствием его литературной смерти» (В. Каверин. Эпилог. С. 366–367).
269
«Только два члена редколлегии – Паустовский и я – не покаялись, – говорит В. Каверин. – Паустовский отказался, а мне как неисправимо порочному это даже не предложили» (В. Каверин. Эпилог. С. 368).
270
«Доктор Живаго».




