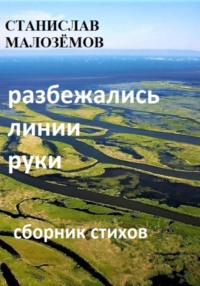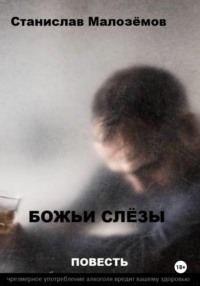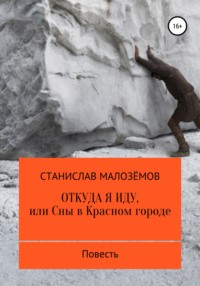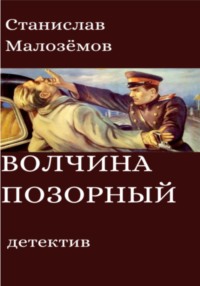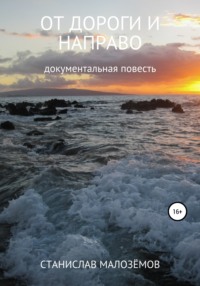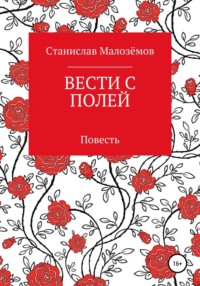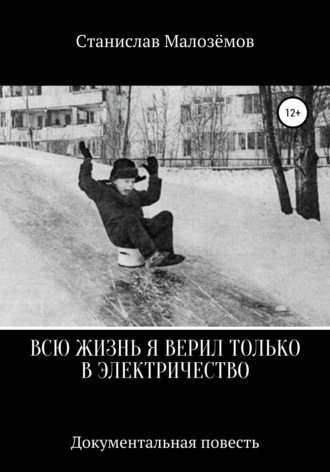 полная версия
полная версияВсю жизнь я верил только в электричество
Бабушка уже постелила мне, взбила пуховую подушку и ушла во двор ко всем.
Я лег, укрылся легким и тёплым, тоже пуховым одеялом, полежал минутку и улыбнулся. Хороший был день. Один из самых замечательных за всю мою длинную уже жизнь. Вспомнил как в школе, в двенадцать часов и пять минут, когда до конца урока ещё оставалось чуть ли не полчаса, тётя Наталья Васильевна, наша строгая и серьёзная заведующая распорядком дня и порядком в стенах школы, которая давала звонки на уроки и перемены, вдруг врубила на всю мощь оба звонка на первом и втором этажах. А после этого побежала по коридору, открывала двери классов и кричала во всё горло до хрипоты:
– Все на улицу! Сейчас по радио опять будут говорить. Слышите меня!? Человек на Луне! Наш человек на Луне! Советский! Быстро все к радиоприёмнику! Советский человек на Луне! Мы первые! Ура!
Вся школа побежала слушать Левитана о полёте Гагарина. Учителя обнимали нас и аплодировали. Мы смеялись. Радовались.
Я ещё раз с удовольствием улыбнулся от того, что мне невероятно повезло и я живу в такой замечательной стране, которая умеет быть счастливой и потому во всём побеждать.
Потом из последних сил натянул одеяло до самых глаз, вздохнул счастливо и мгновенно уснул. И не видел снов.
Глава двадцать вторая
В апреле 1962 года тепло прилетело в Кустанай с самого начала месяца. Меня бабушка послала в магазин за хлебом и я пошел в футболке, спортивных штанах из хлопчатобумажной ткани, да в легких сандалиях на босу ногу. И это в десять утра так солнышко грело. В магазин купца Садчикова, смывшегося в двадцать третьем году во Францию, ходило чуть ли не полгорода. Он стоял рядом с домом Жердя, а от нашего тоже не далеко – в пяти минутах передвижения неторопливым прогулочным шагом. А народ шел сюда чуть ли не из центра города, где было аж три больших гастронома. Потому, что наш магазин всегда имел практически всё, причём самое свежее и высшего сорта.
Говорили, что в горпищеторге работал сын купца. Старый пятидесятилетний дед. Хозяином, как папа его, при социализме он быть не мог. Государство везде само хозяйничало за всех. Но в горпищеторге сынок буржуя работал главным начальником, а потому папин магазин оберегал от всяких комиссий и прочих желающих потрепать нервы директору и продавцам. Ну и, конечно, отписывал туда всё самое высокосортное, недорогое и недавно изготовленное. Какое он от этого имел удовольствие, многие догадывались, но проверять его особый интерес к отцовскому магазину то ли стеснялись, то ли почему-то не очень хотели.
В общем, замечательный был магазин. Поэтому просто прибежать, быстренько купить, что хотел и убежать, никак не получалось. В магазине всегда стояло в очереди человек пять-десять, которые брали помногу, раз уж шли издалека, медленно выбирая и неторопливо расплачиваясь. А продавщица работала одна. Алевтина Сергеевна. У неё был пышный белый волос, собранный в высокую и замысловато сплетенную прическу, ярко красные, блестящие дорогой помадой губы, отделанные со всех сторон фиолетовыми тенями глаза и созданные толстым слоем туши огромные ресницы. Она носила два перстня, кольцо на толстых пальцах и длинные лакированные перламутром ногти. Завершали красоту её розовое от пудры лицо и постоянно разные, но обязательно голубые блузки под белым халатом. Это была очень солидная женщина.
Учительницы наши в сравнении с ней меркли и блёкли, хотя тоже пудрились, брызгались духами и ресницы тушью утяжеляли. Проигрывали они внешне тете Алевтине. Зато были богаче внутренне и в магазине потому держали себя гордо и достойно. Так гордо, что смущалась сама продавщица. Я это лично видел. Школа-то наша прямо напротив магазина. И на переменах мы бегали покупать фруктовый чай в брикетиках или кубики какао с сахаром. А учительницы пили там виноградный сок. На прилавке стояла конструкция из стекла, металла и пластмассовых краников. В одной треугольной колбе был сок томатный, в другой яблочный, а виноградный, дорогой, в третьей. Алевтина Сергеевна как артистка цирка метала вдоль прилавка стакан. Он скользил точно до колбы и никогда её не задевал. Продавщица открывала краник, сок тёк, а она успевала продать мужику, например, папиросы или взвесить сто граммов карамелек ученицам третьего класса. Она была виртуозом прилавка и лично я, дай мне волю, наградил бы её орденом Трудового Красного знамени. Или каким-нибудь вымпелом с белыми буквами и шелковой желтой бахромой.
Но всё было так до первых новогодних дней шестьдесят второго. Никто из населения нашего провинциального и не следил особенно за новеньким в газетах. Так, читали пробегом мелочёвку. Большие статьи никого почти не заманивали. Передовые колонки на первой странице, где всегда большие люди определяли партийные и государственные задачи по улучшению нашей жизни, а ещё ругали всякие проблемы и клялись их почти сразу ликвидировать, вообще никто не пытался осилить. Мудрёно уж больно писано было. Не все умы это расшифровать могли. Ну и, естественно, пропустил народ закамуфлированные под очередные задачи КПСС сообщения о том, что Никита Сергеевич Хрущев и товарищи его по борьбе за наше счастье начали мощную, мощнее сталинской, индустриализацию Родины и подъем на небывалую высоту сельского хозяйства. Почему-то всё грандиозное замышлялось, чтобы догнать и перегнать всеобщий ориентир абсолютного благополучия – Америку. Заводы-фабрики в Кустанае стали появляться неожиданно, быстро, и стало их за год в два раза больше, чем было. А ещё, конечно, хорошо оценил народ, что Хрущёв решил всех рассовать по отдельным квартирам. Поэтому двухэтажек одинаковых за год тоже налепили по окраинам и ближе к центру навалом. Всем, конечно, не хватило и частные домишки всё продолжали портить вид и воздух вонючим дымом из печек.
И это всё было прекрасно. Но вот сама жизнь простецкая, банальная, ежедневная и привычно ровно текущая стала как-то неброско и аккуратненько ухудшаться. Сбои стала давать местами. Батя мой предрёк почти пророчески в январе шестьдесят первого, в первый же день свалившейся на головы наши денежной реформы, что вот с этого момента и начнёт подкрадываться к народу, разомлевшему от дешевизны и доступности благ, финал радости. И наступит постепенно конец обещанному процветанию. И вместо коммунизма к восьмидесятому году получим мы гору проблем бытовых и государственных, а вдобавок нехватку всего, что едят, носят и в квартиры ставят. А мечтать будем не о светлом будущем, а о возвращении послевоенного прошлого, когда безо всякого коммунизма жилось легко и с удовольствием.
Как отец, хоть и умный дядька был, догадался об этом, почти не раздумывая и ничего не отщёлкивая на счётах или арифмометре «феликс» – поразительное откровение для меня и сегодня.
Ну, бегу, значит, я в магазин за хлебом. Бабушка послала. Но покупать его не буду. Я бегу занять очередь. Повернул за угол, до магазина было ещё метров двадцать. И сразу остановился. Очередь спускалась с магазинного крыльца и, извиваясь, доползала почти до угла. Это был народ, который ест белый хлеб. Те, кто обожает чёрный, шли лёгкой поступью мимо очереди внутрь и затаривались булками тёмно песочного или коричневого цвета из муки низших сортов пшеницы или хорошей ржи. Но избалованные мягким белым хлебом, батонами, сайками и сдобными булочками граждане стояли и ждали. Всё это должны были вот-вот привезти. У каждого в кармане лежали бумажки со штампами. На бумажке была накарябана фамилия мечтающего о белобулочных изделиях и количество булок хлеба, саек и так далее, назначенное и прописанное в жилищно-эксплуатационной конторе, проще – в ЖЭКе.
На семью из стольки-то человек – одна доза. А на семью побольше или поменьше – другая. Вот нам было положено два килограмма белого хлеба в любом виде на день. Хочешь – кирпичи высокие из нежной муки забирай в двух экземплярах. Тогда булка весила ровно килограмм. Хочешь – два килограмма плюшек набирай и ешь их с борщем или водку ими занюхивай. Я вот даже и не помню как эти бумажки назывались. Не карточки – точно. Памятуя военное голодное время – карточками бумажки не рискнули назвать. По-моему, всё же это были талоны. Но не суть. Главное всё равно не в названии, а в принципе. Хлеба не хватало.
Бабушка отсчитывала примерно час после того, как я влип в очередь, а потом приходила и отлавливала меня уже человек за пять до прилавка. Талоны эти были у неё. Она закупала отписанное нам число булок, брала попутно ещё что-нибудь, на что пока не требовались талоны, после чего мы шли домой, довольные тем, что хоть и нет сколько хочется хлеба, зато порядок есть. В виде гарантии, что по талонам мы всё одно своё возьмём.
Вот эта кутерьма с талонами на хлеб довольно долго длилась. Года три. Привыкли к ней. Ничего. Хуже было то, что на остальные продукты талонов не придумали, а они тоже стали потихоньку уменьшаться в количестве. И становились вроде и не намного, но дороже. Крупы всякие, консервы из привычной пресноводной рыбы. Тушенка, сгущенка, сахар, молочные продукты вроде творога, масла сливочного, катыка, кефира и самого молока. А молоко бутылочное постепенно поменяло вкус и стало жиже. Многие старушки, которые бутылки молочные собирали и сдавали в обмен на молоко, смеялись с грустью над тем, что после того как такое молоко выпьешь, бутылку и мыть не надо. Выручали тётки из ближайших деревень. Они приезжали на лошадях с телегами на углы кварталов и орали как громкоговорители с истерическими интонациями: – « А молоко! А кому молоко? А утрешнего подоя молочко парное! Э-эй, поспешай быстро, пока не скисло!»
Где-то в шестьдесят четвертом тёток с домашним молоком, сметаной и маслом прижали крепко и запретили им незаконную, оказывается, частную торговлю. То же самое сделали и с уличными торговцами свежим мясом всех видов и рыбой местной. Грибы лесные и полевые, привычные населению городскому, ягоды, фрукты из своих садиков и мёд с окрестных пасек на улицах тоже перестали появляться. За всем этим ходили на базар, где цены за год поправились в толщину и высоту изрядно.
Но хлеб – он всегда ведь был всему голова. За ним готовы были стоять сколько влезет, а остальные продукты уместились всем скопом на втором плане. Даже мясо с рыбой. И продавали белое желанное чудо даже по талонам два раза в день всего. С утреннего завоза и с вечерней выпечки.
Хватало вообще-то. Грех было жаловаться. Даже отписанные ЖЭКом килограммы не все съедали до последней крошки. Но сам факт того, что хлеба и всего прочего, растущего и пасущегося, сельскохозяйственного, проще говоря, стало вдруг не хватать именно для свободного выбора и беспрепятственного закупа любого количества, народ насторожило. Пошли разговоры всякие, не очень любезные к правительству. Да и советскую власть многие продолжали любить за революцию и победу в Великой войне по привычке, по инерции. Но уже появились и в начале шестидесятых годов разочарованные. Никто не предчувствовал раньше перемен к худшему. А теперь для многих, даже для учившихся на тройки с двойками, трещины в благополучии стали видны, ясны, хоть и не понятны.
Я, конечно, не помню всего. Что-то переспрашивал у постаревших родственников и знакомых. Но основное всё вбилось в память само собой, потому, что я стал работать корреспондентом областной газеты, а потом ещё учился в высшем политическом ВУЗе – ВКШ при ЦК ВЛКСМ в Москве. Там готовили первых руководителей, а потому не скрывали от нас ничего, чтобы мы знали, что говорить народу, а чего – не стоит. В общем, в итоге я узнал всё о прямой связи денежной реформы с желанием главных людей государства возвеличить мощь страны. Но уже за счет продажи нефти за границу, цветных металлов, твердых, самых дорогих сортов пшеницы и железа, угля, драгоценных металлов и минералов, которых в Союзе было бессчетное множество. Деньги уходили на строительство заводов-гигантов и изготовление техники, всё это добывающей и перерабатывающей. На народ стали тратиться меньше. Только и всего.
Кстати, я только недавно узнал, готовясь писать эту повесть, что великую, огромную и кошмарно дорогую Саяно-Шушенскую ГЭС построили всего-то ради разработки бокситов и получения нужного нам и загранице алюминия. Это мероприятие и коммунальные услуги народу подняло в цене, и стоимость бензина, ухудшило снабжение едой и несъедобными, но нужными товарами. В общем, думаю я, что остальное всем, кому довелось жить в семидесятые и восьмидесятые годы, удалось пощупать и вкусить самим. Поэтому я переключаю их на самостоятельные грустные воспоминания и меняю тему, время, события, без которых эпоха пятидесятых и начала шестидесятых так и останется забытой и побеждённой в итоге годами девяностыми. Они и добили ум, честь и совесть социалистической, в меру справедливой действительности, жуткой, извращенной формой неведомого нашему девственному народу дикого как бы капитализма. Который принёс всё, что едят и пьют без меры, во что одеваются, не стесняясь вульгарности своей, ездят на машинах, о которых и мечтать двадцать лет назад не смели. Но капитализм этот самодельный отобрал, возможно, самое ценное, что было в нашем народе: доброту, дружелюбие, честность. И поломал неписанные законы равенства и братства. От чего люди очень скоро стали жить не вместе, а просто на одной территории.
Но мне скучно и не интересно писать вместо повести о времени повесть о политических и экономических ошибках наших бывших правительств.
Вернёмся к самой жизни моей в ту эпоху. Она шла всё-таки независимо от того, как её корёжили и утаптывали правители. Я жил так, как жилось и хотелось. А о государственных замыслах и партийных амбициях знать не знал и не думал никогда. Мне и сейчас совершенно безразличны разные потуги активистов – инициаторов всяких масштабных перемен, большинство из которых разворачивают жизнь к худшему. Меня от любого политического или экономического хвастовства и игры с народом в одни ворота и тогда мутило натурально, и сейчас тошнит.
***
В августе шестьдесят второго, за две недели до начала занятий дядя Вася привез меня из Владимировки часам к семи вечера. Лето я там отгулял с пользой для здоровья и попутно освоил пару новых деревенских профессий. Потом расскажу. Отец уже дома был, мама и брат батин, Шурик, который вернулся час назад с рудненского горно-обогатительного комбината. Он туда ездил устраиваться работать электриком. Взяли его. Вот они втроём сидели за столом в большой комнате, заплёвывали пол кожурой семечек и обсуждали комбинат огромный, на всю страну работающий, ну, и зарплату, обещанную новому электрику. Я быстро сбегал ко всем дружкам. Носа не было дома. В кино ушел. А с Жуком и Жердью мы договорились на завтра идти на Тобол, резать прибрежный камыш и раскидывать его выше берега на сушку. Через неделю августовской жары почти тридцатиградусной камыш высохнет. Потом мы сделаем из него такие же маты, какие готовят для строительства камышитовых домов бригады бичей, мужиков без адреса, паспорта, семьи, еды и денег. Вот их тогда втихую нанимали шабашники строители. Ну, те, которые сами по себе. Не от СМУ, треста строительного или жилконторы, а просто друзья-товарищи, собравшиеся в бригаду строго по знакомству, заколачивать приличные деньги. Они заключали договор с каким-нибудь совхозом, как строительная артель, и строили там отличные камышитовые дома. Дадут денежку директору совхоза, ещё местному участковому, и строят. Никто их как частников не трогает. Начальство и милиция на защите стоят.
С утра собрались у Жука, зашли за Носом и побежали к шабашникам. Они в Затоболовке строили пять здоровенных коровников. Мы у них попробовали выпросить десять матов для плота, чтобы по Тоболу сплавиться километров на сто хотя бы. Не дали, жлобы. Повел нас дежурный по надзору за «бичами» прямо на площадку недалеко от берега, где вязали маты. К старшому из работяг.
– Вот эти пацаны будут сидеть рядом и смотреть как вы маты переплетаете, – сказал он старшому. – Чего им будет не понятно, объяснишь. Это им надо плот сделать самим. Камыш берут далеко от вас, не переживай. Понял?
– Да нет базару, хозяин, – махнул нам попутно старшой и мы пошли туда, где вязали маты. В общем, часа за три мы вникли в суть. Там было много хитростей всяких. И как слои укладывать, как перевязывать толстой бечевкой всю массу, а потом волнами пропускать через десять сантиметров вязальную проволоку туда и обратно. Сводить между собой все концы проволочные подтягивать вбок и скручивать вместе, закреплять. Тогда мат получался крепким, почти не гнулся и раздвинуть камышинки по отдельности мы попробовали по очереди, но не смогли.
– Куда плыть намылились? – улыбнулся бич.– Не от родителей когти рвёте? А то лучше не надо. Я вон убёг от своих алкашей. Когда самого пить подтянули. Отец меня по пьяне бил крепко ни за что. Я в семнадцать лет и убёг. Жил в Свердловске. Ну, решил с Урала вообще уехать и в ПТУ поступить в Кустанае, да жить самому, своей башкой и деньгами. А поехал- то без копейки фактически. Пятнадцать рублей всего на кармане. Ну, а без поддачи жить уже не мог. Билет в Кустанай купил, а когда приехал, комнату нашел в Наримановке. Там подешевле всего хазу снять. А что район бандитский, не сказал никто. Ну, чтоб меня там не мутузили почем зря, я местных уркаганов подпаивал. И сам с ними гудел не дай Бог как. Так наедался, помню, бормотухи всякой, что спать падал, где шел. А где именно- это уж как получалось. Ну, у меня паспорт-то ночью и приговорил кто-то. Тиснули грамотно, тихо, аккуратно. Просыпаюсь утром под завалинкой какой-то избушки. Похмелиться надо, аж ломает всего. А остатки денег я под обложку паспорта прятал. Ну, они и помахали мне платочком тоже. Вместе с документом. Чего делать? Куда теперь без документа, в какое ПТУ? Вообще, без гроша и без паспорта кранты хоть кому. Похмелить меня братва наримановская похмелила. День целый парни шмонали всех доходяг по району. Но никто из наримановских паспорта моего не брал. Ладно. А платить за комнату тоже нечем. Ну, я извинился перед хозяйкой, разъяснил, чего к чему, какой случай вышел со мной. Она долг скостила, но дальше жить у себя не дала. Вот на вокзале отночевал три раза. Милиционер подходил. Я ему трепанул, что брат из совхоза должен был приехать с деньгами на билет. Вот его и жду. Ушел милиционер, не вязался больше. А как-то подходит ко мне мужик один. Приличный такой. Одёжка на нем дорогая, модная.
– Чего, братан, киснешь на скамеечке? – говорит. – Деньги украли, билет, паспорт. Угадал?
А у меня морда пропитая, сам грязный. Чего тут угадывать? Ну, вот он меня и забрал сюда. Ихний бригадир. Шабашут по деревням. Сперва обещали дать заработать на вязании матов. Потом сказали, что взяток надо теперь больше давать. Работайте, мол, пока так. Кормить будем хорошо. Да и не обманул. Все мы сытые тут. А бригадир говорит, что скоро утрясут дела с начальством колхозным, да с мусорами, и платить начнут. Паспорт выправлю новый, домой уеду, женюсь и пить завяжу.
– А давно тут маты собираешь? – Жук с ним с ходу на «ты» стал говорить. Хотя парень лет на десяток постарше был. Но пьяница горький уже пол-человека.
Так нам отец Жердя однажды сказал. Не помню, правда, к чему.
– Три сезона, считай, – почесал в затылке бич. С поздней осени увозят нас в один совхоз. Там мы в клубе, в подсобке зимуем. Печка своя. Тепло. На улицу только в сортир бегаем. Зимней одежды нет ни у кого. А еду привозят постоянно. Два раза едим. Утором и вечером. Нормально, пацаны. Только вот вы не вздумайте из дома сматываться. Вон как потом может получиться. Теперь я уже и не знаю, как уехать. Хотя и не держит никто. Уеду – быстро нового найдут. А как уедешь?
Мы с ним попрощались за руку и ушли к реке, к нарезанному камышу. Разложили его там по одной былинке, чтобы они друг друга не касались, да домой пошли. Молча. Не то, чтобы пуганул нас этот бездомный мужичок, пропитый и потерявший свой след обратно домой. А как-то тяжко стало внутри. И жалко было этих ребят с камышовых приисков, которых судьба уже почти скрутила в бараний рог. И грустно стало от того, что все мы понимали: любой из нас, мечтающих скорее вырасти и вырваться на волю, где начнешь сам управлять своей жизнью, ошибается. Не ты, а жизнь будет управлять тобой. Не ты будешь проверять её на любовь к себе хорошему и умному, а она с самого начала самостоятельности твоей поставит перед тобой столько соблазнов и ловушек, что не влететь в них и не застрять – этому надо сейчас учиться. Не потом, когда припрет. А перед нами, маленькими, уже столько мелькало ломаных судеб, так много потерявших всё людей проскочило мимо, уже не верящих в то, что можно вернуться обратно. Туда, откуда начал проваливаться в бездонную яму пянства, безделья, неверия в хорошее и безразличия к судьбе своей треснувшей. Всё это мы видели неподалёку совсем от радостных и удачливых, довольных жизнью людей в одном маленьком своём Кустанае. Который приютил у себя и счастливых, и несчастных, прекрасно освоившихся и навсегда потерявшихся в житейских дебрях. Приютил одинаково равнодушно. Городу было все равно, кто и как живет. Лишь бы жили. И то хорошо.
Через три дня жаркой погоды мы пошли на место. Камыш был тот, что надо. Сухой и свежий. Мы приволокли с собой два мотка проволоки, шпагат толстый джутовый, ножницы, топорик и кусачки. Проволоку резать. Три дня с утра до вечера мы вязали маты, соединяли их, укладывали один пласт на другой, а на них поперек положили третий слой. Красивый, хоть на выставку посылай. Получился слоёный камышовый пирог. Жердь сбегал к бичам, привел старшого посмотреть, правильно мы связали всё или напортачили. Старшой поправил нас малость. Сам расслабил стяжки между матами двух нижних слоёв, чтобы плот стал гибче и балансировал на волне. Даже на маленькой. Тогда он поплывет ровнее, и лучше будет реагировать на руль. Он же рассказал как сделать руль из толстой ветки, тряпки и проволоки. Ну и объяснил, что дальше по течению глубина Тобола в центре русла метра четыре. Значит шесты для отталкивания от дна нужны пятиметровые.
– Вот так всё сделайте и можете плыть спокойно, – уверил нас старшой, пнул плот пару раз, закурил и пошел обратно.
Через день мы все подготовили, сделали руль, как подсказал бич, шесты вырубили из сухостоя березового в чураковском саду. Вечером сложили в рюкзаки стандартные наши наборы еды и питья, да кое-как дождались утра. Часов с восьми до десяти мы перетаскивали тяжеленный плот на тридцать метров от места сборки к воде. А в десять с хвостиком забросили на середину этой махины рюкзаки, шлёпнули все друг друга ладонью о ладонь, оттолкнули плот от берега, запрыгнули. И, представляете, вполне профессионально поплыли. Гордые, сильные и смелые.
Мы никому не говорили об этом путешествии. Причем в основном потому, что все назвали бы нас сразу чокнутыми на всю голову. Ну, была бы какая-то цель! Научная, например. Тогда понятно. А её не было. Вообще никакой. Любопытство имелось пацанячье. Но не цель же это! Просто хотелось увидеть – какая она вдалеке, любимая и привычная речка, на которой провели за жизнь ужасно много времени. Рыбу ловили, купались, с обрыва прыгали. А зимой на лыжах с горы до самого берега гоняли. И на коньках по льду зимой бегали и вверх и вниз довольно далеко. Давно нас тянуло проплыть по течению. Но сперва маленькие были. Куда нам? Потом не знали, как это сделать. Где лодку взять? А мысль про плот появилась нечаянно, случайно. В кино посмотрели мы с Жердью фильм про пограничников. И они ловили нарушителей границы, которые в нашу страну заплыли на плоту.
Вот мы и выбрали себе, на чем поплывем. Дело было незнакомое нам. Потому втихаря к нему и готовились. Не сказали даже родителям. Не пустили бы они нас. Точно.
Тобол – река вроде небольшая в нашей местности. И не глубокая как Волга, и шириной тоже не удался Тобол наш. Ну, в некоторых местах разбегаются его берега на целых полкилометра почти. Но не рядом с городом. А вот где? И читал ведь я в книжке «Узнай свой край» про то, что чуть дальше на север, больше ста километров, почти перед городом Курганом, река становится похожа на большие, полноводные, знаменитые советские реки. Вот где-то там эти четыреста с лишним метров и есть между берегами. Если я всё правильно понял из книжки.
– Надо сделать плот и самим посмотреть, спуститься по течению, – объявил я дружкам. – Сто пятьдесят километров – не тысяча же. Возьмем как обычно хлеба с солью и луком. Со скоростью течения все знакомы. Примерно двадцать километров в час, да? Значит через пять- шесть часов будем на этом разливе.
– А потом что? – хмыкнул Жук. – Ну, прибъёмся к берегу, если получится. А домой потом как? Откуда и куда?
Нос взял его за плечи, посмотрел в глаза как удав на кролика и не очень культурными выражениями посоветовал ему остаться дома, гулять по скверу с подружкой Галкой, есть конфетки, а спать ложиться в девять часов, помыв предварительно ноги и почистив на ночь зубы.