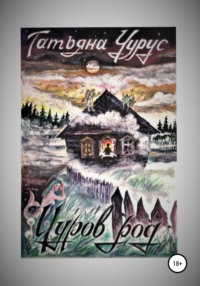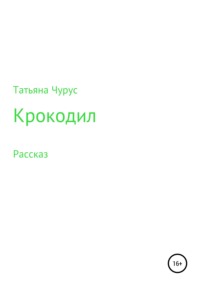полная версия
полная версияБаушкины сказки
Вот сидит в чулане, что мышь кака, да слезьми и плачет-обливается…
А как ноченька спустилась с небес украдкая, так она и завыла в голос, что было сил: ни Борисушка-т, ни Як’ва Як’лича под бочком – одна-одинешенька, вдова вдовой…
А меж тем времечко-т идет: ему что, ни гореть, ни вдоветь – знай, катись собе тихохонько… А меж тем живут Симушка с Митревной, д’ хлеб’шко жуют сладенький, что Яков Яковлич жаловал – дай Бог ему здравия и долгих лет, – д’ денежку псу под хвост выбрас’вают: что сыр в масле покат’ваются.
Наша-т, Симушка-т, сказ’вают, всё весточку ждала от полюбовничка, д’ не дождав, удумала сама к ему наведаться д’ в ноженьки и кинуться: так и так, мол, отец мой, бери, мол, мене, как есть, потому изнывает тело белое. До того дошло – наняла конюха деревенского, дядь Колю Гужева: свези, мол, мене, дядь Коля, в дальнее в село, к дому к Чухареву, д’ про то никому не сказ’вай. А дядь Коля ей: хм, г’рит, ноне-т молчать накладно, хозяюшка, – а сам, пустомесло ты чертово, перстами и пощелкива’т: мол, подмасли ладош’чку червончиком. Та, Серафима-то, – а куды кинешься? – и подмаслила, сказ’вают, д’ всё одно распустил трепло свое старое: деск’ть, толь прибыли к дому-т, к Чухареву-т, так она, Симша самая, сейчас, что псина кака шелудивая, и прильнула к окошку заветному, а там чтой-то и чернеется – далёко було, потому не видал, – с тем, слышь, и отчалили, несолоно нахлебавшие…
(Ты-т не нахлебался, скотина такой: в три горла пил-жрал на шиши Сим’шкины – и не поперхнулся…)
Прознала про то Митревна:
– Чтой-то не едет, мол, твой, – сказ’вает. – Куды, мол, кинешься, кады ден’жки проешь проедом? А, Симша, тобе, что ль, г’рю? – А сама к сивушке, слышь, и приклад’вается. И то, попивать стала старая. – Ты работать что думаешь? Аль так: пришей кобыле хвост? – А Серафима и бров’шкой не ведет, толь, слышь, тихохонько подливает сивушку баушке. А та жрет – в раж вошла, – и закусила бы, да Серафима-т всё добро под замок – и заперла, д’ ключик схоронила в место заветное: соси, мол, лапу, Митревна, д’ поминай, оглобля ты старая, как морила голодом унучку родную…
Та, Митревна-т, что удумала: зальет шары свои бесстыжие – и пошла побирушею по миру: подайте, мол, люди добрые, хлебца-сольцы, Серафима, мол, Саввишна уж больно лютая, не испросишь, мол, ни крошечки. Ну, они, люди-т, всякие: кто хлебца даст, а кто и промеж глаз, потому помнят, что творила Митревна над Симушкой: поделом, мол, тобе, старая…
А та не унимается: у ей, у Серафимы-т, у Саввишны, одна ноне забота-то: платьи, мол, с сундука толь и меняет с кольцыми д’ с серьгими. У ей толь польт одних, мол, две, д’ ишшо шубейка уж что собою пышная, д’ сапожки со скрыпом красные, д’ плат, слышь, пуховенный, д’ ишшо… И-и, злыдня ты завидущая, чтоб у тебе глаза на лоб поповылезли…
А они и поповылезли: попей-ко столь! Дядь Коля Гужев, что конюхом: уж на что, г’рит, я, г’рит, попил, сокол, так то, мол, толь присказка. Зашел, г’рит, к им давече: к Серафиме, то бишь Саввишне, с Митревной. Так она, Саввишна-т самая, и подливает ей, это Митревне-т, с утра, а первачок ядреный, аж глаз жгёть: живут ж нек’т’рые, а ишшо жалится, пропитуша ты старая, на Саввишну… А тетка Гужиха слушала-слушала: и-и, г’рит, пропастина ты, толь и зна’шь, мол, что шары залить, старый ты кизяк, д’ звякать одно д’ потому. Аль не видал, что Митревна-т синяком посверкивает, потому кулак у Саввишны: ’от халда-т иде – что кувалда кувалдою…
’От судили-рядили люди-т добрые – д’ так ни рожна и не вырядили…
А Шур’чка одна была: блаженная что (ей и прозвали все, мол, Шур’чка-дур’чка). Так эта самая Шур’чка и пошла к Саввишне. ’От пришла: пошто, мол, забижаешь старушку, Симушка, она ить и так виновная, за то, мол, Господь уж покарал ей – забрал сынка на тот свет, пошто, мол, вмеш’ваешь себя в Божий промусел. А Саввиша что? А что Саввишна? Кой разговор с дур’чкой? От ворот поворот – ’от и весь разговор… Толь, сказ’вали, на миг сверкнула слеза на глазу у Симушки – то сама Шур’чка кабудьто узрила…
А баушка меж тем Митревна чтой-то стала больно хворобая, того и гляди, к праотцам на тот свет пустится (туды ей и дорожка-путь, прости Господи). Шур’чка как тут: дозволь, мол, Симушка, призреть болезную. А Саввишна: да пёс, мол, с тобой, ходи за старой колодою, отскребай, мол, говны от ей, больно надобно – а сама, слышь, морду воротит белую. Шур’чка и ходит блаженная: там что моет ей, что скребёт, родимые мамушки! А чего не скрести, кады в три горла жрёт от добра Саввишны, ин мурло трескается!
И денно и нощно у постеле Митревны Шур’чка-дур’чка – а тут, сказ’вали, чтой-то закимарила да ровно скрозь сон и слышит голос Симушкин: отдавай, мол, бумаги на дом, куды запрятала, паскудь ты старая, не то, мол, задавлю своей рукою белою. А Митревна ей: дави, мол, молодка, сама, гляди, задавишься…
Очнулась Шур’чка – а Саввишна стоит над Митревной – та толь шары и вып’чила… Еле и отходила старую: та всё грозилась казать рожна кого-то Симушке… Эт’ родной унучке, ирод ты старая: выпоила ей Серафима на свою-то голову. А дом, хивря ты, нешто в могилу попрёшь?..
А Шур’чка: можа, послать за батюшком, покуд’ва ишшо тепленька? А куды кинешься? И чтой-то ровно кольнуло в грудь белую – то блаженная сказ’вала: спохватилась Саввишна – и сейчас к дядь Коле к Гужеву: свези, мол, дядь Коля, мене в тоё село самое, да к отцу Федосею. Сколь хошь проси – не поскуплюсь, толь людям не сказ’вай. Дядь Коля не изверг кой: запрёг кобылу – толь их и видели. Д’ после уж, как три дни отпил-отгулял, и сказ’вал: свез, мол, ей чин-чинарем – так она поперву-т к дому чёренному и кинулась: там пристала к окну, что банный лист, что псина шелудивая… Д’ тёмно було – не разобрал ни рожна… Эт’ после уж к отцу к Федосею пожал’вали: так, мол, и так, отпусти, мол, отец, грехи рабы Божией Митревны. А тот, отец: отчего не отпустить – отпущу, мол, на то и приставлен к людям Господом. Поехали – а он: пошто, мол, не спраш’ваешь, Серафима Саввишна, про Чухарев про дом? Та ин побелела, истый крест: а на кой, мол, и спрашивать, кады позабыли, мол, мене его хозяева? А сама, слышь, в дрожь вошла. Ну гляди, отец ей, дело хозяйское.
’От приехали – отец Федосей сейчас к Митревне: почитал там что над ей, пошептал – а после всю челядь за дверь и выставил: уж и что он с ей делал, один Господь и ведал, – а толь ожила Митревна, как есть, ин ноги с постели свесила. Ну, отца под белы рученьки – и за стол, и потчевать: откушай, мол, отче, чем Бог послал, – тот откушал, от добра-т от Симушкина, не стал кобениться, там толь свист стоял. Откушал, роток отер, крош’чки с бороды смел: ну, прощевайте, мол, мир дому сему – а сам воззрился на Серафиму Саввишну. Та что аршин заглонула: ни слова ни полслова не молвится. Отец видел то, поклонился ей – и к дядь Коле: тот уж кобылу запрёг.
Так, сказ’вали, как отъехал отец, Саввишна-т заперлась в своей светелке и три дни выла в голос что оглашенная, людям спокою не давала: како же, понажрутся в три горла – и бузят, ироды Царя Небесного, креста на их несть!
А толь проходит всё – ’от и слёзы поповысохли…
А как поповысохли – сейчас скинула с себе Саввишна наряды пышные, кольцы-серьги богатые в сундук попрятала – обрядилась в каку-то отымалку чёренну: что неживая сидит, в одну точку глядит, ни слова ни полслова.
Митревна ей:
– Ты б хошь покушала, Симушка: Шур’чка, мол, понаварила щец… – Пустое: и с места не двинулась. Митревна с Шур’чкой добро ейно в три горла жрут – а ей и дела несть, потому что потухлая какая, Серафима-т, Саввишна-т.
’От день сидит, и другой сидит, и третий досиж’вает… А тут чтой-то на небесех ровно надтреснуло – Саввишна толь и сверкнула, словно молонья, своими глазищами – да сейчас и застыла сызнова. Митревна с Шур’чкой пер’крестились:
– Никак светопреставление! Прости Господи! – И вечерять сбирают на стол, шибкие, потому подошел пирог рыбишный: сам в рот так и просится, златокорым пышичем. И толь уминать зачали – сейчас в окош’чко ктой-то кабудьто постук’вает: как на стол пирог – так гость на порог. Митревна – за дверь и что сгином сгинула: несть как несть. Шур’чка уж который кусочек заглат’вает – нейдет хозяюшка, ’от ить страстушки. На Саввишну глянула – та посыпохивает. Куды кинешься? Пер’крестилась блаженная – и за Митревной в темь, что в омут головой, канула.
А Саввишна меж тем который сон уж догляд’вает, сымает с его сладкую пеночку. И мнится: врывается в горницу Митревна, за ей Шур’чка-дур’чка – и в крик кричат:
– Там твой, мол, приехал – сватает! – Саввишна очнулась: на лбе испарина, ин вся упрелая. А Митревна с Шур’чкой и стоят пред ей: – Там твой приехал – сватает… – Заметалась по избе Саввишна: не ведает, в кой угол кинуться! Приехал, Господи!.. И за дверь выскочила, что ошпаренная, толь и присвистнула. И сейчас молонья яркая небо перерезала – глядит Саввишна: чтой-то чернеется…
– Бориско?.. Яков Яковлич!!! – И кинулась к любому!
– Серафимушка, краса ненаглядная! – И цалует ей!
– Яшенька…
– Симушка…
– Любый мой…
– Моя кровинушка… Пойдешь за мене взамуж, Симушка?
– Пойду, Яшенька! – И сцепились наши полюбовнички в единый клубочек – не распутаешь. И накрыла их темень кромешная… И любились так сладко, стыд презрев, почитай до самого до первого кочета. И Митревна с Шур’чкой носу свово не высунули – так и уснули в неведеньи, чего там у их сладилось…
А и сладилось: тую ж ночь понесла Симушка младенчика чернокудрого с глазами-угольями…
А утречком те дерюжки, что Симушка с собе скинула пред соитием, Яков Яковлич в печь: гори они синим пламеньем…
И сидели Яков Яковлич, Серафима Саввишна да Митревна с Шур’чкой, и сватался Яков Яковлич чин чином, все, как у людей, к своей зазнобушке:
– Человек я сурьезный, баушка Митревна, тверезый, зажиточный, ученый человек, уважаемый. Не прощелыжил, не паскудил, потому закон блюл. Прижил сынка Микиту от жаны моей покойной Аринушки – ныне вдовею уж который годок… – И погладил бородушку, и сверкнул очами на Симушку. Та глаз не сводит со свово желанного, кажно словцо его смакует, а округлилась что, налилась соком, разрумянилась, точно поспелое яблучко! – ’От полюбил Серафиму Саввишну – прошу ейной руки. – А Митревна:
– Да я что, отец мой милостивец, нешто поперек? Коли люб ты ей – забирай, обженивайся! – А сама довольнешенька: како же, сядет в доме хозяюшкой полною!
– Люб я тобе, Симушка?
– Ой ли, Яшенька? Ишшо спрашиваешь! Уж так люб, так люб… – И зарделась что закатным яблучком.
– Тады сбирайся, моя любушка! – А Шур’чка блаженная ин прослезилась: больно уж Симушка счастливая, а кой ей возьмет, дур’чку?..
’От собралась Симушка, присели на дорожку дальнюю…
– Ну, поехали…
– Обожди, Яша, – спохватилась Саввишна. – А дом? Дом-т на ей записан: нешто я брошу добро? – И Митревне: – А ну, давай бумаги на дом, старая! – А та упирается, на Шур’чку косурится.
– Да пес с ей, моя любушка! Всё добро тобе подпишу! Будешь в елее купаться, откуш’вать с золота! – Так сказал – д’ толь их и видели…
Как до дома Чухарева доехали, тот самый пес и ведает, потому любились всю дорожку до полусмерти, а дождь не щадил наших полюбовничков – лупил по ихному телу по белому..
– Ну здравствуй, хозяюшка! – Тпру, приехали – и Сивко стал что кол вкопанный. Василей в пояс кланяется Саввишне, Мавра хлебом-солью ей привеча’т. Та, слышь, с дрожек сошла что королевиша, на нерадивых сродственничков и не глянула.
– Что эт’, Яша, ты кабудьто сказ’вал, что в доме отныне ни единой душеньки?
– Обожди, Симушка, окрутимся – долю им ихну выделю и распущу на все четыре стороны…
– Эт’ каку-таку долю, Яшенька?
– Д’ за дом за Чухарев, моя ясноокая, не то с живого не слезут, ироды. Я уж и Бориска, и Микит’шку с ниверситету выписал: пущай позавидуют мому счастию! – И в уста сочные впивается, и на ладошку содит груд’шку белую, что каку горлинку.
– Обожди, Яшенька, а мы случаем с носом не останемся?
– Не останемся, моя любушка! – И милует ту горлинку. – Накопил я добра на сто лет вперед! – И хохочет в чёренну бороду.
Повеселела Саввишна:
– Пущай, мол, тоёй долей подавятся! – И любится с Як’вом Як’личем и денно, и нощно. До того долюбились – часы большущие ишшо самого Чухарева дед’шки стали что кол вкопанный – и не двинутся… а можа, пришло и ихно времечко…
Любиться-то они любятся, собачьи псы, а пошто не окрутятся-т? Так отец Федосей больно крут: не стану, г’рит, венчать в храме, мол, Божием, потому блуд творят, потеряли стыд. Уж Яков Яковлич Чухарев и так и сяк отца умасливал – а толь тот что черствый сухарь: и на зуб не возьмешь. У Саввишны ’он пузо округлилось ровно наливное яблуко – отцу что кол на голове теши: завей горе веревочкой, не стану, мол, окручивать, и весь сказ. А тут ишшо Борис’шко свалился на голову, что то яблуко: ну здравствуй, мол, тет’шка… Тет’шка… Хорошо племяш… А сама, Саввишна-т, оком смакует шелкову бород’шку, шельма ты рыжая… Нешто запям’товал, как цаловал-миловал тело белое, ин ел поедом?.. А топерва тет’шка?..
Взяло ей зло: эт’ что эт’ деется, люди добрые? То проходу не давал, песий ты сын, а ноне морду отворач’вает белую?.. И ишшо пуще с Як’вом Як’личем любится, жана, ишь, невенчанна…
Так Бориско что удумал: зажал тет’шку в темном углу, сказ’вают, – у той ин пузо на лоб полезло, – и прожег ей глазом своим угольем: всё одно, мол, будешь моей. Повеселела Саввишна: знай, мол, свое место, вперед батьки в пекло не лезь – и к Як’ву Як’личу пуще прежнего ластится.
Тот ин озверел: забросил тела свои небесные – бес ему в бороду – одно ноне толь тело и обслед’вает своими что струментами учеными.
Так Бориско что удумал, песий ты хвост: к отцу Федосею в ноги кинулся. Окрути, мол, мене, отец, с Симушкой, потому люблю ей до усмерти. Крепко призадумался отец, поскреб бороду – и к Як’ву Як’личу: явился всей своей особою. ’От явился, окрест пер’крестился.
– Ну, г’рит, твоя взяла, Яков Яковлич. Обвенчаю, мол, тобе с Серафимой Саввишной! – И принял на свою голову дела ихны грешные. – Но толь как обженишься, слово, мол, дай оставить свое чернокнижие. – Тот дал: куды кинешься?..
Так Бориско что удумал, песий ты выкормыш: тую ж ночь, кады дяд’шка с тет’шкой уж сладко посыпохивали, прокрался в кабинет самого Як’ва Як’лича и сейчас пошел шерстить странички заветные, Сим’шкиной рученькой пер’писанные, в стоп’чку лист к листу сложённые, – толь пылища и стала столбом вкопанным, потому давненько, слышь, не касался к делам небесным своею дланью ученою Яков Яковлич… ’От шерстит, Бориско-то, а сам промеж себя думку и думает: и чем, мол, взял дяд’шка Сим’шку, чем подмял под собе эдаку королевишну пышную… Уж он шерстил-шерстил, всё сыскивал словцо заветное, коим присушил Симушку Яков Яковлич, д’ ни рожна и не выискал, потому премудрость ученая не кажному дадена… Толь с досады и саданул кулаком Бориско-то: всё одно, мол, будет моя, эт’Серафима-то. А кулак-т пудовенный – потрет Чухарев так и рухнул об пол главой вдребезги…
А сам Чухарев, Яков Яковлич, пир сбирает горой на весь мир: пущай, мол, люди добрые завид’ют эд’кому счастию. Напою, мол, накормлю что мал-мала, что стар-стара до усмерти: гуляй, мол, честной народ, пей-ешь за здравие Як’ва Як’лича с молодою жаной Серафимой Саввишной!
Да помнил и слово свое: подманил к собе перстом Мавру Як’левну с Васильем Кузьмичом да Борис’шка… Так, мол, и так, сродственнички, проздравьте, мол, мене, потому сочетаюсь законным браком, мол, с моей что зазнобушкой Серафимой Саввишной! А сам ин светится: ’от ить что любовь с людями-т творит. По сему, мол, случаю, долю кажному за дом Чухарев жалую: сочтите, мол, копеечка к копеечке. И три стоп’чки – ден’жка к ден’жке – вымает с сундука. Эт’ Мавре Як’левне, сестрице, с муженьком ейным Васильем, эт’ племяшу Борисушку… А Василей: а эт’, мол, чья доля, зятёк? Никак, песий ты сын, на чужо добро рот раззявил? А эт’, мол, Микиткина доля, сынка родного: того и гляди, явится. Не обделил ли чем? Не обделил, отец: наша доля – твоя воля. И в ноженьки кланяются Як’ву Як’личу, челядинцы-то. Ну, стало, как справим пирком д’ за свадебку, – ослобоните дом Чухарев на все четыре стороны: буду стоять в ём с моей жаной да с потомствием – и по пузу, слышь, поглаж’вает Саввишну. И то, отец…
И настал день венчания, и обрядились молодые в наряды пышные-богатые краше самого красного, и застыли в церкве под оком отца Федосея, и Мавра плакала, и Василей брюшко поглаживал, и Бориско закусил губу до сукрови…
А Яков Яковлич не сводит глаз с Серафимы Саввишны: моя, мол, моя, жана моя любая! Там так пялился, что выпала свечечка из рук его… Мавра толь и ахнула: святые угодники! Так Бориско что удумал: подхватил ту свечечку и дёржит, песий ты выродок. Всё одно, мол, будешь моя – еле и отташшили от невесты от Чухаревой-то. А та промеж собе и подум’вает: это ж топерва можно и Борис’шком полак’миться, потому выведать страсть как не терпится, что слаще, семя младое аль мошна богатая…
И толь прикрыла очи, жана венчана, как чтой-то кабудьто рухнуло – и сейчас шум-гам поднялся в храме Божием… Очнулась Чухарева жана – глядь, а супруг ейный уж посинел…
Покуд’ва люд кинулся выносить с церквы покойника, подкосились ноженьки у младой вдовы: чует, как оседает тело белое, ровно пустой мешок… Д’ спасибо, подхватили ей руки сильные…
– Яше… Борюшко?.. – И повеселела вдова. – О Господи, чёренный-т какой! – И пужается.
– Эт’ с тоски, Симушка! – И кидается к своей лебёдушке!
– Ты ученым-то станешь, Борюшко? – А тот поглаживает чёренну бородушку да прожигает взглядом вдовушку: а глаза что уголья, вот ей-боженьки!
– Любая моя, да мне и наука без тебя не сладка. Вот, дай, обженимся…
– Да как же обженимся? – А тот смакует уста ее сахарны, на тело белое облиз’вается!
– Нету моей моченьки…
– Погоди, неугомон: церква ить, грех это… – А тот срывает платье белое, ин страстью заходится, ин бельмы закат’вает…
– Моя, моя, Симушка… – И выдохнула белая лебедушка, и поплыла девчонка наша по волнам по огненным: куды-то выплывет?..
Сказка
Сельцо-т у нас ма-а-ахонько: там тако крохотно, что ’от кабы вся Расея как есть караваем была – и стал бы тот каравай какой там богатырь аль великан уплетать, сольцой – како же – присыпать, ртище свой открывать, то наше сельцо ему, почитай, ровно крошечка промеж зубьев и попало б: и скусу никакого – одно пустомесло. Толь и сплюнул бы, да толь мысалы отер: потому дрянь сельцо. Так мало что крохотно, то полбеды, – беда-т, что далёко от миру расейского сеяно: самый что край свету и есть, с боку припека. Потому спроси хошь ’от у дедушка Екима: хто, мол, дедушко ноне царит – он сейчас и перекрестится, д’ усмехнется собе в бородищу, засумлевается: «А пес его знает, лежебокого? Кто б ни царь – мы-т свой промусел справно блюдем: хлебушко сеем-жнем – мир-от и стоит покудова». Вот и весь сказ. Старый дед’шко: на ладан дышит.
Так они и жили. Жали, д’ уминали, топали, д’ за обе щёки лопали, потому не было печали. А тут накося-выкуси: напасть – разевай поширше пасть.
Полюбился одной доброй девице один добрый молодец. Оно конечно, на то она и девка есть, чтоб любиться да приплодом плодиться. А два брата они были: волос в волос, голос в голос, нос в нос – и рад бы, а не разбери Христос, который куды врос. Вот, стало, ей-то полюбиться полюбился, а вот она ему не то чтобы нет, а не знамо что про что.
А в деревне той ворожея была: ворожила. Вот и пошла к ей девица: приворожи, мол, старица, страсть как полюбился-глянется, мол, милок. Та, старуха-т, дала ей снадобье не снадобье: пес толь и разберет, какую-такую важность. Вот дает, а сама промеж тем и сказывает: ты, мол, сказ’вает, спеки хлебы пеклеванны, да туды и подмешай зелье-то. Станет молодец хлебы те есть – пойдет носом клевать, потому сонный сделается, ну, а после-т навек пристанет, что банный лист. А что, старушка, молодка-то наша испрошает, как ему хлебы-т те приподнесть, каким боком припека? А таким, мол: напросись к обеду; сейчас только хлебы поспели – и ступай. Да примется, милок-т который, суп хлебать, ты сейчас, дескать, хлебы вымай, да с пылу с жару и подавай, о как.
Ну, молодка-т знатная была пекарша, уж така знатная, что краше и несть, и не выскажешь. Потому неча и пустое брехать – помело распускать.
А тут, поди ж ты, тетка Кудыкина, самая мать того молодца, кой полюбился нашей девице, ей и встренулась. Да как встренулась – сейчас и на обед зовет: так, мол, и так, позабыла совсем суседушку, а ить мы с твоим батькою никак кумовья, всё не чужни каки. Та, молодка, к обеду и вызвалась: само ить и вьётся-деется.
Вот замес поставила, да сама пужнем пужается: страшно, это ж ить бесовское дело затеяла, нечистое. Да куды кинешься: и опара уж прет. Пропадать, так пропаднем: мужней – не то чужней. Вот что там положено в тесто подсыпала (пёс их разберет, ворожей тех), хлебы – в печь долой, да сама-т что в раж вошла! А хлебы-т тем временем разрумянились пуще крали на выданье: там пышут что, там в рот так и просятся, неуёмные.
Тут такое подошло: стучит кулачком в дверь заветную, а сердечко так колотуном и колотится, что тот кулак. Отворила сама Кудыкина-мать, к столу приглашает гостьюшку. А там стол от яствий как есть ломится: и яблуко не покотится – а коли покотится, то которому в роток! А за столом хозяин, Кудыкин-отец, да сыны Кудыкины: пёс разберет, который кто (а и пёс тут же под лавкою: всё чин чином, всё, как у добрых людей – потому кому на полати, а кому и под лавкой век гавкай: всяк себе сверчок!). Матерь толь и крутится, ровно веретено какая, толь и успевает яствия подносить да облиз’ваться, потому сыны Кудыкины – там два таких дюжих лба: что ни подсыпь – все пожрут, схрумкают. От миски не отрываются, один свист стоит, д’ за ушами трещит: на молодку и не глянули, все пужаются, что которому меньше достанется. Да и отец не отстает: конечно, не то, что в младости-сладости… уж откушивал, неча сказать, понатешился! Вот трапезничают, стало.
Ну, наша-т промежду тем минутку улучила, кады тетка щи на стол тащила, – сейчас хлебы вымает, да милка свово и приманивает. А тот толь рот раззявил – а братец почитай что из глотки у его хлебы вырвал и давай в три горла жрать, наяривать. В миг умял – поминай как звали, псу толь крошечки и досталися. Пекарша-т шары и выпучила: это что же, люди добрые, деется! Вот ить бесовский промысел, не иначе как! Да не вернёшь хлебов, потому сожрал брат-злодей, пеклеванные. Сожрал – и сейчас носом заклевал (и пёс за им с рылом своим, гляди ж ты: куды конь с копытом, туды и лягуша с лапой!) – всё, как ворожея сказывала… рожа ты нечистая, и куды втравила честную девицу…
Попрощалась она вмиг с теткой Кудыкиной – тётка и слова не молвила, ровно аршину отведала, – и сейчас что ветром за околицу и выбежала, и не присвистнула.
Только с той поры куды ни пойдет – молодец (но не тот, что люб, – другой, здоровый лоб) за ей скётся, да и пёс не отстает, что малый дитёныш, лижется да повизгивает! Это ж страм один: и на люди не покажешься, о как! Что делать – к ворожее кинулась: так, мол, и так. Ты что, мол, кочерёжка ты старая, приворожила, д’ не того: не мыло, мол, а шило. А ну, деск’ть, отвораживай обратно! А та жрёт себе в три горла: млин за млином наминает, на творожник рот разевает – и не мигнёт, мало что ноне мясопуст…
Постой-ко… Эт, сказ’вают, тоже ’от одна хивря, мордоворот, приворожила… на свою выю. Эт Кобыляева, что ль? Э-э, то-то что, вот у людей було: Крысятина – не чета кой-то там, что оторви да брось, не-е, – учительша, детям учила по-басурманьему брехать (слышь, эвон куды наука-т скакнула: от горшка два вершка, а уже по-ихнаму лулы складает, что собака на ветер лает!). Все честь по чести, все как пропис’вают.
А тут поди ж ты, как нелёгкая ей возьми. Чухарёв у их такой стоял, дядь Митрей, на гармонии грал спра-а-авно: где пирком свадебка, где помин покойницкий – он сейчас меха этак растянет важно: чин-чинарём, не млина ком. Вот и растянул… А там прощелыжник, прости Господи, клейма прижечь негде, потому весь исколотай! Там пропойца что лютай, там старе поповой собаки… родимые мамушки! Да пропади ты совсем пропадом, пёс бы тя драл – о что за человек!
А толь что дурень какая сделалась учительша, точно лишенько ей подшелушивает. Ей бы китрадки, висе, блюсти, да детям учить, а она, халдюга, шаль с кистями (то ей ишшо с баушки-покойницы сняли) напялит на телеса и скётся за им, за Чухарёвым-то, по свадьбам-похоронам. А тому хошь с кистями, хошь без кистей – все одно: шары залил и пошел тискать свою гармонию за меха, о как.