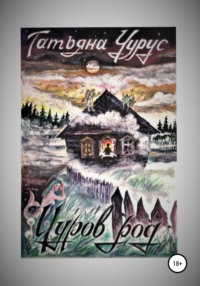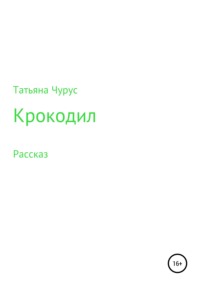полная версия
полная версияБаушкины сказки

Баушка мне сказывала…
Баушка мне сказывала…
Я девчонкой-то, мил человек, ох и неуемная была, ох неуемная: вот, скажем, ночь на дворе, почивать пора – я ни в какую: ору благим матом во всю ивановскую! Мать и так и эдак – толку чуть: не иду спать и все тут. Что делать с бесстыдницей? Уж так намается со мной покойница (ныне-т упокоилась ль, матушка?..), что, бывало, руки опустит: сядет, ноги так расставит, голову свою повесит… Сердце и сейчас кровью обливается, когда упомню то, да не вернешь мать, не вернешь родимую с того света… Вот, стало, руки-то и опустит: у всех, мол, дети как дети, а эта… Скажи хошь ты ей – это она отцу, а тому завей горе веревочкой: да пошли вы к едрене матери, ни вздохнуть, ни пернуть. Пустое – мать толь и махнет рукой…
А баушка уж который сон доглядает в те поры: и то, рано укладывалась покойница, свято обычай свой блюла. Бывало, чуть затемно – она сейчас зевает во всю горла ширь, зубом своим единым посверкивает, потому уклад деревенский почитала. Правда, и вставала до свету. Вот встанет – сейчас кашу манную затеет (уж больно любила я кашу-то манную!), а то и блинки когда, оладушки, а то еще лепешки знатные пекла баушка: и по си дни слюна течет! Я-то посыпохиваю себе, один свист стоит, а у нее уж поспело все: само в рот и просится. Вот истинный крест: я девчонкою блинков по десять за присест уминала, и не морщилась. Сяду, бывало, за стол, покрытый белою простенькою скатеркою, что матушка вышила крестом, а баушка сейчас тарелочку предо мною ставит (помню, совсем махонькая любила я дохлебать до донышку супец, чтобы увидать на том на донышке цветочек или какую ягодку, а то и зверушку какую – много у нас было всяких расписных славных тарелочек!) – вот ставит, а в ту тарелочку кусочек маслица кладет: кусочек с коровий носочек – так она говаривала, потому кусочек-то добрый был. Вот, стало быть, маслице на тарелочку, а сама ножичком эдак подденет блинок да с пылу с жару на то маслице и посодит – оно толь и расплывается, довольное. Я одно знаю себе, как блинок тот с боку на бок переворачивать да в роток отправлять, в маслице обвалянный, чтоб по устам текло. Вот понаемся так, что глаз разомкнуть не разомкну, потому сон богатырский сейчас и сморит сладостный, точно и ночь не ночевала. А баушка: наелась, мол, как бык, – не знаю, как быть.
Вот к баушке-то мать и кинется, потревожит сон ее: угомони, мол, баушка (у нас все ее прозывали баушкой), волхвитку эту, нету, мол, моей моченьки, всю душу мою она вымотала. Вот и сейчас, как упомню то, волос дыбом встает, да не вернешь родимую… А волхвитке – это мне-то, кому же еще! – того и надобно: уж больно любила я сказки баушкины (и не знаю, что боле любила-то: сказки или блинки с лепешками!) – толь тем и можно было унять меня. Ну, баушка, оно конечно, спросонья-то уж больно кобенится, сердитая: мол, сами разбузыкаете девчонку, а потом баушку кличете. Да мастерица сказывать, потому чуток покуражится, а потом махнет этак рукой: ладно, мол, но то в последний раз! А я уж замерла вся – мать толь тихохонько так и окрестится.
А уж те сказки баушкины на зубок я выучила: одно да потому твердила сердечная. И про курочек про уточек помню, вот как сейчас: мол, сказывала, жили-были две сестры – мать твоя (это моя-то матушка) и сестра ейная (это тетушка Шура) – и достались им две курочки. Матерна курочка вся собою черная, толстобокая да хромая: на одну ногу припадала, что каракатица, потому под колесо нелегкая ее понесла – вот и припечатало. Уж так мать жалела свою курочку, так над нею квохтала, что сама была какою клушею. А у Шурочки желтая курочка: так ее и звали все – Шурочка, мол, желтая курочка. Там такая махонькая, там чистотка! Вот сказывает баушка, а толь я слезами изойду, потому люблю черную курочку пуще всего, потому погибла она раньше желтой соседушки: в суп пошла, ни за что ни про что сгинула… Там что убивалась мать…
А то еще сказывала баушка про то, как дедушка Алеша – то он ей дедушка, а мне и невесть уж кто, потому сколь годков-то с той поры минуло! – так тот дедушка больно бородушку имел красивую, шелковую: гребешком ее расчесывал, что девка косу. А тут несчастие: нога стала гнить у дедушки, колено самое, что ствол у худого дерева, когда оно уж неплодное: вся струпьем изошла, нога-т, как говаривала баушка, – а мы, мол: и взрослые, и дети малые, – вонищей той дышим, а не пикнем, потому почитали дедушку, а он уж и не двинется. А я слезами пуще прежнего обливаюсь, потому и дедушку жальче жалкого, и малых детушек, и баушку махонькую… А маму мою, сказывала, он на той на ноге, когда была целая, что на качельке, покачивал: до того матушка была крохотная.
Знатно баушка сказывала, все как есть перед глазами стоит: и Катюша Воронова, деревенская дурочка, и дядь Коля Гужов, что был конюхом, – все, как сейчас, упомню, потому дух захватывает! А на что оно мне: не видала и не слыхала тех людей, царство им небесное! А как живые стоят, потому слову сила большущая дадена. А тут что-то разбузыкалась я: мол, все на сто рядов переговорено – сказывай, мол, новое, а не то не усну. А баушка: да какого тебе рожна, кричит, надобно, хивря ты? А такого, кричу, что тетке Фекле сказывала. А тетка Фекла то была сестра баушкина муженька покойного, которого война скосила (то сами слова баушкины). Приходила она по обыкновению раным-рано. Как сейчас ее вижу: черный платок, платье серое, а поверх платья фартук повязан, и глаза, помню, такие черные, что вот как уголья горящие прожигают наповал (хотя и уголья-то я отродясь не видела!). Вот придет тетка Фекла – стало, какой церковный праздник на календаре (но про те праздники строго-настрого наказывали не трепать чего лишнего: времечко-то было лютое!). Придет, а я посыпохиваю, знай себе, завей горе веревочкой. Проснусь – а они куличик мне припасли, а и того пуще: яйцы красные, луковой шелухой крашеные! А сами полеживают на большущей баушкиной кровати – разговелись уж! – и вполсилы перешептываются. Я куличик-то завидела – сейчас обрадуюсь! А уж яйцы что красные, шелухой луковой пропахшие! Мне и неведомо, про что там баушка с теткой Феклою щебечут еле слышными голосками старческими – у меня одна забота: кулич умять с яйцами.
А тут пробудилась я раз что-то раньше прежнего, а сама слышу: тетка Фекла уж пришла. А на Пасху дело было, потому говорит тетка: в церкве, мол, была, куличик святила, да встренула, не догадаешь, мол, кого. Ну, баушка, известное дело, присвистнула: да кого ж, мол, Фекла Матвевна? Она ее, почитай, всю жизнь величала Феклою Матвевной, потому, сказывала, то одна-единственная ниточка в роду человеческом, что связывала ее, баушку, с Васей-покойником: а уж что любила она его, уж так любила! Вот и спрашивает баушка: да кого, мол, встренула, не томи, мол, сказывай. В эту-то пору пасхальну все, мол, чудное деется. А тетка: да, говорит, Нюрку Рядову с Ляксандром. Стоят, говорит, пред иконкою, а сами вот каким светом все светятся. Баушка и вздохнула: родимые матушки, вот, говорит, отродясь ни одной душе не завидовала – Бог миловал, – а Нюрке завидую. Да сейчас и креститься пошла: прости, мол, мене, Господи, рабу Твою грешную. И то, согласилась с нею тетка Фекла, прослезилась сердечная. И ни слова ни полслова более…
Вот про эту-то Нюрку я и заладила: сказывай, мол, а не то не засну. А мне в ту пору уж парнишка один глянулся, Митька такой: там весь маленький, беленький, ну вот что птенчик какой! Это ж сколь годков-то прошло? Сейчас небось, поди ж ты, Митрий Степанович… А и после любила, и не раз, да толь сердце-то так не замирало в груди, как тогда, в младости… Бывало, завидим друг дружку, что шальные сделаемся! Мать тоже вот, бывало, все меня на смех брала: иду, мол – это она отцу, – а наша-то верста коломенская (а и то: велика я девчонкой-то была, вот что молодка взрослая!) куры строит этому пупырышку! А отцу – слава Тебе, Господи, все едино: пупырышек или распупырышек: шары зальет – царство небесное покойничку – да и посыпохивает. Вот так она чехвостит нас с Митькою – а я ну хохотать, потому со стыда горю: мол, да дурень он, сто лет, мол, он и нужен мне. А сама пунцовенная сделаюсь, что яблоко переспелое.
Вот в раж-то я и вошла: сказывай, мол, про Нюрку с Ляксандром и все! А баушка: ну что орешь, мол, ровно сивый мерин? Понажрется, говорит, на ночь – и глотку дерет, силищи девать некуда. И то правда, грешила я девчонкой-то, чревоугодничала: на сон грядущий любила брюхо набить. А баушка ни-ни: как солнце почивать покатится, она в рот росинки не берет, потому справно закон блюла. Вот ору я, что есть моченьки, а баушка: матери в шесть часов вставать, а она, халда, разбузыкалась. А я нешто не знаю, что вставать? Потому и ору, словно оглашенная. Баушка – а куда кинешься? – и зачала сказывать: пес с тобой, мол, скажу, но то в последний раз, вот те крест истинный. А я уж и замерла: ловлю каждое словцо, ровно золотое оно.
Вот баушка так и сказывает: давно то было, сказывает, так давно, что будто и отродясь не было. Так вот в ту самую пору – аль еще того раньше – понародилось в нашем селе парней, что ровно яблок на доброй яблоне: и всё-то сочные, всё-то крупные, того и гляди полопаются. А промеж них народился самый Ляксандр золотым наливным яблочком, сказывает баушка, а мне невтерпеж: мол, не тот ли, что в церкве с Нюркой тетке Фекле встренулся? А баушка осерчала: вперед батьки в пекло сказки не лезь, мол, прикуси язычино, мол, а не то зачинай сама, не буду, мол, и вовсе сказывать, пущай, мол, тебе ведро худое сказывает. А то ведро худое мы в сенцах ставили, потому, коли ночью приспичило, так справить нужду малую: не все ж ходить до ветру-т. Вот и онемеешь, потому какой с того ведра спрос: пустое ботало – а страсть как не терпится выведать у баушки про Ляксандра про золотое наливное яблочко.
Вот понародился, примется сызнова баушка за свой нехитрый сказ – а я уж довольнешенька! – да такой славный что: матерь не налюбуется Ляксандрова: весь так светом каким и светится! А хозяйство большущее, ртов полна изба, потому сегодня он понародился – а к завтрему уж надобно выходить работать наравне с мужичинами. Вот потому к Ляксандру махонькому – а он вот что цыпленочек! – приставила бабицу застарелую: какая уж там работница, век свой выжила – пущай на старость лет позабавится, люльку с младенчиком покачивает. Сама-то, мать, бывало, прибежит чуть жива, титьку сунула сосунку – и обратно в поле, потому сенокос. Вот, стало, нянька-то старая за ребятенком и приглядывает, а сама и усни на один глазок – тот, мальчишка-то, из люльки выскочил и убился: на земь бряк! И ни одна б душа про то не проведала, потому скрыла преступница ты старая, да пришла пора: встал на ноженьки, когда уж все сроки минули, а ноженьку-то и приволакивает. Повинилась бабица, в пол челом кинулась: мол, моя вина, меня и судите, люди добрые, – а толь не вернешь времечко-т: так и фершел сказывал. Мол, так и будет ноженьку приволакивать, а мог бы летать соколом! Уж там что убивалась мать Ляксандрова, что слезьми обливалась сердечная, что свечечек в церкве ставила – все одно: как приволакивал, так и приволакивает, толь того еще пуще. А до чего хорош, пригож, румян до чего, покуда сидит, а как встанет – сердце кровью обливается: одно слово – мученик.
Вот, сказывает баушка, времечко катится: уж девки с парнями любятся, а Ляксандр один как сыч, потому которая на колченогого позарится, коли вокруг прорва парней: яблоку негде упасть. Кручинится мать: мол, видать, сынок, век тебе одному вековать, а нам с отцом твоим не дедовать. Прости ты, мол, мою душу грешную: не доглядела, мол, невесть кого к тебе приставила. А тот, душа добрая, светлая, толь улыбается пуще прежнего на радость матери, потому там такой сын: ищи по свету – не сыщешь с огнем.
А тут село соседнее полегло: там полыхало так, что вот одни головешки да чурки остались – люди и подались кто куда. И у нас стояли погорелые, а промеж ними и была, сказывает баушка, Нюрка с отцом ейным дядь Егорием. Так мы, слышь ты, сразу стали величать его горем луковым, потому пришло в дом к ему горюшко горелое. А я уж ровно в рот воды набрала: сижу как мышь, надувшись на крупу, потому страсть прознать хочется, как у Нюрки с Ляксандром все сладилось.
И так подошло, сказывает меж тем баушка, что ночь ночевать их спровадили, самых Рядовых, к родне Ляксандровой: положили их на лавку, накормили досыта – все чин-чином, все как у людей. А толь ночью Нюрка – то она сама после сказывала – и видит во сне Ляксандра, вот будто он в красенькой рубашечке. А то дело известное: так суженый приходит к девке на выданье. А и какая она девка, баушка сказывает. Невесть что, потому годами старая, а не мужняя, при отце, что хвост при псе. А до чего красивая: волос вьющий, густой, глаза раскосые, сама полная, белая, статная! Тут не стерпела я: а почему, мол, невесть что? А баушка вошла в раж: да как почему, антихрист ты? У нонешних-то людей каков закон был: коли к двадцати пяти годкам девка не плодная, а того более не мужняя жена, стало, порчь на ей лежит, почитай, сглазили. А ей, Нюрке-то, в ту пору уж годков тридцать, как есть, минуло, а то и более. Правда, согрешу, коль скажу, что застарелась она: не брало ее времечко – так Господь ссудил. И по всему видать, не дева старая. Не успела и вымолвить баушка – я сейчас тут как тут, пострел такая, потому не вытерпела: а кто, мол, такая дева старая? А баушка: ну надо же, а? Куда, мол, конь с копытом, туда и лягуша с лапой, много будешь знать – скоро состаришься. И сейчас зевнула сердечная и окрестила роток по обыкновению. Я и не мигнула – она уж посыпохивает. Куда кинешься – и я в дремь вошла: закимарила. И той же ноченькой снится мне Ляксандр не Ляксандр, Митька не Митька – а толь в красенькой рубашечке. И с той ноченьки, мил человек, про что другое уж и думать не могла, как про Ляксандра с Нюркою.
Вот вторая ночь по небу катится – я что паинька: баушка еще толь позевывает, а я уж почивать готова под ейны сказки незамысловатые. Вот легла – а мать и не нарадуется: и чем, мол, баушка дитя неразумное потчует, что оно – это я–то! – точно шелковое? А тем, родимая матушка, что и знать-то мне не положено, но до чего сладостно катится тот сказ, ну вот что золотое яблочко по блюдечку…
А баушка потягивается, позевывает пуще прежнего, потому охота ей, по всему, покуражиться чуток, потянуть за хвост времечко. Я молчок, замерла ровно истукан каменный: и то, боюсь спугнуть сказительницу… Покуражилась-покуражилась баушка, назевалась всласть, окрестила роток да и спрашивает: нешто сказывать, мол? А я: да как, мол, не сказывать? Вот сказывает: на чем, бишь, я застыла-то? А на том, что не дева старая… тьфу ты, прости Господи, эку невидаль несу, грешница, ровно нечистый за язычино тянул! И пошла сейчас молитву творить, а которую, и не упомню, милок, потому иное на уме стоит. Вытворила что там ей надобно – да и сказывает: увидала, стало, Нюрка Ляксандра во сне в красенькой рубашечке, а он-то сам, Ляксандр-то, Нюрку увидал простоволосую – то он после уж повинился матери. Вот увидал… А коли девке расплели косу – сейчас хошь под венец, потому засылай сватов. Куда кинешься: видать, сама судьба свела соколиков. Да это толь скоро сказка сказывается, потому на языке-т она сидит легче лёгкого – а дело-т не скоро деется: тут уж сто узлов завяжется…
Вот переночевали ноченьку погорельцы-т самые: Нюрка да отец ейный Егор… забыла по батюшке. А и помнила бы – все одно не величала бы: тьфу на него, Бога он не знал – не стану и сказывать. И махнула рукой баушка. А утром хозяйка – дело известное – собрала на стол хлебушко, да картофь, да сальцо с яйцами – потому своих ртов полна изба: всех кормить – без портов ходить. Те, погорелые-т, едят да нахваливают, за обе щёки закладывают: потому им что ни дай сейчас – все умнут, не поперхнутся. Понаелись, поклонились в ноги хозяевам да и пошли себе, а толь хозяин сам, Ляксандров отец, на Нюрку глядит, рожа ты бесстыжая, да и сказывает: а оставайтесь, мол, работать что поможете, где, мол, семеро ртов, там и девять прокормятся. А те и радешеньки, потому ни кола ни двора: один ремешок и есть что подпоясаться. Видит хозяйка: замыслил сам что недоброе: эвон глаз масляный! – да перечить пужается: уж больно крут! И невзлюбила она Нюрку с той самой поры: ни во что ее ставила.
Вот живут: Нюрка – первая работница: дело в руках так и спорится. А подошло, что с Ляксандром они бок о бок день деньской, да все друг на дружку поглядывают, да все краснеются, все стыдаются. Любовь-то промеж ними сейчас и пригрелась. А хозяину то неведомо: зажал Нюрку в сенцах – и давай паскудить, песий ты сын!
Вот сказывает баушка – да и осеклась сердечная, прикрыла рот ладошкою: прости, мол, мою душу грешную, Отец, в раж вошла, язычино, мол, развесила – и творит молитву сызнова, пуще прежнего большущую. Вытворила да на бок поворотилась, окрестила грешный свой роток и, не сказавшись, сейчас уж и посыпохивает. Я не солоно хлебавши в дремь вошла – а куда кинешься? Да ночью-то и привиделась мне любовь вот что комочек махонький, что промеж Нюркой с Ляксандром пригрелась каким кутеночком.
Ты видал когда любовь-то самую, мил человек? То-то и оно… Я ить как раньше-т думала: любовь, она барыня-боярыня большущая, толстобокая, что берет людей силищей богатырскою. А вышло-т иное: беззащитный комочек махонький, который ищет пристанища у добрых людей, промеж коими и тепло, и сладостно – потому люди те в миру, в согласии. И не приведи Господь спугнуть ее аль чем огорчить… Многое, ох и многое мне чрез сказ тот баушкин открылось: мне-то, головушке пустехонькой…
А толь была и третья ночь, и баушка сказывала… Про отца Ляксандрова и не молвила боле, даже имени не дала – поминай как звали, – потому Бога он не знал: неча об таком и повести вести. Сказывала лишь, разлучили их, Нюрку то есть с Ляксандром, ироды, а какие-такие ироды, пошто разлучили – ни слова ни полслова: как хошь, так и разумей. А что я тогда, дите малое, разуметь-то могла? То-то и оно, милок, потому и прикусила язычино, а ушки на макушке. Одно толь и выведала у баушки: а как же, мол, любовь-то? Любовь-то, что промеж ними пригрелась, соколиками, куда кинулась? А баушка прослезилась, отерла глаза краешком платка: а любовь, мол, разрослась уж такая большущая, что вот как далёко ни разбросала судьбина Ляксандра с Нюркою, ровно пахарь семена, она всё одно промеж ними еще пуще пышным цветом цветет. Видала ль ты, испрошает меня баушка, сад вот хошь яблошный, когда он в плоть вошел? Вот такой и любовь ихная была: сильная да нежная.
Как сказала то баушка, сейчас слезы у меня на глазах и выступили. Ну будет, мол, волхвитка эдакая… толь принялась браниться по обыкновению баушка, да не ворочается, видать, язык: колом встал, потому видит старушка-сказительница, плачу-т я всамделишно, да вот что по-бабьему, не по-девичьи… Зарядили мы в голос с ней точно две плакальщицы, запричитали причтом чудным: я, веришь ли, мил человек, и знать допрежь не ведала, как это причитывают – а тут веду что по писаному! Экие премудрости… Баушка и та окрестилась, на меня скрозь темь воззрилась глазом своим буравчиком, что вот в самую душу пройдет. Мать-покойница: да вы что разбузыкались, кричит, ночь на дворе, мне завтра в шесть часов вставать! Да баушка цыкнула: а ну цыц, я говорю! Надобно – вот и ступай себе – а у нас, мол, дело сурьёзное! А я лежу: замерла от счастья, что вот ровно причастилась, девчоночка!
Мать – почивать, а баушка и сказывает тихохонько, потому кутает в платок свой старческий голосок. Вот, сказывает, долго ли коротко, а такое подошло, что и пером не описать. Я уж – это баушка-т – любилась в ту пору с Васей-покойником и дите от него понесла уж которое: зачреватела. Да и иные наши вьюноши любились с девками: спелым яблоком под подолы закатывались. А и славное стояло времечко, и не тронется: ровно кто заснял его на карточку. Толь Нюрка и маялись с Ляксандром, да разве ж мы, довольнешеньки, про то думали? Э-эх, завей горе веревочкой! Вздохнула баушка… А такое времечко, то люди-то старые сказывали, бывает перед лишеньком. Вот оно и подошло: войной прикатилось проклятущею. И всех молодцев, как одного, пожрала-подчистила: знатно полакомилась золотыми-то наливными яблочками – и не поперхнулась. От всего села старики остались старые да дети малые… Вася-то мой, покойничек, сказывала баушка, сгинул, в земь голову сложил: матерь твою так и не увидал, не назвал по имени. Всех пожрала, утроба ты ненасытная… а там такие молодцы: надкусишь – они соком и обдадут сладостным… одни косточки ноне и остались… А толь всех да не всех: Ляксандра-то и выплюнула, потому не забрили колченогого! Уж там матерь его и не ведала, как и благодарить ту няньку старую, в ту пору уж покойную, что проглядела ребенка-то! Уж она и целовала, и миловала ту ноженьку, которую родный ты мой сынок (то она причитывала!) приволакивал, уж там столь свечей поставила – едва церкву не спалила, пустоголовая. А Ляксандр – дело известное, – как прослышал про войну проклятущую, сейчас явился да в ноги матери и кинулся: люблю, мол, Нюрку пуще жизни самой! А мать ему: да на что она тебе теперь, перезрелая, когда вокруг столь невест краше красного! А тот в крик: не обжените, мол, пойду на войну да и обвенчаюсь со смертушкой! Куда кинешься? Смирилась мать, давай Нюрке поклоны бить – та и засветилась от счастья: и мне, молвила, без Ляксандра белый свет не мил! Его единого видят очи мои, желанного! Вот уж когда девки с бабами локти-т себе кусать пошли! И я, грешница, сказывает баушка, чужому счастью позавидовала! А куда кинешься: все в голос воют по мужьям да суженым – одна Нюрка плывет что павою: там довольнешенька, там что разрумянилась! Вот ить верно люди-то старые сказывают: кому, сказывают, война, а кому и мать родна!
И обженили их, и повенчали, соколиков (да по-тихому, потому церква в ту пору уж не в чести была, страдалица, да и батюшку нашего безвинного отрядили на ту войну прямехонько в пасть смертушке)… и скудно-то было угощение, и наряды-т бедны, и лица гостей что невеселы… А ихные лики светлые светились той самой любовью, которую – вот век прожила! – толь единожды и сподобил Господь узреть! Так сказывала баушка – и лицо ее мерцало в теми ровно свечечка пасхальная…
А после, сказывала, ушли они с тощим узелком, держась за руки, в село дальнее, потому нас берегли с нашим горюшком… Так сказывала баушка, а слеза катилась по ее щеке старческой, и пощечину, и поцелуи знавшую… Вот толь одного не ведаю, послал ли Господь им дитя?..
Сказала, окрестилась и в дремь вошла, а я еще долго ворочалась с боку на бок, словно лодочка утлая, на волнах покачивалась сказа того, припоминала каждое словечко, что слетало с уст баушкиных. И той же ночью мальчик золотой мне привиделся, что Ляксандр на ноженьке своей больной тихохонько так покачивал, а утром стали мы блинками разговляться маслеными, я возьми да и шепни баушке на ушко: мол, послал. Она лишь кивнула молчком…
А толь с той самой поры, мил человек, стоит тот сказ баушкин предо мной, что лист пред травой. И с той самой поры удумала я сыскать свою любовь, вот что коренную, исконную. Удумать-то удумала, да не скоро дело-т, сказывают, делается. А в девках-то я была уж такая статная, такая белая – одно слово: наливное яблочко. И не один заглядывался, не один головушку буйную сворачивал, когда я проплывала мимо какой лебедушкой, – да все без толку. Уж и баушка, и мать, отец и тот – все в голос говаривали: и какого рожна тебе надобно? Перезреешь, мол, в девках – последний пес не позарится. Так и сошли на тот свет, покойнички…
А и я уж не чаяла сыскать счастия, да и человек один вдовый стал сватать меня: хороший человек, работящий, тверезый – а сердце не лежит все одно. Куда кинешься: хошь криком кричи! Спасибо Господу, Нюрка мне ночью и привиделась: дожди, мол, суженого, я, мол, сколь ждала… Промолвила то – и истаяла… Отказала я вдовцу тому: пущай бобылит покудова – и что ты думаешь? И трех дён не минуло, как повстречала я своего любого! И ростком не велик, и язычином не ловок – а сейчас почуяла: мой, родной! – по свету по тому самому и почуяла! И сошлись мы с ним, и обженились, и повенчались по-тихому, и любимся… А после пришло времечко разродиться мне. И вот хошь верь, хошь не верь, мил человек, тот самый мальчишечка золотой, коего Ляксандр-то покачивал, мне и привиделся. А уж когда понародилось дите – Ляксандром и окрестили его… Хошь верь, хошь не верь… Но то уж иной сказ, мил человек…
Робятёнок диковиннай
Моей мамочке Ниночке
Понародился у Анисьи робятёнок. Ну, понародился и понародился, делов-то. У нас как сказ’вают: мол, иде шестеро, там и семому место сыскать немудрёно. А толь не простой робятёнок-то, какой диковиннай. Все дети как дети, а энтот…
– ’От я дура-т иде, а, – крестилась Анисья, – надоть было ему сейчас, как на свет полез, на одну ногу наступить, д’ за другую потянуть!