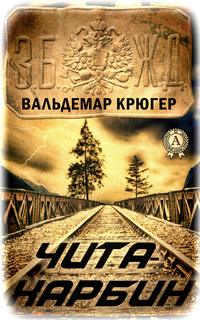Полная версия
За Рифейскими горами
Не избежали этой страшной участи и камасинцы. Они вымирали целыми родами. Вдобавок ко всему во второй половине XIX века эпизоотия уничтожила практически все поголовье оленей. Оставшись без источника существования, часть камасинцев покинула тайгу и перешла к оседлому образу жизни в подтаежных деревнях, где они постепенно смешались с русским населением. Нужно сказать, что уже в XVIII веке первые камасинцы вышли на степные просторы, где они поселились рядом с енисейскими кыргызами, говорившими на тюркско-качинском языке. Они получили название – степные камасинцы. Постепенно степные камасинцы забыли родной язык. Они стали пасти отары овец, сеять рожь и репу, и уже через несколько поколений называли себя русскими или хакасами.
Другая часть, осталась верной заветам отцов и перебиваясь с хлеба на квас, точнее говоря с черемши на воду, продолжала кочевать в тайге. Их называли таежными камасинцами, в простонародье – таежными татарами. Что однако не отвечало истине.
На Руси исстари инородцы живущие за Волгой, позже за Уралом, именовались татарами. Финно-угорские племена и народы жившие на севере Сибири – чудью. Иноземцы пришедшие с запада – немцами. Все просто, чтобы голову не ломать.
Сами же камасинцы называли себя «калмажи» или же «канмагжи», что означало ни больше ни меньше – «обитатели верховий Кана». Имеются сведения, что реку Кан камасинцы именовали «Пасбекун», что означает «дерево и вода красная».
На самом большом притоке Кана, реке Агуле, и стояла деревня Чаловка, где проживали наши три малолетних героя: Лешка, Василь и Матюша. Чуть выше деревни в Агул вливалась небольшая речушка. Летом ее берега утопали в раскидистых зарослях черемушника и ивы, зимой, заметало кусты снегом, чуть ли не до самой макушки. По огромным сугробам вились заячьи тропы, где деревенские мальчишки ставили волосяные петли. Зайцы, являлись большими почитателями ивовых веточек и прибегали к речушке каждый день, чтобы отведать полюбившейся им «ивовой каши». Тут-то и попадались косые в нехитрые приспособления подрастающих охотников. Сегодня зайчишка, завтра лисичка, а потом и глядишь соболишка. Еще никто мастером не родился, охотником тоже. С детства приучались чаловские мальчишки охотничьему ремеслу. Оно и не мудрено. В каждом доме висело у двери на гвозде ружье, предмет вожделенной зависти каждого пацана. День первой охоты с отцом являлся самым великим праздником, и не забывался на всю оставшуюся жизнь.
Но у деревенских детей были разумеется и другие забавы. Там у речушки, катались они с пригорка на самодельных лыжах и салазках. Было у пацанов из Чаловки, как и в других сибирских деревнях, подобие «снежного самоката». Некоторые из людей постарше возможно еще помнят это нехитрое деревенское изобретение. На широкую доску, куда позже вставали ногами, приколачивали стойку, или как в Сибири говорили «упорину». К ней, сверху, прилаживали перекладину (руль), за которою держались руками, съезжая с горы. Но самое интересное в этой незамысловатой конструкции была обработка нижней поверхности доски-лыжи. Для начала ее обмазывали свежим коровьим навозом и выставляли из хлева во двор, чтобы навоз замерз. На следующий день несколько раз поливали водой. В итоге нижняя часть доски-катушки получалась округлой формы. Совершенно гладкая, она давала возможность самым отчаянным ребятишкам развивать большую скорость при спуске с крутых горок. Ну прямо «деревенский бобслей»!
Кстати, родиной бобслея считается Швейцария. В 1888 году англичанин Уилсон Смит соединил двое саней одной поперечной доской и скатился на них из теперь всемирно известного зимнего курорта Санкт-Морица в ниже расположенную деревню Челерину.
Но многие считают все же русских основоположниками этого вида спорта. И по праву. Еще в XVII веке на Руси, особенно в Москве и тогдашней столице Санкт-Петербурге, строились в зимнее время горки для катания местных аристократов и простолюдинов. Это был воистину народный вид, тогда конечно еще никого не спорта, а просто веселого времяпрепровождения. Эти сооружения были известны под названием «русских горок» или «ледяных горок». Для обустройства мест для катания использовались неровности местного рельефа. В некоторых случаях строились деревянные рампы. И горки, и рампы, при наступлении морозов заливались водой, которая стекая по наклонной поверхности горки, естественно замерзала и образовывала ледяную корку, что являло собой не что иное, как трассу для бобслея. Верно?
Так что придется швейцарцам потесниться.
Места, где устраивались ледяные горки, притягивали как магнитом местную публику, от пышно разодетой девицы благородного происхождения, до мужика в лаптях и зипуне. Вместо саночек часто использовались ледяные блоки, на которых для удобства, да и холодно же ведь, находились деревянные сиденья, обитые волоком. Мужику в зипуне приходилось довольствоваться охапкой соломы, что никак не влияло на скорость спуска.
Самое интересное произошло в знаменательном 1812 году, когда «Москва, спаленная пожаром, была французу отдана». Тем памятным годом французские солдаты познакомились не только с суровой русской зимой, но и с ее прелестями, в форме катания с «ледяных горок». После того как русские «прокатили» французов до Прута, те солдаты кому посчастливилось пережить эту проклятую кампанию 1812 года, при возвращении в Париж, попытались у себя на родине построить «ледяные горки». Но то ли зима была теплая, то ли на то имелась какая-то иная причина, идея не прижилась.
Если кого интересует вопрос, съезжал ли Наполеон в своих белых рейтузах с «русской горки», в захваченной французами Москве, засунув по привычке правую руку за обшлаг полурасстегнутого сюртука, то к великому сожалению, я не могу удовлетворить вашего любопытства. История об этом умалчивает.
Кстати, первая попытка по использованию «русских горок» произошла в Париже еще раньше, в 1804 году. В 17-м округе Парижа (Le quartier des Ternes) была построена «русская горка». Но после многочисленных увечий катающихся граждан ее эксплуатация была прекращена.
Плохая примета. Комбинация из обозленного русского мужика и чертовски холодной русской зимы, не сулит незваным гостям веселого времяпрепровождения.
Пацанам из деревни Чаловки же, русская зима нравилась. Деревенские сорванцы рыли в сугробах норы, натаскивали в них соломы, играя там весь световой день. А зимний день короток. Не успеешь оглянуться, как выкатилась желтоглазая луна. А там и волки пожаловали, сидят у речушки на отмороженных задах, воют, на судьбу несносную жалуясь.
Выше по течению той самой речушки было в старину становище камасинцев. Они вели, как и другие самодийские народы Саян, кочевую жизнь. Сегодня здесь, завтра там, по горам и по долам. Жили они в чумах, кормились охотой, рыболовством и разведением северных оленей. Как это было у них принято, в каждом камасинском роде, или же как его называли сами камасинцы «кость», был свой шаман. В том роде, что кочевал недалеко от деревни Чаловки, в то далекое время еще заимки Петрована Чалого, шаманскими делами заправляла одна женщина, которую звали Коместай[18]. Имя этой шаманки в переводе на русский язык обозначало «играющая на хобысе».
На музыкальных инструментах – хобысе[19], чатхане[20] или же всем известном бубне, играли только шаманы, и они все были мужчинами. Так что Коместай являлась очевидным исключением из правил. Это было настолько знаменательно, что ее именем нарекли ту небольшую речку, что вливалась в Агул чуть выше Чаловки. Звалась эта речка – Коместайка. Камасинский род же, к которому относилась Коместай, звался Ниги (Н‘игəзенг), что означало Орел.
Шестьдесят лет назад все камасинцы рода Ниги (Орла) отправились к праотцам. Оспа, это страшное проклятие всех коренных народов Сибири, свела их в могилу. Но один мальчик все же выжил. Русские охотники нашли его оголодавшего в тайге, невдалеке от разоренного оспой стойбища. Семилетний малыш едва держался на ногах, не понимая случившегося с его родителями и другими людьми их рода. Охотник нашедший этого мальчика, усыновил его, и он вырос в русской семье с одногодком сводным братом. Мальчика окрестили русским именем Захар, дав ему камасинскую фамилию Ашпуров из рода Ниги (Н‘игəзенг).
От него и пошли в Чаловке Ашпуровы.
На следующее утро после рыбалки трех друзей, семья Ашпуровых встала, как и всегда, с первыми петухами. Сегодня они собирались ехать на покос. Еще позавчера Захар Ашпуров отбил косы. Весь вечер стучал он маленьким молоточком и его внучек, Матюша, не отходил от него ни на шаг. Что собственно говоря было не внове.
Захар Ашпуров, таежный найденыш, давно уже стал не только заправским мужиком, отцом троих детей. Теперь он патриарх семьи, основатель рода Ашпуровых, любимый домочадцами и уважаемый односельчанами. Только одно угнетало рано поседевшего Захара. Слишком рано ушла из жизни его ненаглядная Пелагеюшка, так и не увидевшая ни одного из их внуков. В одночасье скрутила ее злая болезнь-лихоманка. Как не бились над нею деревенские знахарки, ничего не помогло. Лежит теперь она на деревенском погосте под белоствольными березками. Часто ходит Захар к скромной могиле, его единственной, его Пелагеюшке.
Пелагея, дочь русских переселенцев, родилась здесь, в Сибири, и по праву считалась уже коренной сибирячкой. Захар познакомился со своей будущей женой на игрищах в ночь на Ивана-Купала. Навсегда запечатлелся в его памяти тот незабываемый день.
Еще с вечера деревенская молодежь табунилась за околицей села, собираясь идти к речке Коместайке. Там, у ее устья, где она дарила теплые воды господину Агулу, с незапамятных времен, жгли жители деревни Чаловки купальский костер. Еще загодя стаскали парни кучи хвороста и сушняка, благо, что лес находился под боком. Неси-волочи не ленись. С веселыми шуточками-прибауточками тащили хворост и целые сухостойные деревья деревенские парни и подростки, мечтая об одном. Скорей бы стемнело!
На просторной поляне в пойме реки первым делом водрузили длинный шест. На шесту болтался выбеленный морозами и ветрами коровий череп. Для какой цели висел на шесте череп животного, или если его не было под рукой, то просто отслужившее тележное колесо, никто из жителей Чаловки не знал. Если бы им сказали, что это языческий обычай, и что этот самый шест, с черепом коровы бабки Петушихи, что в позапрошлом году сожрали волки, является символом «мирового дерева», то они бы наверняка только пожали плечами, или бы в лучшем случае поинтересовались.
– Како ишо дерево? Мировое говоришь? Не, у нас токо сосны и листвяжки тут растут!
Но оставим «мировое дерево» в покое. Все эти тонкие нюансы, естественно молодежь деревеньки Чаловки не интересовали.
Поставленный шест, был обложен большим количеством собранного хвороста. Готово!
Как начало смеркаться, к полянке потянулись табунками и деревенские девчата. На голове каждой из девушек красовался венок. Белые ромашки перемежались с оранжевыми огоньками, синие незабудки с желтыми лютиками. Парни, завидев подходящих девчат, оживились, закопытили словно молодые жеребчики. Захар Ашпуров, невысокий, крепко сбитый парень, стоял в сторонке с закадычным дружком Илюшей Хохловым. Илюша, так и стрелял бесовскими глазищами, беспрестанно толкая Захар в бок.
– Смотри Захарка, сёдни и Нюрка пришла. А говорила не придет. А сарафан-то одела совсем новый. Попалит ведь, через костер-то скача.
Захар только буркнул что-то нечленораздельное, что в общем-то означало, «а тебе какое с того дело».
Илюша же витал в облаках, представляя себе, как он будет прыгать рука об руку со своей ненаглядной Нюркой. С Нюрой была еще одна девушка. Захар видел ее до этого пару раз мельком. Она была из соседней деревни Тарбыш, и приезжала погостить в Чаловку к своему дяде, суровому на вид мужику с подходящей для него фамилией Суровцев, по имени Степан.
Между делом стемнело. Парни, чиркая кресалом, подожгли сложенный хворост. Спички бегали в сафьяновых сапожках и были крестьянам недоступны. А на Ивана Купалу, они были собственно говоря и лишни. Купальский костер по старинному поверью можно было разжигать только «живым огнем», добытым на месте проведения праздничной церемонии. Костры жгли по берегам рек, так как по поверью в эту ночь вода может дружить с огнем.
Так что жители Чаловки все делали правильно.
Уже через несколько минут взметнувшийся столбом огонь лизнул языком коровий череп на макушке шеста. Высокое пламя горящего костра осветило всю поляну до самого берега реки. Тут и там слышались радостные возгласы молодежи. Из села подошли степенные мужики и принаряженные бабы, глянуть на веселящуюся молодежь и вспомнить свою, такую короткую на селе молодость. Девчата спустились к реке, сняли с голов цветочные венки и загадав на суженого, опускали их в темнеющую воду Агула. Некоторые венки, подхваченные течением, уплывали в темень непроглядной ночи, суля их владелицам желанного доброго молодца, другие же, покрутившись в водоворотах, приставали к берегу, говоря, что еще не время тебе выходить замуж. Подожди до следующего года красавица, найдешь и ты свое счастье.
А над сибирской рекой лилась, струилась песня.
Ой, на Ивана,Ой, на КупалаДевушки гадали,В воду быструюВенки кидали.– Скажи, водица,Красной девицеПро жизнь молодую,С кем век вековать?Кого, реченька,Любимым называть?Долго ли жить,По земле ходить?Неси, речка, венокНа другой бережок!Пелагея тоже опустила у берега в воду принесенный венок, провожая его взглядом чистых голубых глаз. Что же скажет он мне? Какую судьбу нагадает?
Венок крутнулся на месте, торкнулся с цветочным собратом, и все быстрее набирая ход, поплыл вниз по течению реки.
Нюрка, не полагаясь на изменчивое счастье, размахнувшись, зашвырнула венок чуть ли не на середину Агула. Так оно вернее будет. Там уже уплывет куда надо.
А у костра уже кружился, то в одну, то в другую сторону хоровод. Девчата подошедшие с берега реки, вливались в вертящийся круг. Повсюду слушался радостный возбужденный смех. Ивана Купала!
Пелагея, по воле случая, оказалась рядом с Захаром. Захар, поначалу неуверенно держал ее горячую и влажную ладонь, но постепенно их руки слились в одно, единое целое. Захар уже не замечал недвусмысленные взгляды своего разбитного дружка. Да и Илюше было собственно говоря не до того. Он то и дело прижимался к Нюрке, все убыстряя скорость брошенного ею на середину Агула венка.
После того как костер сбавил первоначальную прыть и синие язычки затухающего пламени начали лизать догорающие головни, молодежь принялась скакать через костер. Сначала прыгали лишь одни парни. Они гикали, стараясь показать присутствующим нерастраченную удаль молодецкую. Попозже, когда костер окончательно пошел на попятную, прыгали уже все желающие, от мала до велика. Даже некоторые отчаянные деревенские бабы, мелькая голыми лодыжками, скакали через костер, чтобы доказать, что они не ведьмы[21]. Пожилые мужики участия в «лягушачьем мероприятии» не принимали. Они стояли в сторонке, нещадно дымя самокрутками, поглядывая с ухмылочками на расшалившихся женушек. Самым старым из всех прыгунов оказался дед Назар, решивший тряхнуть стариной.
Все присутствующие грохнули хохотом и чуть не попадали от смеха, завидя амуницию деда Назара. Чтобы не подпалить пятки, дед обул старые валенки. Предусмотрительность не подвела. Небольшой разгон, с явно не крейсерской скоростью, не придал желаемого ускорения. Прыжок-шажок, и одна нога оказалась в костре. Пришлось дедушке ковылять до Агула, чтобы потушить тлевший валенок. Но ноги остались целы! А это главное!
Захар и Пелагея, взявшись за руки, тоже прыгали через костер.
Чуть не до самого утра табунилась молодежь у незатухающего костра. Самые отчаянные лезли в реку купаться. А вода в Агуле и летом ледяная. Но коли девчата такую песню завели, что же остается парням делать. А озорные девчата, знай себе, поют, платочками машут.
Иван МарьюЗвал на купальню.Где Иван купался —Берег колыхался.Где Марья купалась —Трава расстилалась.Купался ИванДа в воду упал.Купала на Ивана!Лишь под утро проводил Захар Пелагеюшку до дома ее дяди.
Осенью, после того как была сжата и связана в снопы рожь, сыграли свадьбу.
Ох давно это было, ох давно. Сидит Захар, седую голову понурив, вспоминает безмятежную молодость.
Незаметно для Захара подошел к нему Матюша. Любил Захар всех своих внуков, но в Матюше было что-то особое. Пошел он обличьем в своего деда-камасинца, в него, в Захара. И обличьем, и глаз прищур его, вылитый Захар Ашпуров, камасинец из рода Ниги, рода Орла.
Пока матушка Матюши подоила трех коров и проводила их до поскотины, отец сложил сенокосный инвентарь – грабли да вилы, на возок. На возке стоял еще со вчерашнего дня лагушок[22]. В передке лежала кучка свежескошенной травы, служившей в качестве сиденья. Иван, так звали отца Матюши, еще вчера вечером ездил в Медвежий лог, урочище в верстах трех от деревни, чтобы накосить травы для телят и молодого жеребца Гнедка, которому предстояло сегодня везти возок до речки. Сенокос семьи Ашпуровых находился на острове. Остров был вообще-то безымянный, но так как Ашпуровы косили там испокон веку, то сельчане звали его Ашпуровский. Хозяева были похоже не против звучного названия, но сами, чаще всего, говорили только остров, или же просто – наш покос.
За обычными утренними хлопотами прошло с час. Пора завтракать и ехать. Кто рано встает, тому боже подает, часто говаривал Захар. Бога- то он поминал, крещенный ведь, но следовал проверенному временем житейскому принципу других деревенских мужиков – пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И кроме того, Захар никогда не забывал, каких он кровей, где лежат истоки его семьи. Сыны и дочь, не особенно-то интересовались прошлым отца-камасинца. Они считали себя русскими, по их матери Пелагее, царство ей небесное.
Марья, так звали матушку Матюши, позвала домочадцев звонким голосом к столу.
– Мужики, айда есть! И поторапливайтесь, не то каша остынет!
Мужики – свекор Захар, муж Иван и сыночек Матюша, не заставили себя долго ждать. Утречком все уже промялись и поэтому не страдали отсутствием аппетита. Овсяная каша на молоке дымилась в объемистой глиняной миске посредине дощатого, до желтизны выскобленного стола. По его обеим сторонам находились натертые до блеска временем и мужицкими штанами деревянные лавки. У печи стоял, словно сросшись с некрашеным полом, дедов табурет. Там сидел зимой Захар, грея ноющую поясницу.
После короткой молитвы, произнесенной Марьей, она как и все деревенские женщины была набожным человеком, деревянные ложки дружно застучали о край миски. В неказистых на вид, помеченных щербинами, вместительных глиняных кружках, было налито кислое молоко. Марья, взявшись за кружку, не упустила возможности, нахвалить молочко.
– Пейте мужики кисленькое, не так пить будет на покосе охота.
У входной двери стояла наготове корневатка[23], с собранной на день снедью.
После завтрака отец вышел из дома запрягать Гнедка. Уже у двери, он повернулся и сказал сыну.
– Матюша, живцов не забудь взять с собой. Перемет я уже положил.
– Хорошо тятя, – отозвался он, – я щас мигом, только молоко допью.
– Успеешь, ешь спокойно, никуда ваша рыбалка не денется, – проворчала добродушно Марья.
Ох уж эти рыбаки, хуже неволи. Что Захар, что Ваня, что Матюша – словно бусинки, на одну ниточку нанизаны. И кушать не будут, рыбалку им подавай!
Минут через десять Гнедок ленивой рысцой тянул возок по пыльной деревенской улице. За конной упряжкой прицепился какой-то деревенский пес, обрадовавшись поводу полаять, но уже скоро, потеряв интерес, вернулся к родной подворотне. Что попусту брехать-то, все равно никому до того дела нет.
Солнце позолотило верхушку горы Кияшки, предвещая и на сегодня хороший солнечный день. Остались позади обширные деревенские огороды с набирающей силу картошкой и головастыми, зацветающими подсолнухами. За околицей вилась полевая дорога, заросшая тмином и подорожником. На вожжах сидел Матюша. На одной стороне возка ютились мать и отец, на другой, сидел, свесив ноги, дед. Вообще-то он должен был остаться дома. Стар уже, какой с него работник. Но и Захару нашлось заделье. Ему предстояло вернуться с конем обратно домой. Через реку Ашпуровы переплавлялись на лодке, что лежала спрятанная в густых кустах черемушника у реки. Прошлые годы они оставляли спутанного коня на луговине у реки, где он пасся, отгоняя злющих паутов[24] хвостом. Но в прошедшем году всю деревню взбудоражили события, произошедшие в волостном селе Ирбее. Стал там теряться скот. Особенно много коней уводили по ночам какие-то злоумышленники. Местные мужики скараулили злодеев. Ими оказались свои, односельчане. Расправа была жестокой. В дело пошли колы и навозные вилы. Несколько десятков человек были убиты. Позже эти события были названы «Ирбейским погромом». Конокрады были из татар (енисейских кыргызов). По всей видимости они решили вспомнить старое ремесло. У кочевников красть коней, тем более хороших, не считалось зазорным делом. Но с русскими мужиками лучше не связываться.
Это ужасающее событие, произошедшее в 1901 году, было действительно последним столкновением между русскими переселенцами и представителями коренного населения, потомками енисейских кыргызов.
Но мужики из окрестных деревень еще несколько лет побаивались отпускать коней в ночное без присмотра. Береженого бог бережет. А конь – опора крестьянского хозяйства. На себе пашенку не вспашешь, дров и сенца не привезешь. Так-то.
После разгрузки на берегу Агула «сенокосной амуниции», дед Захар заспешил в обратный путь. Еще дорогой сюда, приметил он в березовом околке молоденькие стройные деревца. Как раз, само то березки для черенков будут, подумал Захар. А ветки тоже зазря не пропадут. Будут веники на зиму, в баньке париться.
Иван вытянул из shy;-под свисающих веток черемухи лодку-плоскодонку. Матюша уцепился ручонками сбоку, помогая отцу. Лодка, визжа по галечнику деревянным, ссохшимся брюхом, нехотя съехала в воду.
– Матюша, там еще шест в кустах остался. Поди-ка, принеси, – произнес отец.
Матюша рысцой пустился к заветному кусту. Шест, как всегда, стоял прислоненным к разветвленному стволу черемухи. Марья принялась носить грабли да вилы в причаленную к берегу реки лодку. Иван разулся и забрел по щиколотки в воду. Его голые ноги белели в кристально-чистой воде реки. Выплеснув из лагушка вчерашнюю, застоявшуюся воду, он зачерпнул ковшиком студеной воды и для начала напился. Ох и вкусна наша водица. Затем начерпал ковшиком полный лагушок, и кряхтя, поднял его из воды. Тяжел! Пуда три верных!
Поставив в лодку, позвал жену.
– Марьюшка, иди садись, пока я лодку держу! Или може тебя подсадить? – прищурив лукаво глаз, произнес Иван. Марья довольно засмеялась. Все бы игрался! Сегодня не до этого будет, хватит вчерашнего.
Вчера, в первый день сенокосной страды, Иван и Марья были на покосе одни. Их сын, Матюша, рыбачил со своими друзьями.
После того как Марья, без помощи мужа, заняла место в лодке, Иван вышел на берег. Самое главное! Перемет поставить!
Матюша, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, ждал отца. Его тоже волновала предстоящая рыбалка.
Длинная дратва, смотанная на деревянную дощечку, ощерилась отводками с поржавевшими рыболовными крючками. Снасть была на вид неказистая, но уже многократно испытанная в деле. В ведерке мирно дремали две дюжины пескарей и три ерша, не ведая, что их последний час близок. Перемет привязали одним концом к лежащей на берегу реки разлапистой коряге, занесенной наполовину бурым илом.
– Тятя, а наживлять тут на берегу будем, или в лодке?
– Да давай с пяток пескарей сразу подцепим, а остальных там, по делу, – ответил Иван.
Минуты через три отчалили. На шесте стоял сегодня Матюша. Вода в Агуле спала и слабое течение не могло унести лодку. Марья сидела в носу и смотрела довольно на сына. Гляди, как ловко шурует шестом. Молодец, помощник растет! Эх, нам бы дочку еще с Ваней!
Матюша был единственным ребенком в семье.
Иван, не замечая взгляда жены, наживлял крючки полуснулыми рыбками и разматывая перемет, опускал его осмотрительно в воду. Попав в родную стихию, пескарики враз оживали, шевеля бесцветными плавниками. Ерши же, пытаясь сопротивляться уготованной им участи, дергались и кололи руки Ивану острыми, как иголки, плавниками. Но и им пришлось отдаться року судьбы. Последний пескарь, оставшийся в ведерке, остался без крючка. Выпущенный на волю, он какое-то время оставался на поверхности воды, затем, враз ожив, исчез в пучине воды. Счастливчик.
Длины перемета хватило на все ширину протоки до острова. Бечева, привязанная на берегу к заветному колышку, выгнулась натянутой тетивой. Бурунчики воды отмечали поводки с насаженными на крючки живцами. Иван глянул еще раз на реку, почесал пятерней взлохмаченную шевелюру, и принялся выгружать лодку. Не на рыбалку приехали. А было бы собственно говоря неплохо порыбачить. Посидеть с удочкой на бережке.