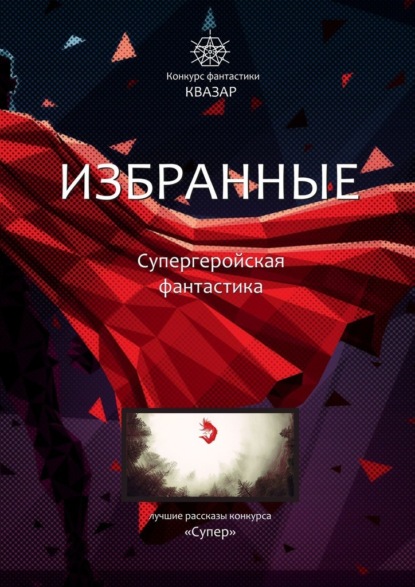Полная версия
Избранные. Городская фантастика

Избранные
Городская фантастика
Редактор Алексей Жарков
Дизайнер обложки Алексей Жарков
Иллюстратор Игорь Сарасонов
Иллюстратор Руслан Станчула
Иллюстратор Оксана Войтюк
© Алексей Жарков, дизайн обложки, 2020
© Игорь Сарасонов, иллюстрации, 2020
© Руслан Станчула, иллюстрации, 2020
© Оксана Войтюк, иллюстрации, 2020
ISBN 978-5-4498-6007-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Война
Арсений Абалкин
Глиняная птичка, дурацкая свистулька. Не боевой робот, не игрушечный автомат, не пистолетик с резиновыми пульками… Но Вик знал, что именно эту грубо раскрашенную поделку, которую они нашли по дороге в школу, ужасно хотел получить Лео. Однако, неизвестно почему, из какой-то дурацкой вредности, старший брат в тот раз пожадничал, и нелепая ерундовина осталась в его кармане. Странное, приятное, ни на что не похожее чувство: трогать ее. Теплая. Будто что-то живое. Может быть, потому, что это – единственное, что принадлежало только ему; все остальное они делили с Лео.
Они были погодками, Вик и Лео. Всегда вместе, всегда горой друг за друга: Вик сильнее и драчливее, зато Лео смышленее, даже с хитрецой. Когда Вик уставал махать кулаками в мальчишеской драке, Лео всегда догадывался швырнуть горсть песку в глаза его противнику или подставить тому ножку. Братья верховодили среди пацанов своего возраста, и ни у кого не возникало сомнений, что одного из них возьмут в солдаты.
Быть настоящим солдатом – большая честь, все мальчишки мечтают об этом. Солдаты защищают Город от проклятой Федерации. Они – лучшее, что есть в Городе: его надежда, его гордость, его элита. В солдаты берут тех, кто успешнее всех проходил ежегодные тесты, которым подвергаются все мальчики в возрасте с двух до двенадцати лет. Год за годом военные врачи следят за развитием детей и в конце концов отбирают тех, кто справится со сложной задачей защиты Города от врага.
А остальные… что ж, те, кому повезло меньше, становятся работниками тыла. Однако они тоже вносят свой вклад в войну. Как говорится: «Все для фронта, все для Победы!» Этот лозунг самый популярный, его можно увидеть всюду – от детского сада до госпиталя. Этому призыву подчинены все силы Города: работники тыла работают на износ, а снабжение у них намного хуже, чем у солдат; время от времени им приходится даже голодать. Зато, в отличие от бойцов, которые в буквальном смысле жертвуют собой, они имеют право обзаводиться семьями, детьми, и даже отдельным жильем.
Солдаты же – с момента призыва в двенадцать лет и вплоть до гибели – навсегда оторваны от своих близких, у них нет ничего и никого, кроме Армии. Несколько лет, составляющих срок кадетской учебы, они проводят в казармах, с ровесниками, которые станут их боевыми товарищами, их единственной семьей. Получив все необходимые навыки и овладев всеми видами оружия, юноши переселяются во взрослые казармы, и начинается их жизнь на передовой. Считается, что связь с прошлым вредит формированию истинного солдата. Поэтому такое строго запрещено: день призыва – это день, когда мальчик в последний раз видит тех, с кем рядом вырос. В древности вроде бы существовали такие ордена – рыцарей-монахов; только воевали они за какую-то ерунду, не то что солдаты Города…
Такие жестокие меры, конечно, временны. Но они необходимы, иначе не победить. Ведь враг – Федерация – силен и коварен, неизмеримо сильнее Города, и только героический дух и беззаветная храбрость защитников позволяют ему жить и бороться.
Город огромен. Его прежний облик уже успел изгладиться из памяти людей, он навсегда похоронен под руинами, оставленными Большой Войной. Время тяжелое, и следы разрушений до сих пор не стерлись. Между однообразными серыми постройками послевоенных лет тут и там темнеют пустыри на месте разбомбленных зданий, зияют провалами выбитых окон остовы старых домов. Черные стрелы дорог, прорезающие пространства выжженной, покрытой трещинами и воронками земли, ведут к военным заводам и фабрикам, где днем и ночью не прекращается работа. Рубежами из железобетона, стали и колючей проволоки Город разделен на зоны; с наступлением комендантского часа сообщение между ними прекращается.
Раньше, до Большой Войны, Город вполне мог бы называться страной. Но теперь все прежние различия между странами – нации, расы, языки, религии – потеряли значение. Теперь важно лишь одно: мутации или их отсутствие, Чистота. Город – единственное пятно земли, которая осталась незараженной после Большой Войны. И здесь собрались те, чья кровь сохранилась незапятнанной, те, в ком есть Чистота. Твари же, прежде бывшие людьми, и их потомки – оказались за пределами Города и объединились в Федерацию. Как устроена Федерация, никто точно не знал: ни один из разведчиков, отправленных Городом в стан врага, не вернулся назад. Доподлинно известно было лишь одно: мутанты ненавидели саму идею Чистоты, ненавидели Город и его обитателей, постоянно нападали на его рубежи и задались целью сравнять его с землей.
Силы были неравны: твари обладали сверхчеловеческими способностями. Некоторые из них могли на время мимикрировать под людей – да так, что и не отличишь. Таких тайно забрасывали в Город для шпионажа. Поэтому все, связанное с Армией, было покрыто строжайшей секретностью. Между частями, расположенными на границах города, не было никакой связи, кроме сверхсекретной линии, к которой имели доступ только командиры. Каждый день менялись пароли и опознавательные знаки – нашивки определенного цвета, которые крепились на броню солдат. Необходимость в знаках возникла оттого, что обе стороны эксплуатировали технику и оружие, оставшиеся от Большой Войны – и противник пользовался этим, раз за разом пытаясь выдать тварей за защитников Города и внести сумятицу в их ряды.
Подлость была изначально присуща тварям, текла в их испорченной крови. Те из них, кого мутации наградили даром телепатии, постоянно вели диверсионные мыслепередачи. Они стремились запугать жителей Города, подорвать их боевой дух и веру в победу. Они внушали людям сомнения в мудрости Главнокомандующего и в справедливости войны, распространяли пораженческие настроения, провоцировали дезертирство. Тех, кто поддавался на эти диверсии, в условиях военного положения приходилось уничтожать, так как Город ни на минуту не мог позволить своим обитателям панику и ослабление сопротивления.

Но на самом деле все помыслы жителей Города были о мире. Победить наконец агрессоров, не дающих заняться мирным трудом, и начать жить спокойно. Преодолеть временные трудности со снабжением и отдыхать раз в неделю – как до Большой Войны. О тех временах рассказывали оставшиеся в живых деды, но чем дальше, тем больше их рассказы походили на прекрасную несбыточную мечту.
Зависть проклятых тварей не давала этой мечте сбыться. Мутации исковеркали облик бывших людей, хаотичная пляска генов обезобразила их, превратив в чудовищ. С помощью ужасных экспериментов они зашли еще дальше, стимулируя свои и без того расчеловеченные организмы приобретать все более отвратительные черты – солдаты их были настолько токсичными, что людей могло отравить одно их дыхание, одно прикосновение к их ядовитой коже. Поэтому командование отдало приказ: прямой контакт опасен, предпочтительна работа огнем на расстоянии; даже трупы врагов необходимо тут же сжигать, чтобы избежать отравления.
Те времена, когда армии сходились друг против друга в чистом поле, давно прошли. Теперь война – это спецоперации, быстрые вылазки небольшими отрядами. Каждый отряд автономен и выполняет собственное задание. Иногда необходимо защищать какой-то участок границы Города от диверсантов противника; иногда приходится выбивать врага с позиций, на которых ему удалось закрепиться, сломав оборону другого отряда.
Миролюбие граждан Города не знает границ, но живя в осажденной крепости, они вынуждены пребывать в постоянной готовности к отпору. Бог войны всегда требовал поклонения и жертв – и ему молились истово. Проводили парады детских колясок, декорированных под военную технику былых времен (а в колясках ехали младенцы в крошечной военной форме). Организовывали школьные праздники, где шеренги детей нестройно маршировали с военно-патриотическими песнями под строгими взглядами орденоносных портретов. Те школьники, которых не отобрали в солдаты, наряду с обычными уроками каждую неделю учились бросать гранаты и собирать автомат – на всякий случай. Для жителей Города Бог войны назывался Миролюбием. И наверное, он с одобрением взирал на своих адептов.
…В день, когда Вика забрали в армию, что-то с самого начала пошло не так. Нет, все вроде бы было согласно правилам: имя Вика зачитали на торжественной школьной линейке; приятели с восторженными воплями окружили его, награждая дружескими тычками; учительница произнесла нудное поздравление, во время которого он неловко переминался с ноги на ногу, ловя завистливые взгляды. Вдобавок, его отпустили с уроков – какая уж теперь школа! Наверное, то, что он чувствовал, следовало назвать радостным волнением – ну, а чем же еще? Но вот странность: искренняя гордость родителей, и особенно, мамы – невольно покоробила, что ли… Мама, порозовевшая, счастливая, поминутно всплескивая руками и захлебываясь от восторга, без умолку говорила о том, каким он станет героем, а в груди у Вика почему-то ныла совсем неуместная детская обида. Было ли это какое-то непонятное разочарование или досада?… Как если бы он вдруг захотел, чтобы маме стало жаль отпускать его, чтобы она опозорилась, как соседская Валда, которая выла на весь квартал, прощаясь с сыном. Тогда он всем сердцем презирал соседку, а сегодня по-дурацки злился на маму, которая вела себя безупречно, как настоящая мать солдата, благословляющая его на патриотический подвиг. Он сам не знал, чего хочет, и только все сильнее сжимал в кармане теплую глиняную птичку.
Зато Лео – Лео повел себя как последний дурень, еще хуже, чем тетка Валда. Услышав в школе новость о Вике, сорвался с последнего урока и стремглав примчался домой. Расплакался, как девчонка, умолял родителей придумать что-нибудь и не отпускать брата (как будто и правда верил в то, что взрослые всесильны). До самого вечера хвостиком ходил за Виком, поминутно цепляясь за рукав и хлюпая сопливым от рыданий носом. Вик даже немного растерялся от такого напора – у них в семье было не принято бурно проявлять свои чувства, и он скорее ожидал от младшего брата сдержанной зависти.
Когда за Виком пришли, Лео устроил настоящую истерику: набросился на патруль, царапался и кусался, как зверек, не слушая увещеваний красной от стыда мамы. И в конце концов повис на Вике, жалко скуля:
– Вик, не уходи, не уходи, пожалуйста! Тебя там убьют! Вик, миленький, не уходи, пожалуйста! Пожалуйста…
И тогда Вик внезапно вынул из кармана руку со сжатой в ней глиняной птичкой.
– Это тебе… Не плачь… – и с силой втиснул свистульку в ладошку брата.
От неожиданности Лео прекратил реветь, невольно засмотрелся на желанную игрушку. Потом, видимо, все же понял, что ничего изменить нельзя – стоял как потерянный, опустив плечи и тоненько всхлипывая. Вик почти бегом выскочил из дома, так толком и не попрощавшись с родителями.
…Годы учебы прошли, как у всех – наполненные безжалостным воздухом казармы, где юные зверята превратились в зверей взрослых, готовых убивать и умирать. Завязались новые связи, возникли новые дружбы, как же без этого. А вот лица родителей постепенно стерлись из памяти – так, какие-то общие, размытые пятна: румяная громогласная женщина и вечно усталый, сутулый, молчаливый человек, которого не видно за газетой. Но заплаканная, сопливая мордочка Лео никуда не девалась; тонкая нить, связывавшая Вика с детством, с прошлой, доармейской жизнью, не рвалась. И рука в кармане иногда все еще сжимала воображаемую глиняную птичку…
Головой он помнил, как они, зеленые и необстрелянные, рвались в бой, как хотели поскорее попробовать себя в настоящей зарубе. Но теперь, спустя годы, не хотел верить, что мог быть таким идиотом. Дрожал от нетерпеливого возбуждения, дурел от запаха оружия, любовно раскладывал по разгрузке боеприпасы… черт, гладил ладонью хренов гранатомет! Представлял себе, как станет такой же страшной боевой машиной, как тот киборг из боевика, который часто крутили кадетам. Прямо буревестником смерти будет реять над проклятыми мутантами! Про буревестника смерти он придумал сам и очень гордился этим выражением.
Но реальность быстро поставила все на свои места. Война, мать ее, это просто грязь, грохот, адская вонища. Горячий воздух, который чувствуешь, когда пуля пролетает у самой щеки, а еще слышишь этот легонький посвист… от которого сжимается желудок и потеют ладони. Война – это когда ссышь в штаны, часами лежа в засаде, и когда видишь на своей одежде мозги бойца из твоего взвода. И первое чувство – после страшного момента, когда никаких чувств нет вообще – радость, что попали не в тебя. Война быстро отучает дружить, ибо над каждым другом не наплачешься. Но она учит безоглядно полагаться на того, кто рядом и, в свою очередь, быть готовым заслонить его, если что. Ненависть к врагу перестает быть высокопарной идеологией – она начинает питаться местью за убитых товарищей. Становится наплевать на Чистоту и даже на Город, по большому счету – хочется просто убить как можно больше тварей и выжить самому.
Выживать Вик умел. Бог войны зачем-то хранил его – долго, очень долго. Дольше всех остальных. Неглупый и организованный, он быстро сделался командиром своей части, а со временем дослужился до самого высокого из доступных ему чинов – таких, в которых еще ходят в бой. Выше стояли только члены штаба – почти недосягаемые небожители, которые вместе с Главкомом разрабатывали планы операций и по секретной связи спускали их полевым командирам, таким, как Вик.
Его живучесть стала легендой. Он выбирался из таких переделок, где выжить, казалось бы, просто невозможно. Он был похож на крепкую сосну, вокруг которой уже несколько раз вырубались и вновь поднимались лесопосадки, а она все стояла и стояла, хранимая какой-то странной прихотью судьбы.
Сопляки, которые попадали в его часть, заменяя погибших, поглядывали на командира с суеверным восторгом. Но где-то глубоко внутри Вик знал, чувствовал: его невероятное везение имеет прямое отношение к той глиняной птичке, которую он всунул в детскую ладошку брата. Где-то в Городе живет сейчас Лео – ведь из одной семьи почти никогда не забирают двоих сыновей. Да Лео и жидковат для солдата. Он, небось, уже давно женат и имеет своих детей, работает где-нибудь на фабрике, а то и в конторе – ведь он смышленый, Лео… И он молится за Вика, сжимая в руке старую свистульку. Молится неустанно, истово, пусть и своими словами, прося всех богов сохранить жизнь его старшему брату. Вик всегда ощущал над собой этот невидимый купол, эту неслышную песню глиняной птички. И не было на свете ничего прочней этой защиты, тверже этой брони – в глубине души он постепенно поверил в это сам.
…Но счастью на войне всегда есть предел. Бог войны смеется над тем, кто слишком уж надеется на свою удачу. Однажды команду Вика послали отбивать приграничный район – ничего особенного, просто какие-то руины, оставшиеся от Большой Войны. Но черт побери, это были наши руины! И твари не имели права занимать их! Сдашь вот так один участок, вроде бы и не особенно нужный, потом второй, не имеющий стратегического значения – а там и не заметишь, как твари прорвутся в Город!
Все шло хорошо, хвала Чистоте. Твари, несмотря на все их штучки, прекрасно горели, да и от пуль ложились – любо-дорого поглядеть. Но для Вика бой закончился в тот миг, когда рядом с ним упал снаряд или мина… он не успел ни заметить, откуда прилетело, ни почувствовать что-нибудь. Угасающее сознание успело зафиксировать только бешено несомые взрывной волной обломки и нестерпимо яркую пелену гари, в которой в миг исчез весь окружающий мир.
…Абсолютная темнота и такая же абсолютная тишина. Вот так выглядит «та сторона»? Или…? Муть уходила из сознания постепенно, ее место занимала боль. А еще осознание того, что он не может пошевелиться. Усилием воли Вик подавил приступ паники и попробовал медленно повернуть голову. С лица начала осыпаться какая-то хрень, и он понял, что его завалило рухнувшей от взрыва стеной. Хорошо еще, что все здесь уже дышало на ладан, и это была относительно легкая крошка, а не какая-нибудь тяжеленная балка. Неужели ему снова свезло? Вик завозился, со стоном освобождаясь из плена развалин… переломов вроде бы нет, адская же боль во всем теле – от синяков и ссадин. Самое скверное место было на боку – громадный лоскут содранной кожи, кровища пропитала комбинезон. Чудо, что оружие не пострадало – его Вик проверил первым делом. Потом дотянулся до шприца с обезболивающим и противостолбнячным, надломил крышечку, привычно проколол сквозь одежду. Откинулся назад, давая лекарству время подействовать.
Итак, они, видимо, все же отстояли эти чертовы руины. Во всяком случае, бой явно закончился. Запах дыма, а еще отвратительно аппетитный запах горящего мяса поднял содержимое желудка к горлу. Вик интенсивно продышался и тошнота отступила. Он чувствовал себя как-то странно и не мог понять, в чем дело. Потом догадался – это оттого, что он один. Быть одному непривычно – после боя ты вместе с товарищами всегда сжигаешь трупы тварей, если все закончилось хорошо. Или отходишь, матерясь, отстреливаясь и таща очередного раненого сопляка на своем горбу, если дела пошли не так блестяще. Его самого тащить не стали; видимо, сочли погибшим под завалами. Он не держал обиды на своих – сам поступил бы так же. Кто ж знал, что осыпавшаяся стена окажется такой хлипкой. Неожиданное чувство свободы было в новинку, и Вик сам не знал, что с ним делать. То есть, знал, конечно – вытащить чертову рацию, доложить, что жив, и получить указания. Но почему-то оттягивал этот момент…
…до тех пор, пока пуля, взвизгнув, не вспахала кирпичную крошку рядом с его головой. Мгновенно упав и откатившись за какие-то бочки, Вик почувствовал привычный выброс адреналина и полностью включился в ситуацию, автомат лег в руки сам. Сколько их, где?
Пустил очередь на легкий шорох слева, переместился. Попал? Черта с два, оттуда ответили. Итак, один слева, за остатком стены. Вик снова переместился, пригнувшись, ища удобное место, чтобы обезопасить спину. Тварь среагировала мгновенно: автоматная очередь прошила воздух ровно на том месте, где буквально долю секунды назад находился Вик. Хрен тебе, злорадно подумал он. Именно «тебе», потому что, похоже, тварь была одна, никакой огневой поддержки, никакого прикрытия. Кто он – такой же, оставшийся после боя неучтенный боец? Ну так и валил бы к себе в пустыню, в свою долбаную Федерацию! Какого хрена ему повоевать захотелось? Герой, что ли? Вик не верил в героев. Или… разведчик? Диверсант, пытающийся в одиночку пробраться в Город?!
Это меняло дело. Этого допустить никак нельзя. Вот так всегда – стоит только поверить, что благополучно выпутался, выжил, приготовиться пожить еще какое-то время… черт, черт! Тварь надо остановить, и ни хрена тут нет другого выхода.
Но уж одного-то я тебя уделаю, уверенно решил Вик. Только не вздумай опробовать на мне эти ваши телепатические штучки, а уж так-то я тебя… как миленького. Не вырос у тебя еще со мной меряться.
Но уверенность эта оказалась преждевременной, как быстро понял Вик. Тварь была хороша, очень хороша. Почти так же хороша, как он сам. Верткая сволочь, видно, вознамерилась во что бы то ни стало прорваться в Город – ибо с чего бы ей так хотелось непременно покончить с ним, с Виком? Вскоре он вынужден был признаться себе, что проигрывает твари – плечо задело по касательной, а левую ногу, похоже, пробило навылет. Артерия вроде цела, хвала Чистоте, но передвигаться как следует он уже не сможет. Гаду тоже досталось – он с удовлетворением отметил короткий сдавленный вскрик неприятеля. На той стороне возникла пауза, но он знал, что тварь жива, интуиция еще никогда не подводила его. Вик использовал последний шприц, кое-как залепил рану санпакетом, и тут на краешке сознания замерцала предательская мыслишка: похоже, привет… на этот раз знаменитое везение командира четвертой гвардейской закончилось. Надо звать подмогу, иначе он тупо сдохнет здесь. Вытащил связь… и не успел даже удивиться, когда откуда-то сверху на него прыгнула громадная туша.
Рукопашная – совсем не такая зрелищная вещь, как показывают в кино. Противник Вика был крупнее, и тоже ранен. Вика спасла рация, которую он в этот момент снимал с разгрузки. Под весом навалившегося врага она уперлась в пластину броника и оставила правой руке несколько сантиметров свободы. И Вик сделал единственное, что мог сделать в этой ситуации – схватил рукоять ножа, потянул вниз, и как только почувствовал, что ему удалось высвободить лезвие из ножен, сколько было сил сунул его вверх, целясь между броником и шлемом врага. Он понимал, что второго шанса ударить не будет, и просто двигал нож в направлении подбородка твари (а есть ли у них вообще подбородки?), пока тот не уперся во что-то твердое, и продвинуть его дальше Вик не мог уже никакими усилиями. Он не видел точно, куда пришелся удар, но чувствовал, что попал. Руку с ножом и лицо залило кровью, он закрыл глаза, стиснул губы, затаил дыхание и продолжал исступленно давить на рукоять. Лишь через несколько секунд, когда почувствовал, что придавившая его тварь обмякла, став еще тяжелее, попробовал осторожно выдохнуть и ощутил противные липкие пузырьки под ноздрями. Но сейчас это не имело никакого значения. Главное, он его таки сделал! Сделал!!!
Хрипя и плюясь, он с трудом свалил с себя тварь, повернулся на бок, встал на четвереньки, тряся головой, и попытался стереть с лица кровь. Песок и крошка на перчатке царапали веки, мешаясь с быстро густеющей жидкостью, оставляли на лице шершавую корку, но Вику наконец удалось открыть глаза…
По-хорошему теперь следовало сжечь мутанта, чтобы его поганый труп не отравил землю и воздух вокруг. Однако сегодня все было не так, как всегда. Одиночество и непривычная свобода как бы подталкивали обычно дисциплинированного Вика к странным мыслям. Ему вдруг нестерпимо захотелось посмотреть на того, с кем он дрался. Твари было не отказать в мастерстве и мужестве, Вик успел проникнуться к ней невольным уважением. Наконец, им двигало простое человеческое любопытство, которое обычно гасится неусыпным надзором начальства и необходимостью быть примером для подчиненных. Но сегодня он был словно сам по себе. Словно тот факт, что его посчитали погибшим, списали, делал его невидимкой. А на невидимок правила не распространяются, ведь так?
Здравый смысл говорил ему, что тварь, скорее всего, токсична. Но им уже овладела эта бесшабашная лихость, этот кураж, эта веселая злость… Эйфория выжившего толкает иногда на абсурдные, иррациональные поступки. Он увидит морду мутанта – пусть даже это будет последнее, что он увидит в жизни, и насрать на все!
Вик рванул шлем, приготовившись взглянуть на харю чудовища. Но голубые глаза мертвеца смотрели на него с чистого, вполне человеческого лица. Неясное чувство заставило Вика вглядеться в его черты, смутно напоминающие кого-то. Вик провел рукой по лицу врага, убирая с него светлые волосы. Его пальцы наткнулись на какой-то шнурок на шее мертвеца. Безотчетно потянув за него, Вик вытащил на свет маленькую глиняную птичку. Замер, слушая грохот крови в ушах. А потом закрыл рукой глаза Лео.
Через какое-то время он с удивлением понял, что плачет. Вик не плакал никогда, даже в детстве, и соленый вкус слез поразил его. Он еще раз взглянул на талисман брата: птичка потерлась, краска с ее крылышек облупилась, а носик был надломан. Вик повесил ее на шею, потом выкопал ножом могилу – тут же, в развалинах – и похоронил Лео. Это стоило сил, в ноге пульсировало глухой болью, и Вик понял, что надо торопиться. Он вызвал эвакуатор – и как раз успел увидеть санитаров с носилками, прежде чем отрубился.
Рана оказалась неопасной, через пару дней можно было снова возвращаться в строй. Но Вик впервые воспользовался своим правом героя и попросил встречи с командованием. Разумеется, ему не отказали.
Штаб был намного меньше, чем ему всегда представлялось, и намного… обыденнее, что ли. Вокруг небольшого круглого стола сидело шестеро пожилых людей – Вик давно не видел таких стариков, вокруг него всегда находились только молодые.
– Ну, боец, вылечили раны? – с подчеркнутой молодцеватостью воскликнул тот, чьи портреты украшали каждую кадетскую казарму. В жизни он выглядел далеко не таким значительным, как на портретах.