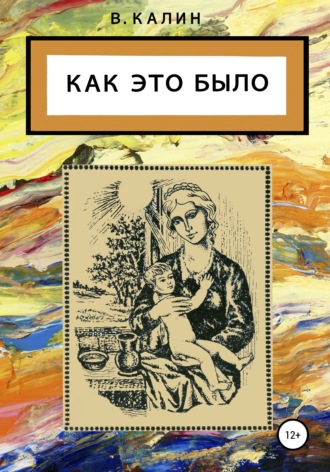 полная версия
полная версияКак это было
Не помню, сколько времени я находился в этом потустороннем состоянии, потом как бы очнувшись, я увидел слева от двери большой гвоздь. Я рассказал маме об этом эпизоде, показал на гвоздь, где висели гуси, описал одежду отца. Мама опять очень удивилась, выразила восторг по поводу моей памяти и стала мне описывать некоторые другие случаи из нашей прежней жизни, но больше я ничего не помнил; только эти два эпизода мог описать подробно и обстоятельно. И еще, рассказывая маме о том, как отец меня подбрасывал, я упомянул, что наверху моя нога задевала что-то мягкое. Мама показала мне на потолок; там были ввинчены два больших крюка – «Тут висели кольца, сынок, на них твой отец занимался гимнастикой».
Тогда я воспринял эти свои видения, как обычные, ничего не значившие события; ну, вспомнил и вспомнил, подумаешь делов-то. Но когда по мере взросления и своего развития я стал аналитически мыслить, а эти видения не отпускали меня, в моей голове зарождалось много вопросов. Почему я не помнил дом, комнаты, свою семью, город, где я прожил около трех лет, а запомнил только эти два эпизода? В старших классах я был уже твердо убежден, что это были не воспоминания, а некие видения, связанные с чем-то потусторонним, недоступным для моего сознания. Я многим людям рассказывал об этих явлениях; сначала сверстникам, учителям. Отношение к моим рассказам было разное, от недоверия до путанных научных объяснений.
Так не получая ответов на свои сомнения и толком не осознав, что за чудо произошло со мной в детстве по приезду в Баку, я дожил до тридцати лет.
В 1969 году я лето и начало осени провел на Камчатке. Я был в корякском селе Хаилино, когда там объявилась какая-то научная экспедиция. Один из участников этой команды рассказал мне, что они прибыли посмотреть традиционный обряд корякских похорон. На мои вопросы, зачем вам это надо, я получил довольно пространный ответ, который очень заинтересовал меня. У всех народов, живущих первобытнообщинным строем, с зачатками цивилизации, есть некая тысячелетняя связь с окружающей природой, землей, солнцем, планетами, которая сохраняется в мозгах потомков на генетическом уровне. Т.е. у этих людей с рождения заложена вся программа дальнейших правил и обычаев их жизни. Поэтому, изучая обряды, обычаи этих народов, мы (т.е. ученые) пытаемся проникнуть в сознание этого народа, образно говоря, заглянуть в их мозг. Причем это выражение не только красивая фраза, мне сообщили, что на Кавказе у некоторых народностей есть целители, занимающиеся трепанацией (вскрытием черепа), чтобы заглянуть в мозг, с целью устранения неких ран, недомоганий и прочих болезней.
Про себя я подумал, наконец я встретился с людьми, которые смогут объяснить мои детские видения. На следующий день я поделился своими проблемами с тем из ученых, который показался мне доступней и проще. Мой собеседник, как истый ученый, заинтересовался моим любопытством и трактовкой произошедшего и стал мне рассказывать об устройстве мозга и влиянии его на психику и поведение человека. Но начал он свои объяснения очень странно. Сначала он мне рассказал, что человеческий мозг и психика являются наименее изученными явлениями в природе. Не в науке, а в природе, – подчеркнул он. А все эти домыслы, о которых пишут в ученых трактатах – это в общем – то литературное творчество их авторов – не более. Ничего себе – еретик от науки, – подумал я; все ученые, все эти доценты с профессорами, с которыми иногда приходилось общаться; с огромным пиететом, относились к авторитетным именам и званиям. А тут вдруг услышать такое: – И Фрейд и Ницше, и еще тройка незнакомых мне имен – все они от шарлатанов недалеко ушли.
В возрасте 23-25 лет я кое-что почитал у Фрейда, и у меня тоже сложилось впечатление, что Фрейд – это, прежде всего болезненная, неполноценная личность, одержимая всякими комплексами сексуального характера на грани извращений. Поэтому я с симпатией отнесся к утверждениям моего собеседника и внимательно вникал в то, о чем он мне рассказывал. Мне показалось, что я понял большую часть его рассуждений, и в итоге, если отсечь сложную терминологию; вот что отложилось в моей голове.
Наш мозг состоит из разных отделов, каждая его частица несет определенную функцию: эти разделы регулируют и руководят всеми человеческими устремлениями.
Это: координация, реакция на различные воздействия извне, фантазия, волевые настрои, сексуальные установки, творческие позывы, страх, порочные инстинкты, вдохновение, агрессивность, память, влияние цвета, звука и т.д. до бесконечности. Эти объяснения в моем сознании остались надолго.
А полностью понимание пришло позже, когда наступил компьютерный век и выглядело так… В неком отделе мозга, как на флешке (прости, господи, за такое вульгарное толкование) есть запись события, которое очень сильно повлияло на меня и при неких жизненных ситуациях, потрясениях эта запись активизируется и напоминает о себе. Вот так просто я расстался с непонятным таинством, – которое пытался понять всю свою сознательную жизнь. Стало немного грустно, как будто что-то потерял, или меня обокрали.
Ну, вот, разобрался я с этими видениями, допустим, знаю, как все устроено, а зачем мне это? Чудо-то ушло. Жизненный опыт мне подсказывал, что нельзя «алгеброй поверить гармонию», а электронным мозгом объяснить восход солнца, или необъятность вселенной. Да и с этими цветными картинками в моей голове, все тоже благополучно завершилось. Годам к 35, они несколько потускнели, а к 60 годам я уже не видел их, но осталась память, что я видел в далеком 1944 –м году.
1941… Горький… 1944
Уважаемый читатель этого повествования, если у тебя хватило интереса и терпения прочитать мои рассказы о том далеком времени и о тех событиях, которые происходили вокруг меня, перенесемся теперь с тобой в город Горький, где я оказался перед самой войной в возрасте 3-х лет.
Напомню читателю, в начале войны мои родители уехали в Баку, а я остался с тетушкой Лидой. Жили мы в доме на улице Семашко; если идти под горку от площади Свободы, наш дом был справа, в самом конце спуска.
Дом был полукаменный, трехэтажный (1-й этаж кирпичный, остальные- деревянные). Мы жили на третьем этаже. Это был мезонин, по-простому – чердак. Дом окружен высоким забором, в котором были большие ворота и калитка, всегда запертая на задвижку.
Если взрослому человеку поднять руку вверх, то в условном месте, прикрытом доской, висел крюк, которым можно открывать и запирать калитку. Вечером последний приходящий кричал: «Все ли дома?», запирал калитку и вешал крюк в потайном месте на крыльце. От калитки до крыльца шло подобие деревянного тротуара, справа был небольшой дворик и сараи, где хранились дрова.
А слева, на длину дома, был небольшой садик, где росло несколько деревьев и разных кустов. В детстве этот садик мне казался целым лесом, там можно было прятаться, лазать по деревьям, некоторые достигали уровня третьего этажа.
Поднявшись на невысокое крыльцо, перед вами было две двери. Левая дверь – к жильцам первого этажа, за второй дверью – лестница вела на второй этаж. Там опять большая прихожая и в правом углу – дверь на лестницу, ведущая к нам на третий этаж. Поднявшись по этой узкой лестнице, вы попадали на огромный высокий чердак. Через мощные, толстые стропила и переводы виднелась железная крыша, было несколько толстенных столбов, подпирающих ее; справа и слева деревянные полати, на которых вечно что-нибудь сушилось: ягоды, грибы, разные травы, мокрая одежда, обувь.
После моего отъезда в Баку в 1944 году, я приехал сюда спустя 7 лет. За моей душой были уже разные прочитанные книги и фильмы о морских приключениях, и этот чердак воспринимался мною как часть палубы пиратского корабля. Все такое надежное, мощное, пахнет деревом, кожей, чуть-чуть краской и всякими пряностями, которые сушились на полатях. Мы играли здесь в пиратов, вместе с героями Стивенсона таскали яблоки из бочки, фехтовали на саблях, стреляли из пугачей; а когда шел сильный дождь, и ветер гонял струи воды с одного ската крыши на другой, грохот дождя по крыше создавал иллюзию обрушившихся на корабль громадных волн во время шторма.
Но все это будет потом, а пока я просто знакомлю читателя с устройством нашего дома. В углу чердака находился туалет с плотно закрывающейся дверью. К нему вели две ступени. Его стены, сиденье с большой аккуратной дырой, ступени, крышка сиденья – все это было сделано из очень крепкого толстого дерева: нигде ничего не скрипнет, не покачнется.
В детстве, сидя в этом туалете, я, подобно Ньютону, постигал закон земного тяготения: содержимое, отправленное вниз, долго летело; потом с громким плеском и брызгами где-то далеко исчезало. Я уже знал, что под нами находится такой же туалет, а под ним на первом этаже еще туалет – я их иногда посещал.
И, находясь в туалетах на нижних этажах, меня очень беспокоила мысль: как же содержимое ни на кого не попадает, и куда делась черная дыра, которая была в верхних туалетах, по крайней мере, на потолке её не видно. И вот такая технологическая проблема, как «загадка черной дыры», не давала мне покоя. Я пытался выяснить это у окружающих, но никто ничего не мог мне объяснить, большинство просто отмахивались: отстань со своей ерундой. Почему я об этом вспоминаю?
Аналитическое мышление, технический интерес к миру вокруг, пробуждающиеся у ребенка, не находили отклика в том маленьком обществе, где я находился.
Группа детей из соседних домов на нашей улице, бабушка и Лида – вот мой круг общения. Это я потом, много лет спустя понял, что правильное объяснение чего-то неизвестного почти всегда снимает все вопросы и многое оказывается вдруг простым и понятным.
Еще одним интересным явлением для меня оказался звонок, которым пользовались посторонние посетители нашего дома. Справа от калитки опускалась тонкая проволока с кольцом на конце. Если подергать за кольцо, внутри каждой квартиры раздавались очень тихие звоночки подвешенных колокольчиков. Это значит, что звонит кто-то чужой, не знающий, где спрятан крючок от калитки; открывать ему не спешили, спрашивали через форточку: «Кто там?»
А перед каждой квартирой тоже висела проволока с кольцом: подергав ее, звонок раздавался уже в этой квартире. Наш колокольчик висел над дверью на чердаке, на некой спиралью закрученной пружине, которая после того, как дернут за проволоку, долго тряслась, а колокольчик издавал громкий мелодичный звон, постепенно затихающий.
Я отметил для себя особенность нашего колокольчика и уже знал, что, если звонят с улицы – звон тихий и деликатный, когда же колокольчик трезвонит громко и долго – это значит, что гость уже на втором этаже и стоит за нашей дверью.
Но оставим в покое затихающий колокольчик и подойдем к двери в комнату. Дверь была тяжелая, снаружи обита кожей; под ней что-то упругое и пружинистое. Я с трудом открывал эту дверь – за ней была маленькая кухня с небольшой печкой по названию «голландка» или подтопок – она обогревала комнату, а на двух конфорках можно было готовить пищу.
Попав в кухню, слева вы видели длинную комнату с большим окном, где стекла были оклеены крест-накрест узкими полосками бумаги, а справа и слева от окна висели шторы для светомаскировки.
Над входом в кухню висела черная тарелка репродуктора, постоянно включенная. Из нее кроме музыки, сообщалось о воздушных тревогах, призывали соблюдать противопожарную безопасность и регулярно читали сводки Совинформбюро о положении на фронтах.
По улицам в вечернее время ходили дежурные с красными повязками. В их обязанности входило следить за тем, чтобы из окон не пробивался свет; поэтому, когда с наступлением темноты включали свет, часто на улицу посылали кого-нибудь проверить, не видно ли снаружи отблесков света. Иногда во время воздушной тревоги отключали свет по всему городу.
Мрак, в который погружался город, иногда расцвечивался движением фонарей, с которыми ходили дежурные. Народ этих дежурных называл патрулями. Если патрули обнаруживали проблеск света, они фонарями освещали это окно и в рупор громко кричали о нарушении.
Еще были патрули, которые ходили по домам днем и проверяли, как люди пользуются электричеством. Счетчиков тогда не было и, похоже, плата была, исходя из количества лампочек и розеток. Естественно, народ старался всеми способами уменьшить эту плату. У многих был такой хитрый прибор по названию «жулик». Он представлял собой цоколь от лампочки, на котором был приделан пластмассовый цилиндр с отверстиями для включения вилки какого-нибудь электроприбора, обычно это была плитка. Поэтому, когда был слух, что идут патрули, надо быстро вывернуть «жулик», спрятать его вместе с плиткой и ввинтить лампочку в патрон. За такой «жулик» назначали большой штраф.
Кроме того, патрули проводили беседы, рассказывали, что по городу происходит много пожаров от таких устройств, да и по радио об этом постоянно напоминали. Были слухи о том, что пожары устраивают враги народа, подают сигналы вражеским бомбардировщикам. Поэтому с наступлением сумерек было запрещено топить печи. Светомаскировка – дело серьезное, никакого разгильдяйства и халатности не допускалось. Да и враги были не только на фронтах – лицом к лицу, но и внутри страны: кто-то действовал, а кто-то затаился до времени.
Еще одно воспоминание: радиоприемники, даже простенькие, были под строжайшим запретом. Их нельзя было иметь у себя дома, конечно же слушать, поэтому все обязаны были сдать подобные устройства. По окончании войны их должны были вернуть.
Так государство защищало свое информационное пространство от геббельсовской пропаганды. Много русских предателей вещало на вражеских станциях. И хотя после окончания войны многие из них были осуждены, все же некоторые сбежали на Запад и в Америку и продолжали гадить оттуда. Я удивляюсь, как после перестройки, в смутные 90-е, это племя быстро стало размножаться, заполонило многие государственные российские телеканалы, печать и стало поливать грязью нашу страну, народ и его героев. Самое позорное, что государство платит большие деньги этим последышам Геббельса за их «работу» против нас. И очень многие называют это демократией. Поистине, кого сатана хочет уничтожить, он их лишает разума.
Да и вообще, такое впечатление, что телевизионные витии посходили с ума. Визги всех этих «бондюэлей» на всевозможных ток-шоу, грязное белье, вперемешку с помоями и откровениями всяких светских львов и львиц и прочих многочисленных креативных особ слились в какой-то хор, который напрочь уничтожает все духовное, божественное в человеке и внушает с экрана:
Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнездятся клубом в нас пороки…
И такая вот своеобразно понятая «свобода слова» может уничтожить страну без всяких военных действий – надо только побольше развращать народ с экрана. А может, это так и задумано?
Отвлекся я немного на сегодняшнюю жизнь (не к ночи будь упомянута вся эта либеральная когорта). Возвращаюсь к милым, простым и доброжелательным друзьям моего детства. Остановился я на всяческих запретах военного времени и на описании нашего быта.
Так вот, одна из приятных радостей, вернее, занятий, был самовар, который имелся почти во всех семьях, и я всегда старался участвовать в его запуске. Это, конечно, не имеет ничего общего с запуском ракеты, просто говорили: «Ставь самовар или запускай самовар!» В трубу надо было засыпать горящие угли, одному мне это делать не разрешали. Самовар быстро закипал, как-то плотоядно урчал, потом долго еще сохранял горячую воду и изредка довольно похрюкивал. Еще к самовару выдавали мелко наколотый кусковой сахар.
Теперь о друзьях. В стране тогда действовал коллективистский принцип: помогай детям, старым, слабым, больным. Проповедники законов капитализма еще не родились или сидели по тюрьмам и лагерям. Друг Советского Союза Поль Робсон пел:
Всюду жизнь привольно и широко,
Словно Волга полная течет.
Молодым везде у нас дорога.
Старикам везде у нас почет.
Перед войной вышла книга А. Гайдара «Тимур и его команда». Эта книга в течение примерно 15 лет стала настольной книгой пионеров и школьников. В поселках, маленьких и больших городах, в школах стали создаваться тимуровские команды. Это примерно то, что сейчас называется «волонтеры».
Однажды к нам пришла девочка Аида, живущая на втором этаже, и сказала Лиде, что в школе ей поручили организовать тимуровскую команду из детей окрестных домов. Мне было тогда 5 лет. На сомнение тетушки, что я еще мал, и за мной нужен глаз и помощь, Аида заявила: «Ничего, научим!»
Так начались наши совместные, не знаю, как это назвать, занятия, встречи, игры. Проведя долгое время с бабушкой и редко – с Лидой, я, конечно, одичал без общения со сверстниками и эти занятия для меня стали довольно интересной отдушиной.
Тимуровская команда, так сказать, в ее классическом варианте, не получалась, скорее, это была игра в школу; и постепенно в наше общение подключалось все больше ребят и девочек не только из соседних домов, но и со всей улицы. Жить стало веселее; кроме чтения книг и рисования, появились другие игры, в которые мы раньше не играли.
Почти у всех детей с нашей улицы были бабушки и дедушки; все они верили в Бога и их религиозные чувства благоприятно влияли на внуков, воспитывая в них положительные качества. Как-то так сложился некий кодекс правильных поступков и действий. Отношение к обману, вранью было предосудительное, считалось, что взрослые никогда не врут, в доказательство приводились разные случаи и факты. Часто по поводу нехороших поступков говорили – бог накажет. Все ребята из моего окружения были немного старше меня, и все знали, что маленьким и старым надо помогать. Отцы у многих моих товарищей находились на фронте, но у некоторых были старшие братья, которые уже учились в школе, у многих родители работали на военных заводах и от этого разнообразного общества мы получали какую-то информацию о происходящем в мире.
Все интересовались военными новостями, переживали, когда сообщали об отступлениях и наших неудачах. К 43 году сводки становились все более жизнерадостными. Я помню, как при сообщении о том, что нашими войсками взят какой-то город, я долго размышлял как город можно «взять» и куда его потом деть? Аида мне как-то объяснила, что это означает.
А общее настроение в нашей компании было такое: вот сейчас возьмут один город, потом еще один, а там и война закончится через 2-3 недели. Об этом говорили и взрослые, и ребята в нашей компании.
А тем временем, жизнь шла своим чередом. Становясь старше, я включился в хозяйственную жизнь семьи. Стал ходить за водой (колонка была метрах в 100 от нашего дома) с двумя маленькими ведрами, потом меня стали посылать и за хлебом. Хлеб тогда получали по карточкам. Ходили мы обычно небольшой компанией, с нами был всегда кто-нибудь старший. Была опасность, что украдут карточки, да и были случаи, когда старшие сорванцы выхватывали хлеб прямо из рук и быстро убегали.
Наш путь проходил мимо острога и сквера, расположенного на площади Свободы. В середине сквера были какие-то сооружения, обложенные мешками с песком. Говорили, что там стоят зенитки. В 1944 году, ко времени моего отъезда в Баку, их уже убрали.
Много было разговоров о ночных бомбежках, и ребята хвастались друг перед другом найденными осколками. Так как я был еще мал и меня ночью не выпускали на улицу, я плохо представлял, что такое бомбежки и мне было очень интересно увидеть их. Однажды поздним вечером за мной зашел Володя, сосед напротив, немного старше меня и сказал, что сейчас начинается воздушная тревога. Я стал проситься с ним на улицу и меня отпустили.
Дело было зимой, на небе сияла большая, яркая луна. Под лунным светом город был какой-то сказочный: яркий серебристый снег, темные синие тени и мертвая гнетущая тишина. Кроме нас на улице никого не было; мы молча стояли возле нашей калитки и внимательно вслушивались. Тишина была такая жуткая, что ее было слышно – она издавала какой-то невесомый, то ли шорох, то ли свист. Когда я переступил с ноги на ногу, скрип снега послышался нам таким громким, что казалось, он раздается на весь город.
Мы замерли и продолжали вслушиваться. Внезапно мы почувствовали тихий- тихий даже не гул, а очень далекое звучание некоего странного инструмента, который взял одну ноту и тянет ее, не переставая. Причем звук такой тихий, что иногда при движении головы его можно было потерять, но потом он опять возобновлялся. Ощущение, что этот звук ты воспринимаешь кожей, спиной, каким-то шестым чувством. Одновременно с этим еле слышным звуком, мы увидели на небе две большие зеленые звезды, свет их немного вибрировал, они как-то парой двигались медленно со стороны Ковалихи в сторону площади Свободы. Володя закричал: «Смотри, смотри самолет!» Немного погодя стали слышны разрывы зенитных снарядов, очередь была такая медленная: та, та, та, тых… и еще раз также. А этот далекий тихий звук стал пропадать. Вот он совсем затих, вот напоследок еще чуть-чуть донесся и все: опять гнетущая тишина.
Бомбежки я никакой в этот раз не видел, да и на улицу меня ночью больше не пускали, ну а старшие ребята продолжали набирать на нашей улице какие-то рваные металлические осколки.
В начале 70-х годов я часто бывал на Камчатке, Чукотке. В этих далеких северных краях основное средство передвижения – авиация. Север сближает людей, мне было очень интересно общаться с авиаторами – это мужественные, добрые и надежные люди. Тогда там еще работало много фронтовиков, проведших войну за штурвалами боевых самолетов. Сейчас они уже не летали, но работали в авиаотряде на разных должностях, не порывая связи с авиацией. Я подружился в Анадыре с замполитом авиаотряда, часто беседовали с ним о войне, о жизни.
Я как-то рассказал ему о том эпизоде из далекого детства, когда я вышел посмотреть на бомбежку и летящие зеленые звезды.
Вот что он мне рассказал: «Тихий гул, слышанный тобой – это от большого количества бомбардировщиков, идущих на большой высоте и недосягаемых для наших зениток».
В эти годы фашистская авиация усилила атаки промышленных объектов за Уралом, и цель их была где-то там, и часто Горький для них являлся неким ориентиром, через который пролегал их путь.
Перед бомбометанием самолеты обычно снижаются на другой эшелон и звук от самолетов совсем другой.
Зеленые огни – это не огни на крыльях, а скорее всего, планирующие осветительные ракеты, которые полностью сгорали. Обычно большие армады тяжелых бомбардировщиков, для защиты от наших самолетов, сопровождали немецкие штурмовики и истребители, и если они находили некую цель, подходящую для атаки, то освещали ее ракетами и старались уничтожить, часто они это делали, повинуясь спортивному азарту, продемонстрировать свое мастерство. Так сказать, внеплановое действие.
Наши самолеты тоже охотились за этими стервятниками и многие из них нашли себе могилу на русской земле. Когда после войны в 50-е годы я приезжал погостить в Горький и, общаясь с друзьями, интересовался, как эти бомбежки отразились на самом городе, что разрушено, был ли какой-то ущерб от них. Но никаких сведений мне никто не мог дать.
Общение с фронтовиками-летчиками немного прояснило для меня и эту ситуацию. Сведения о разрушениях и других результатах фашистских бомбежек во время войны представляли государственную тайну. Информация о том, куда попали бомбы, что уничтожено и разрушено не должно дойти до врага; считалось, что это облегчит ему задачу, особенно при следующих ночных налетах. Несмотря на то, что у немцев стояла мощная цейсовская оптика, и они многое могли видеть сами, эта предосторожность с нашей стороны совсем не лишняя.
Если бомбы повреждали какие-то заводские корпуса или иные важные объекты, то спешно, в авральном порядке, ликвидировали повреждения, тщательно маскировали его, и, по возможности, устанавливали всякие пустые муляжи, над которыми натягивали маскировочные сетки, чтобы при следующих налетах, немецким летчикам было сложнее ориентироваться в этой новой для них незнакомой обстановке.
Вот такая информация дополнила мои давние впечатления о той войне в воздухе, которая шла над нами много лет назад.
Тогда, конечно, никто ничего этого не знал, каждый по-своему понимал то, что происходило вокруг нас, и многие усваивали и повторяли самые невероятные версии и слухи о войне. Один мальчик рассказывал нам о том, что в сбитом немецком самолете оказался Гитлер, которого отправили в Москву и теперь война скоро кончится. Где он мог такое услышать: в семье? Или в какой-нибудь сатирической передаче, звучащей на радио?
Сложно было ребенку разобраться во всем этом обилии событий и рассказов о них, обрушившихся на нас. Много лет спустя, вспоминая мое трехгодовое пребывание в Горьком, все впечатления казались какими-то смазанными; перепутались времена года, события, как в какой-то туманной дымке: отдельные эпизоды и разговоры запомнились ярко, остальное все расплывается и ускользает из памяти. Осталось четкое ощущение, что все давалось мне с огромным трудом: и понимание какого-то явления, и сами действия, в том числе хождение за водой, доставка дров на третий этаж. Наверное, если бы было разумное руководство, подсказка старших – все давалось бы намного легче.

