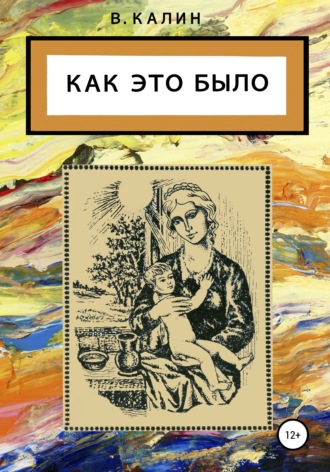 полная версия
полная версияКак это было
В основном передача эстафеты происходило четко. Когда мы отправились в наш вагон, во мне все бурлило от счастья: «Я спасен, меня никуда не отправят, поездка продолжается, сейчас я увижу такие родные, знакомые лица», эмоции переполняли меня, в голове, как эхо звучали слова коменданта: «Получай свою мамку!!!» Где-то вдалеке теплилась надежда, а может это и есть моя мама, может путешествие закончилось, и тут же сомнения, почему никто не говорит об этом. Ребенку хочется верить в сказку, и так мало нужно для счастья. До этого приключения я находился в пути около двух недель, и часто представлял, как я приеду домой, и что это за Баку с керосиновыми реками. Мама представлялась то в образе какой –то царевны из сказки, то в образе строгой женщины с военного плаката. Вот такая сумятица царила в моей голове, пока мы шли к своему вагону.
Я с интересом разглядывал свою новую провожатую. На голове у нее была повязана белая косынка, за спиной находился небольшой вещь-мешок, по прозванию «сидор», в одной руке она держала узелок, а спереди немыслимым образом, на каких-то подвязках помещался грудной ребенок, которого она придерживала другой рукой. Ей помогли подняться в вагон, показали место, и она как – то обстоятельно по-хозяйски стала устраиваться. Она хлопотала, щебетала, не умолкая, что-то спрашивала, кому-то отвечала. Похоже, что вместе с ней в наш вагон, пропахший пеленками, полевыми цветами, сеном, проникло радостное и веселое оживление. Мамка моя могла разговаривать одновременно с двумя и тремя собеседниками, была остра на язык, могла кого-то и отбрить при случае, накричать на своего малыша: «Что орешь? А вот я тебе а-та-та!» Вместе с этим целовала его и сюсюкала: «Ах, ты мой зассанчик!». И все это выглядело очень добро, не обидно.
Эта часть путешествия, проведенная с моей провожатой, запомнилось мне очень ярко. Началось все с обустройства: перемещения всех этих мисок, бидончиков, и прочей утвари. Всему было найдено свое место, гораздо удобнее, чем раньше. В «сидоре» у нее оказались, маленькие, толстенькие лепешки и молоко, которого я давно не видел. Дошла очередь и до меня. С моего места на матрасе, с которого хорошо был виден весь вагон, дверь, ночной фонарь, меня переместили к стенке и при этом без умолку говорила: «мне надо спать с маленьким, кормить его грудью, вставать, когда он обсикается, я тебя буду беспокоить, здесь тебе будет лучше, я твоя мамка, ты меня должен слушаться, а это твой братик, ты должен его любить, смотри какой он хорошенький и т.д., и т.п.» Я посмотрел на своего братика, увидел сморщенное личико с глазками щелками, и не нашел ничего хорошенького, но мамке своей этого не сказал. Эта моя провожатая мне сразу понравилась, я почувствовал к ней доверие, а потом и любовь.
Живя в Горьком эти три года мне любить, было некого, бабушка с дедушкой были старенькие, им было только до себя. Дедушка и умер при мне, тетушка работала с раннего утра до ночи, кажется, рабочий день был 10 часов (точно не помню). В единственный выходной участвовала в каких – то дежурствах, рейдах, заготовках и т.п. Я любил девочку Аиду с нашего дома, она была старше меня года на четыре, была умная, красивая, много знала (по моим понятиям), читала нам книги, пела песни, но это, скорее всего, было уважение к уму, к знаниям, а не любовь. Когда я доберусь в своем повествовании до своей жизни в Горьком, я расскажу, как закончилась эта любовь. А пока мы с моей мамкой, братишкой, и остальными жителями нашего вагона мчим куда-то вперед. И я остаюсь со своими сомнениями: мама это или не мама. Ехали мы вместе дней 10-15, может больше, в итоге менялись пассажиры, кто-то подсаживался, некоторые уходили. Я заметил, что вновь пришедшие всегда с интересом смотрят на нашу «семейку». «Мамка» с младенцем на руках и сбоку в обнимку с ними мальчишка, который эту девочку называет мамой, а она его сыночком.
Случилось так, что вскорости я заболел, у меня был жар, я с трудом воспринимал окружающих, помню, какие-то люди в белых халатах осматривали меня, что-то говорили. Их голоса невнятным гулом отзывались у меня в голове. Потом я узнал, что меня хотели отправить в медицинский барак, где содержались больные. Моя мамка с соседями отстояли меня. Во время болезни мне снились всякие кошмары: там были медленно летящие самолеты, из них высовывались скрюченные страшные руки, они пытались схватить меня, что – то грохотало, в лицо брызгали осколки, я их потом набирал в горсть и хвастался друзьям: «Вот как много я набрал осколков!». И всегда среди этого ужаса я видел свою мамку, она стояла надо мной с младенцем, со скрещенными руками и склоненной головой. Просыпаясь, я не мог вспомнить, видел ли я ее наяву, или она мне снилась. Много лет спустя, увидев иконы с младенцем, а потом и картины Петрова-Водкина с его крестьянскими мадоннами, мне стало казаться, что именно их я видел в своих болезненных снах. Мне многое забылось из той поездки, некоторые события я восстанавливал по рассказам людей, ехавших со мной, но этот эфемерный, мерцающий образ женщины, с вечным младенцем на руках, являющийся мне во время болезни, (то ли во сне, то ли наяву) я запомнил на всю жизнь. Может это ангел посетил меня?
Через несколько дней мне стало лучше. Причем улучшения произошли как-то неожиданно: проснувшись утром, я почувствовал, что ночные кошмары и видения уходят куда-то. Голова была легкая, видел я все очень ясно, на стенке вагона играют солнечные блики, рядом сидит моя мама, гладит меня по голове и говорит ласковые слова. Я попытался встать, ноги подкосились, в голове загудело, я чуть не упал. Слышу голос откуда-то издалека: «Лежи мой слабенький, тебе нельзя вставать, хочешь, я тебя нюшей покормлю?» Она сунула мне грудь под нос, приговаривая «Спи…спи…» Я опять уснул, сон был спокойный, как провалился куда-то, несколько раз просыпался, потом опять засыпал, то ли сон, то ли явь… Рядом со мной лежит мой братик, мама его кормит грудью. Вокруг слышны голоса, осуждающие мою мамку – что это за лоб такой, а ты его грудью кормишь, у самой-то молока не хватает твоему ребенку. Мамка отвечала: «Я понарошку. Он всю ночь не спал, бредил, только с грудью успокоился, он и молока-то не пробовал».
Когда я стал взрослым, набравшись жизненной мудрости, я подметил такую особенность, что часто во время некоего важного события, связанного с большой ответственностью, риском, болезнью и пр. стрессом, вдруг обращаешь внимание на какую-нибудь незначительную мелочь или деталь, и она надолго запоминается. И эти эпизоды, фразы во время моего выздоровления я надолго запомнил. А пока я просто пытался переварить услышанное – что это за лоб, которого грудью кормят? Маленького сыночка не назовут лбом, а кормят только его, и почему молока не хватит? Потом до меня дошло, что лоб – это про меня, но никто меня никаким молоком не кормил, да и вообще я ничего не помню. Перед тем как снова уснуть, я вспомнил мамкин голос: «Хочешь, я тебя нюшей покормлю?»
Вот так между реальностью и какими-то видениями началось мое выздоровление. Потихоньку стал что-то есть, ходить от стенки до стенки. Я стал плохо спать, часто просыпался ночью, но никогда я не видел свою «маму» спящей, она или кормила малыша, или сразу начинала меня успокаивать, гладить, совала мне грудь и что-то тихо говорила. Когда она спала, одному богу известно. Ее ребеночек, мой «братик» был довольно спокойный. Плакал редко, капризничал мало, но, если кто-то из младенцев нашего вагона начинал плакать, он сразу же поддерживал его своим криком. Мамка тут же его успокаивала, давала грудь, а если он продолжал капризничать, совала соску, и обычно он сразу же замолкал. Соска эта была особенная. Мамка пережёвывала ржаной хлеб, эту кашицу клала в тряпицу, размером с носовой платок, закручивала, завязывала, получался круглый шарик, который она засовывала в рот ребенку. Когда во время болезни меня мамка успокаивала и усыпляла грудью, она иногда пыталась всунуть мне в рот такую же соску. Но я ее категорически не принимал. В Горьком у нас были в ходу сухари. Когда мы шли гулять, играть на улицу, то почти у всей нашей детской компании в карманах имелись сухари. Кто не доел за обедом, спешил – прихватил с собой, кто просто так брал на всякий случай. Мы угощали друг друга этими сухарями, обменивались ими. Это было своего рода лакомство, заменявшее нам конфеты. И в одно из своих пробуждений во время болезни, я слышал, как мамка жаловалась попутчице: «Представляешь, не ест моченый хлеб!» Я понял, что это про меня. Запомнилась мне и фраза, которая изредка звучала в ее разговоре – «хоть ж…й ешь!» Я долго размышлял над ней, пытался представить, как это возможно и только немного погодя понял, что это характеризует некое изобилие, множество, в основном съедобных продуктов. Поэтому, когда мамка меня потчевала своей соской с моченым хлебом, я как-то раз заявил: «У нас в Горьком сухарей хоть жопой ешь!» Все посмеялись, но потом объяснили мне, что ребенок так не должен говорить. Вот такие курьезные эпизоды запомнились мне надолго.
Запомнилось мне и то, как я открыл вкус материнского молока. Я уже начал выздоравливать; немного ходил по вагону, стал есть, но часто по ночам просыпался от какого-то беспокойства, потом долго не мог заснуть, эта особенность осталась со мной на всю жизнь. Почти всегда я заставал «мамку», сидящую возле меня. Увидев ее, я чувствовал некое успокоение, которое пришло на смену кошмарам, как- будто что-то надежное, сильное оберегает и защищает меня. Много лет спустя, осмысливая происходящее, я понял – это любовь. Несмышлёного младенца тянет к матери, он связан с ней невидимыми узами, он ее различает среди других людей, но мы никогда не узнаем, чувствует, ли он любовь к ней или их существование происходит на уровне симбиоза. Можно сказать, я побывал в роли грудного младенца, жалкого, беспомощного, брошенного во время войны в житейскую неразбериху. Все эти события, происходящие вокруг, перестали меня волновать; сомнения и надежда моя (мама это или не мама) куда-то делись. Была любовь, которая, возможно и помогла мне выжить. Когда я носом тыкался в ее грудь, я испытывал какое-то усыпляющее чувство, как будто у меня на плече сидит пушистый котенок, мурлыкает, трется мордочкой об меня, а мне так хорошо; спокойно, глазки сами закрываются, и в блаженном состоянии проваливаешься в сон.
И вот однажды почти засыпая, чмокая губами, я ощутил во рту сладкий вкус грудного молока. Надо сказать, живя в Горьком, я и дети, с которыми я общался, не были избалованы сладким, мы вообще сладостей не видели. Единственная сладость, знакомая мне – это кусковой сахар, который кололся щипчиками на маленькие дольки и выдавался к чаю. Так как я чай не любил, то норовил просто отправить его в рот. Ну, еще в нашей компании был мальчик, отец которого работал на оборонном заводе, так этот мальчик пару раз угощал нас конфетами в бумажной обертке. Когда я Лиде показал эту бумажку, она уважительно произнесла: «Наркомовский паек» Еще была девочка, отец у нее был «завхоз», так вот она иногда приносила банку из-под американской сгущенки, там наверху была маленькая дырочка, размером с монету. Эту банку с помощью плоскогубцев, мы превращали в плоскую жестянку и припасенной ложкой соскабливали с нее остатки, вернее следы сгущенки. Вот такие сладости были известны мне в раннем детстве.
Поэтому, когда я ощутил сладкий вкус грудного молока – это было открытие, я шустрее зашлепал губами, наслаждаясь забытым сладким вкусом. Но кормилица моя неожиданно отняла грудь, сказав, что надо кормить маленького. К этому времени, я почти внушил себе, что это моя мама, и этот ее категоричный жест очень обидел меня. Я стал капризничать, требовать, хочу и все! Меня успокоили и уложили спать. На следующий день мамка мне стала объяснять, что я большой мальчик, уже поправился, а кормят грудью только маленьких и что я не должен у братика молоко, отбирать, без которого он заболеет. Да я и сам, поразмыслив, отлучение от сладкого молока пережил относительно спокойно. Нет, так нет. Я знал, что идет война, нам все говорили об этом, да мы уже и сами стали привыкать к этому тяжелому, голодному времени. Чувство голода стало для меня и моих горьковских сверстников обычным состоянием. Потребность к еде притупилась за эти годы, и есть уже особенно не хотелось. Многие женщины с младенцами, ехавшие в нашем вагоне, не кормили своих детей грудью, т.к. у них пропало молоко. Стоит упомянуть, что для беженцев (а нас так и называли) была налажена продуктовая помощь, на некоторых станциях выдавали какие-то пайки, там были и маленькие бутылочки с молоком.
Но чувство обиды на «мамку» где-то в глубине души оставалось: она стала уделять мне меньше внимания, больше заботилась о своем сыночке, часто общалась с женщинами-соседками и все они много рассказывали о своей жизни, о различных житейских проблемах. Мое «Эго» не давало мне покоя. Ведь я так любил свою маму, а она,… похоже, меня уже не любит.
В связи с этим мне вспомнился эпизод из моей прошлой горьковской жизни: У одного мальчика из нашей компании убили отца на фронте, и мы все часто говорили об этом, сочувствовали ему, и вдруг одна девочка говорит ему: «Это же не твой отец, ведь он ушел из вашей семьи к тете Мане, значит он тебе не отец». Началось бурное обсуждение произошедшего, в котором я не участвовал, т.к. ничего не понял. Я рассказал тете Лиде об этом случае и о том, какое было обсуждение. Тетушка, как могла, объяснила мне, что в жизни бывает, супруги расходятся, находя себе другого мужа или жену, чем еще больше меня запутала. Я знал, что где-то далеко у меня есть папа и мама, а муж и жена – это совсем другое и долго не мог понять, почему в одном случае он муж, а в другом папа, и главное, почему они расходятся и еще, к, примеру, если мой папа и мама захотят разойтись, то останутся ли они для меня папой и мамой, а я их сыночком, или же мне тоже придется искать других папу и маму? Так вот, когда мне стало казаться, что моя «мамка» уже не любит меня, в моих несмышлёных мозгах зародилась мысль: «А может она решила со мной развестись? Ведь расходятся же другие люди». И такое недоумение или подозрение тихой мышкой шевелилось где-то в самой глубине сознания, с самой первой встречи с мамкой. Причем ход мыслей был такой. Сначала: «Мама это или не мама?». Потом, когда я ее узнал и полюбил: «Да, это конечно мама, но это другая мама». Потом опять сомнения: «А может моя первая мама ушла от меня, а эта мама другая, с которой мы сошлись?».
Это сейчас, в зрелом возрасте я все анализирую и пытаюсь понять и объяснить все происходящее, а тогда в мчавшемся поезде, одни сомнения, догадки и переживания.
Разговоры женщин, звучавшие вокруг, еще больше вносили неразбериху в мое понимание происходящего. Такие слова о семейных отношениях мне уже немного объяснили в Горьком. «Ушел к другой!», «Ушла к другому», «Развод». «Сошлись», «Разошлись». Было еще много непонятных слов, звучавших вокруг, значение которых я понял только много лет спустя. В Горьком в нашей компании я был самым младшим, и поэтому, когда мне что-то было непонятно, я обращался к окружающим, и они как могли, объясняли мне, что непонятно. Здесь же, когда женщины рядом со мной, беседовали о своих интимных проблемах, а я вмешивался в их разговор и просил объяснить мне непонятные слова, то чувствовал некоторую неловкость с их стороны и нежелание отвечать. Нет, они отвечали, но эти ответы звучали как-то неубедительно. Поэтому я больше не приставал к ним с вопросами, а просто наблюдал, слушал и пытался сам разобраться. Каши в моей голове становилось все больше и больше.
Была в моем багаже очень ценная для меня вещь – это был медвежонок Тедди. Лида подарила мне этого медвежонка на день рождения. Он сразу стал для меня любимым, почти живым существом. Глазки у него были как живые, казалось, что он может смотреть ими по сторонам, мех был такой пушистый и мягкий, на лапах были коготки, совсем не царапучие, на шее на цепочке висела круглая зеленая медаль, где по-английски было написано «Теddy». Медвежонка купили еще до войны в «Торгсине». Это такой магазин, расшифровывается, как «Торговля с иностранцами». Платили там золотом, драгоценностями и т.п. изделиями. Когда я появился с ним на улице – это было событие, особенно в восторге были девочки; все просили дать его подержать, обнять его, потрясти и послушать, как после этого у него в груди бьется сердце. С этим медвежонком я ощутил свою значимость, если девчонки собирались играть в «домики», они кричали: «Виталик, выходи играть вместе с Тедди». Но вскоре Лида запретила мне выходить с ним на улицу, т.к. медвежонка надо беречь, а его сильно испачкали и затрепали. Когда меня отправляли в Баку, было много сомнений; давать ли мне с собой Тедди, боялись, что в дороге украдут такую дорогую вещь. Но так как я категорически отказывался ехать, то уговорили меня, дав с собой медвежонка.
За время болезни я ни разу не вспомнил про медвежонка. Я вообще плохо представлял кто я, где нахожусь, что за люди вокруг. Кроме самолетов со страшными длинными руками, которые атаковали меня во сне, мне часто снилось, как я выбираюсь из каких-то кореньев, которые шевелились, как живые, окружали меня со всех сторон, опутывали мне руки и ноги, а вокруг не было ни просвета, ни выхода. Где – то звучал голос: «Мальчик, как тебя зовут?», но я не мог ответить, т.к. вся эта липкая, корявая паутина, как живые веревки, окружала меня со всех сторон, лезла в рот, в глаза и я барахтался в ней, как пойманная муха. Сон и явь перепутались. Иногда мне казалось, что я вижу свою «мамку» во сне, а в реальности весь наш вагон опутан какими-то щупальцами. Однажды, когда болезнь немного отступила, а сознание и ощущение реальности стало медленно возвращаться ко мне, пробудившись утром, я увидел, что моя мамка держит передо мной Тедди, вертит им, двигает лапами, и что-то тихо говорит медвежонкиным голосом. Увидев яркого, веселого друга Тедди, такого родного, после всех этих ночных кошмаров, я ощутил такой всплеск радости, внутри все затрепетало от счастья, какая-то еще слабая, но уже ощутимая энергия стала пробуждаться во мне. Я сразу вспомнил всю мою предыдущую жизнь, наш двор, улицу, родных, наши игры с Тедди. Когда я заболевал, моя мамка бережно упаковала медвежонка и надежно припрятала. И вот сейчас, когда мне было очень плохо, он появился ниоткуда, такой большой, красивый, добрый, поддержать меня, вытащить из того мутного, бредового состояния, в котором я находился.
С этого дня наша семейка с Тедди не расставалась. Он участвовал во всех наших играх, его тоже кормили, братик тоже полюбил его, тянул ручонки, теребил его, пытался смеяться и что-то бормотал. В повествовании о своем путешествии я отвлекся, стал рассказывать о своем тогдашнем друге и попутчике медвежонке Тедди. Поэтому возвращаюсь к перерыву в своем рассказе. Остановился я на том, что беседы женщин с «мамкой» слышимые мной, наполнили мою голову ворохом разной непонятной информации. Кроме того, мне показалось, что от меня что-то скрывают или прячут. Много лет спустя, вспоминая об этом, ситуация стала для меня простой и ясной: поезд приближался к той станции, где выходит моя мамка, и женщины, скорее всего, обсуждали затянувшуюся игру в мамку-сыночка. А тогда…Никто, ничего мне не объяснял; я чувствовал некое напряжение вокруг, а внутри росла и росла тревога, ожидание чего-то неприятного. И вот однажды утром, проснувшись, я увидел, что мамка перебирает вещи, что-то вытряхивает, что-то завязывает в узелок, словом, идут какие-то сборы. Сознание пронзила мысль: «Уходит от меня». И тут же другая: «А может быть, мы уже приехали?». Я тоже стал собирать свой нехитрый скарб: медвежонка, маленький бидончик, полотенце, карандаши и прочую мелочь. Вдруг неожиданно наступила тишина. Я поднял голову: окружающие молча смотрели на меня, а мамка сидела ко мне спиной и ее плечи судорожно подрагивали. Я услышал громкие всхлипывания и, понял, что она плачет. Заплакал мой братик, все зашевелились; после тишины, когда было слышно, как от сквозняка трепещет уголок плаката на стене, вдруг все звуки слились в моей голове в немыслимую какофонию.
Вагон жил своей жизнью: слышны крики, плач, что-то разбили, кого-то успокаивали, каждый занят своими заботами и потребностями. И только я не понимаю, что происходит и что со мной будет дальше. Мама обняла меня, стала гладить по голове и сквозь всхлипывания стала говорить: «Виталик, комендант назначил меня твоей мамой, чтобы я помогла тебе доехать до Баку, где тебя ждет мама. Мы завтра приезжаем на мою станцию N, где мы с моим сыночком выходим, но вместо меня придет другая женщина, она тебя повезет дальше». После такого сообщения я вообще потерял всякую ориентацию в жизни. Одна мама, другая мама, «сходятся», «расходятся», а тут еще оказывается, коменданты мам назначают.
Женщина, которая доставила меня в Баку, много рассказывала нам о подробностях нашей поездки. Вот как это выглядело в ее описании. Я устроил истерику, кричал, что маму свою не брошу, выйду вместе с ней и ребенком, я понимаю, что она решила со мной развестись, но я ее люблю и останусь с ней. Собирал свои вещи, плакал, отказался есть, кричал, что у меня в жизни, кроме нее, никого нет. Успокоили меня только к вечеру, с помощью какой-то таблетки.
А для меня расставание с мамой выглядело так…. Просыпаюсь утром, около меня никого нет, вагон мне показался совсем пустой и тихий. Пытаюсь вспомнить, что было накануне, где-то теплится надежда, что это мне приснилось. Опять задремал; так несколько раз просыпаясь, пытался отогнать от себя вчерашние воспоминания. Не получается…И наконец, в одно из пробуждений, я понял, что я остался один, совсем один. И в зрелом возрасте, перечитывая роман Хемингуэя «Иметь и не иметь» дойдя до фразы героя «Человек не может быть один», я часто вспоминал этот вагон своего детства и ту тоску, и безысходность, которая навалилась тогда на меня. Никаких мыслей, эмоций, полное безразличие ко всему окружающему. Но живой человек существует в развитии. Потосковав и погрустив, я снова уснул.
Так проваливаясь в забытье и возрождаясь, в одно из пробуждений, я увидел перед собой мальчишку, который играл с Тедди. Играл – это мягко сказано. Он терзал его, тянул за уши, трепал, пытался оторвать хвост. К такому отношению Тедди не привык. Все, кто с ним играли, ласкали его, разговаривали, слушали его сердце, а этот болван даже не пытался понять и услышать, что у Тедди, если его встряхнуть, бьется сердце. К тому же, Тедди, единственная ниточка, память, связывающая меня с потерей моей семьи. Надо срочно выручать Тедди. Кое-как поднявшись, я вытянул вперед руки и бросился на мальчишку. Я за что-то запнулся, но при падении успел схватить медвежонка сначала одной, а потом и другой рукой. Мы оба упали: в вагоне было довольно тесно, надо было передвигаться осторожно – между ящиками, лавками и пр. утварью. Мы оба запутались в этих нагромождениях, а когда выкарабкались, я попытался сесть и увидел напротив лицо моего противника с вытаращенными безумными глазами.
Из носа у него сочилась тоненькая струйка крови; она все прибывала и ширилась, заливала ему рот, а он обеими руками размазывал кровь по всему лицу. Одновременно с этим раздался тонкий визг, переходящий в плач, который становился все громче и громче. К этому визгу и плачу присоединился громкий женский голос. Высокая, какая – то костлявая женщина выросла над нами; она схватила меня за ухо так, как будто хотела оторвать его. При этом поносила меня всякими плохими словами, среди которых «хулиган» и «шпана» были не самыми злыми и обидными. Всполошился весь вагон, все приняли участие в трактовке и обсуждении происходящего. Я сидел молча, прижав Тедди; вот оно одиночество, весь мир вокруг ополчился против меня, никто меня не понимает, я ничего никому не могу объяснить. Я никого не бил, я в жизни никогда не дрался. Я изо всей силы сдерживался, чтобы не зареветь.
Надо сказать, что к этому времени население вагона несколько уменьшилось, многие мои знакомые попутчики покинули вагон, появилось много незнакомых лиц. Эта женщина, которая трепала меня за ухо, оказалась матерью мальчика, с которым у меня произошла стычка, да и к тому же моей новой сопровождающей. Она грозилась сдать меня в колонию, документы мои выбросить, грозилась комендантом и милицией. Но на мое счастье осталось несколько женщин, едущих со мной давно, и одна из них спокойно объяснила моей новой сопровождающей суть дела: «Ваш мальчик взял чужую игрушку у ребенка, который ею очень дорожит, и он не играл, а трепал его, бил головой об пол, поэтому мальчик Виталик отобрал свою игрушку у него. Никто никого не бил, они оба упали, и мальчик Виталик попал головой ему в нос, после чего у вашего мальчика началась истерика со слезами. Вы посмотрите на маленького, слабенького мальчика и сравните его со своим сыном, разве он мог избить его, как вы считаете?» И еще ваша обязанность доставить ребенка до вашей станции и передать его с документами следующей провожатой. Если вы этого не сделаете, вам не вернут ваши документы!».
После такого четкого объяснения, гнев моей новой провожатой приутих. Она отпустила мое ухо и стала хлопотать возле своего сыночка, который продолжал громко плакать и стонать. Шишка на моей голове, которую я получил, столкнувшись с носом мальчика, сильно болела, что-то в ней пульсировало и толкалось. Женщины мне обработали ранку, приложили холодную мокрую тряпку и велели сидеть спокойно, не вставать и не двигаться.

