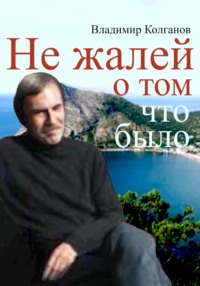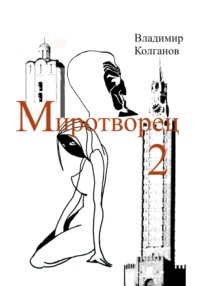Полная версия
Писатели и стукачи
На этот раз повезло, и Пильняк продолжает писать рассказы, заводит знакомства с писателями, а с наступлением дачного сезона помогает им подыскать комнату в окрестностях Коломны. Как ни странно, он всё ещё надеется, что коммерческое образование может пригодиться и усердно готовится к экзаменам. Впрочем, ничто человеческое и ему не чуждо, о чём он пишет своему приятелю:
«Ездил в имение к товарищу, пил коньяк и играл в шахматы… спорил о черте и литературе, курил и ходил гулять в компании с дамами "ах, не тронь меня!"… В воскресенье, кажется (вместо 2-го мая), буду справлять именины, приедут гости из Москвы».
А в это время в Москве и Петрограде ЧК разоружает анархистов, отряд полковника Дроздовского уже выбил большевиков из Новочеркасска, восставшие казаки под руководством генерала Краснова заняли Ростов-на-Дону, совсем недолго осталось до мятежа левых эсэров и кровавой резни в Рыбинске и Ярославле. Похоже, Пильняку нет до всего этого никакого дела. Вот чем он занимался весной 1919 года:
«В феврале ездил за хлебом мешочником в Кустаревку, Тамбовской губ. В мае ездил за хлебом в Казань и удирал оттуда на крыше поезда от чехословаков. Муки, все же, привез на полгода. Летом состоял членом коммуны анархистов в Песках, пока анархисты не перестрелялись. Летом впервые начал писать о революции. Осенью ездил "полторапудником" за хлебом в Пензенскую губ. Муку получил в комбеде. Зиму и осень 18-19 гг. в Коломне прожил, к экзаменам читал, писал рассказы, нигде не служил, пил рыбий жир».
Пока Пильняк пытался что-то сочинять о революции, ничего в ней не понимая, его будущий коллега Андрей Платонов писал фронтовые очерки для местной воронежской газеты, затем работал помощником машиниста на воинских эшелонах, служил в железнодорожном отряде рядовым стрелком.
Настал 1920 год, а Пильняк всё ещё мается в Коломне:
«Прошла целая зима, а я все треплюсь… В Коломне сыпной тиф, мы живем на вулкане. Продовольствие гнуснеет. Нет керосина. Читаю поэтому Тургенева, – плохой писатель».
Отношение к Тургеневу – это личное дело Пильняка. Не исключено, что неприязнь могла стать следствием отсутствия керосина или появилась по ещё какой-нибудь уважительной причине. Однако настроение писателя переменчиво, и вот уже он пишет Брюсову:
«Я – молод, здоров, силен и вынослив, и, если бы я был против Республики, я плавал бы сейчас по Черному морю: – это основа моего отношения к Республике и моих ощущений. Мне никто не имеет права сказать, что он больше меня любит и понимает Россию. Революция – благословенна. Но – то мещанство, глупость, довольство, четверть фунта хлеба около красного стяга (все то же мещанство) – табак не по моему носу. Меня возмущает лакейство этих дней».
И в этих строках всё больше о себе родимом – «мои ощущения», «моё отношение», «мне никто не имеет права сказать», не говоря уже о «табаке не по моему носу».
Только в апреле следующего года Пильняк покидает опостылевшую Коломну и направляется в Петроград. Самое главное для начинающего писателя – найти себе влиятельных покровителей в столице. Борису Пильняку это удаётся – он знакомится с Горьким и Луначарским, но особенно близкие отношения установились у него с редактором журнала «Красная новь», старым большевиком Воронским. Всё больше рассказов Пильняка печатают в журнале, и даже в «Правде» появляется хвалебная статья, о чём он и сообщает своему приятелю: «3/4 моих вещей не могут (!) выйти в России, а в "Правде" меня… хвалят!» Как эти «три четверти вещей» сочетаются со словами Пильняка о том, что он за республику, что революция благословенна – в этом ещё надо разобраться. Однако же хвалят его, хвалит и нарком просвещения товарищ Луначарский: «Если обратиться к беллетристам, выдвинутым самой революцией, то мы должны будем остановиться прежде всего на Борисе Пильняке, у которого есть свое лицо, и который является, вероятно, самым одаренным из них».
Что уж тут говорить, если даже Сталин с одобрением отозвался о романе «Голый год», опубликованном в 1922 году, упомянув его в лекции «Об основах ленинизма»:
«Кому не известна болезнь узкого практицизма и беспринципного делячества, приводящего нередко некоторых "большевиков" к перерождению и к отходу их от дела революции? Эта своеобразная болезнь получила свое отражение в рассказе Б. Пильняка "Голый год", где изображены типы русских "большевиков", полных воли и практической решимости, "фукцирующих" весьма "энегрично", но лишенных перспективы, не знающих "что к чему" и сбивающихся, ввиду этого, с пути революционной работы».
Довольно точно исходные мотивы автора «Голого года» описывает филолог Дмитрий Фёдоров:
«Для него большевики "из русской рыхлой, корявой народности – лучший отбор". Их селекция в "людей особого склада" "произошла на почве восстания воли" – решительного разрыва с милосердием, состраданием, жалостью к человеку, религиозностью, смирением, всечеловечностью, что Ф. Ницше называл "моралью рабов", а Н. Бердяев – органичными "свойствами русской души"… Обезличивание личности путем ее превращения в функциональный винтик революционного механизма возводится Б. Пильняком в степень героической самоотверженности назойливым лейтмотивом: "Энегрично фукцировать". Вот что такое большевики!»
Можно ли после этого говорить о том, что Борис Пильняк понял революцию? Если понял, то по-своему, и это совсем не то понимание, к которому в ранних своих рассказах пришёл Андрей Платонов. У Платонова больше доброты, любви к простым людям, а в словах Пильняка то и дело сквозит издевка над их невежеством. Вот и Троцкий поначалу не считал его даже «попутчиком», что следует из его записки в Секретариат ЦК:
«Мы несомненно рискуем растерять молодых поэтов, художников и пр., тяготеющих к нам… Уже сейчас выделить небольшой список несомненно даровитых и несомненно сочувствующих нам писателей, которые борьбой за заработок толкаются в сторону буржуазии и могут завтра оказаться во враждебном нам лагере, подобно Пильняку».
Желанием большевиков перетянуть талантливых молодых писателей на свою сторону можно объяснить предоставленную Пильняку возможность посетить Эстонию и Германию. Помимо налаживания контактов с зарубежными издателями Пильняк встречался там с представителями эмиграции. Считается, что эти встречи повлияли на решение Алексея Толстого и некоторых других писателей возвратиться на родину, в Россию.
Вернувшись домой, Пильняк занимается организацией литературного альманаха «Круг». Однако не всё так гладко в его карьере – внезапно возникла проблема с публикацией сборника рассказов. И тут за Пильняка вступается товарищ Троцкий – снова он пишет записку в Секретариат ЦК:
«Предлагаю немедленно поставить на разрешение Политбюро вопрос о конфискации, наложенной на книгу Пильняка "Смертельное манит". Ни по содержанию, ни по форме эта книга ничем не отличается от других книг Пильняка, которые, однако, не запрещены и не конфискованы… В отношении автора к революции та же двойственность, что и в "Голом годе". После того автор явно приблизился к революции, а не отошел от нее. В согласии с уже состоявшимся решением ЦК по отношению к авторам, развивающимся в революционном направлении, требуется особая внимательность и снисходительность».
На чём основан вывод Троцкого, будто Пильняк приблизился к революции – это осталось неизвестно. Возможно, доказательством послужило возвращение Пильняка в Россию из загранкомандировки. А через год Пильняка снова отправляют за границу – на этот раз он едет в Англию. Знакомство с этой страной вызвало у Пильняка вполне естественное желание – достигнуть такого положения в обществе, чтобы иметь возможность путешествовать по белу свету. И чтобы везде его встречали на «ура!». Об этом и пишет своему приятелю: «В Россию из Англии я приехал в настроении хмуром, – я видел английскую культуру и дома решил делать только одно: работать, писать».
Но пишет не только он, пишет и его покровитель, прекрасно разбирающийся в литературе. В 1923 году Лев Троцкий публикует книгу «Литература и революция», в которой есть целая глава, посвящённая Борису Пильняку:
«Пильняк очень метко и остро наблюдает осколочный быт наш; в этом сила его; он реалист. Сверх этого он знает и об этом своем знании заявляет, что Россия озонируется, что в ней и с ней происходят прекрасные муки рождения; что в суматохе вшей, брани, мешочников совершается величайший в истории перевал. Знает же это Пильняк, раз открыто заявляет. Но в том и беда, что только заявляет, как бы даже противопоставляя эти свои заверения живой и жестокой подлинности быта. Он не отвращается от революционной России, наоборот, приемлет и даже по-своему возвеличивает, но декларативно; художественно же оправдать не может, ибо идейно не охватывает».
Что ж, для «попутчика», как называют официально Пильняка, такое состояние вполне естественно – одни лишь декларации в защиту революции, а пишет совершенно о другом. Приемлет он революционную Россию только потому, что другого не дано, а высказать своё негативное отношение к большевикам просто не решается. Троцкий наверняка это понимает, но в своих выводах не столь категоричен:
«Потомки будут говорит о "прекраснейших днях" человеческого духа. Прекрасно: но место самого Пильняка в этих днях? Смутно, туманно, двойственно. Не оттого ли Пильняк как бы дичится явлений и людей, которые строго определяют и осмысливают совершающееся? Пильняк обходит коммунистов, чаще всего – с уважением, чуть-чуть холодно, иногда с симпатией, но обходит. Вы почти не видите у Пильняка революционера-рабочего, и главное – глазами его автор не глядит и не умеет взглянуть на совершающееся».
Троцкий здесь выдаёт желаемое за действительное. На мой взгляд, Пильняк «взглянуть на совершающееся» глазами революционера не желает. Большевик – это совершенно чуждый ему человек, это обезличенные «кожаные куртки» и не более того. Но Троцкий оставляет приоткрытой дверь для будущего классика:
«Пильняк – писатель молодой, но всё же не юноша. Он вошел в самый критический возраст. И большой опасностью тут является преждевременная, так сказать, скоропостижная маститость: еще не перестал быть подающим надежды, как уже стал оракулом. Пишет, как оракул: и по многозначительности, и по темноте, жречески намекает, учительствует, а ему надо учиться и учиться, ибо концы с концами у него не связаны не только общественно, но и художественно… Талантлив Пильняк, но и трудности велики. Надо ему пожелать успеха».
Весьма образно, следуя собственному неподражаемому стилю, оценил потенциальные возможности популярного писателя Виктор Шкловский:
«Узнав (из вещей), что в Пильняке немецкой крови наполовину и что он ел в детстве немецкие печенья, думаю, что в основе он немец, желающий быть добрым малым и хорошим товарищем… Куда пойдет Пильняк? Идейно он, может быть, будет вращаться вокруг невидимой оси русской революции. В вопросах же мастерства его основной прием как будто оказывается легко разгадываемым. Вряд ли на нем можно работать долго… Из бессвязности стянутых за волосы (бороду) кусков он создал свой стиль. Л. Д. Троцкий… как-то писал, правда, от лица "доктора": "…ненормальность становится нормой, когда ее подхватывает поток развития и закрепляет в общую собственность".
Не обошёл вниманием известного писателя литературовед Пётр Коган, ставший позднее президентом Академии художественных наук:
«Писатель нервный, писатель беспорядочных, моментальных снимков, художник каких-то бьющих в глаза мельканий. Пильняк обращен к прошлому скорее, чем к будущему. Его взору открыты не столько кожаные куртки, люди со стальной волей, без колебаний в душе идущие к цели, сколько искалеченные остатки прошлого, раздавленные беспощадным колесом истории, обломки знатных фамилий, потерпевшие крушение интеллигенты, неврастеники и алкоголики, ищущие спасения в угаре мистических половых одурений».
О литературном стиле Пильняка сказано очень верно. Но тут уж ничего не поделаешь – как правило, изменить собственный характер, сколько ни старайся, не удастся никому. Было бы странно, если бы Пильняк писал как Лев Толстой – скорее уж тут чувствуется влияние Платонова, однако Андрей Платонович, по счастью, не был привержен к «моментальным снимкам» и «мельканиям».
Видимо, большая нужда была в талантливых писателях, если прощали Пильняку и идейную невыдержанность произведений, и заблуждения, которые старались попросту не замечать. Пильняк успел побывать в Японии и в Соединённых Штатах, описав позже впечатления от путешествий в книгах «Корни японского солнца» и «О'кэй».
Насколько справедливо то, что Пильняк писал о дальних странах, не берусь судить. Что же касается его восприятия русских, всей России, то ещё в 1923 году в повести «Третья столица» Пильняк вложил в уста своего героя следующие слова:
«Ложь всюду, в труде, в общественной жизни, в семейных отношениях. Лгут все, и коммунисты, и буржуа, и рабочий, и даже враги революции, вся нация русская. Что это? Массовый психоз, болезнь, слепота?»
Увы, объяснение этому явлению в повести дано невнятное и маловразумительное. Пильняк так и не нашёл ярких образов, которые позволили бы выразить отношение к происходящему в России, как это сделали Булгаков в «Собачьем сердце» и Олеша в «Зависти». Возможно, ему так нравилось положение «приближающегося к революции попутчика», что не хотелось без особой надобности рисковать.
Попытка написать правду, или по крайней мере то, что ему казалось наиболее близким к истине, была предпринята в «Повести непогашенной луны», посвящённой судьбе командарма Гаврилова, в котором читатель без труда угадывает черты Михаила Фрунзе. В 1926 году редактор «Нового мира» Вячеслав Полонский согласился напечатать эту повесть, интрига которой основана на предположении, будто Фрунзе был убит на операционном столе по приказу Сталина. Вот как писал об этом сын писателя Борис Андроникашвили-Пильняк:
«В книге "М. В. Фрунзе. Воспоминания друзей и соратников"… мы находим по крайней мере в трех местах подтверждение выдвинутой Пильняком версии. Ближайший друг и сподвижник Фрунзе И. К. Гамбург свидетельствует о нежелании Фрунзе ложиться на операцию по поводу язвы и то обстоятельство, что он делает это по приказу партии и даже самого Сталина. Совпадение отдельных реплик говорит о том, что Борис Андреевич получил материал от ближайшего окружения Фрунзе, т. е. повесть в основе своей документальна».
Впрочем, в предисловии к повести Пильняк для вида сообщает, что Фрунзе совершенно ни при чём:
«Фабула этого рассказа наталкивает на мысль, что поводом к написанию его и материалом послужила смерть М. В. Фрунзе. Лично я Фрунзе почти не знал, едва был знаком с ним, видел его раза два. Действительных подробностей его смерти я не знаю – и они для меня не очень существенны, ибо целью моего рассказа никак не являлся репортаж о смерти наркомвоена. Все это я нахожу необходимым сообщить читателю, чтобы читатель не искал в нем подлинных фактов и живых лиц».
Пильняк здесь слегка лукавит, намекая, будто сам всё выдумал. Гораздо честнее написать, что сюжет повести основан был на слухах, а слухи недалеки бывают от реальности. Источником информации об обстоятельствах смерти Фрунзе мог быть Леонид Серебряков, близко знакомый с Феликсом Дзержинским, работавший его заместителем в наркомате путей сообщения. Александр Воронский и Пильняк были частыми гостями в семье Серебряковых. Однако в этой версии смерти Фрунзе не всё так очевидно, как может показаться поначалу.
Начнём с того, что в те годы в высшем руководстве партии шла борьба за власть между Сталиным и Троцким. В начале 1925 года Сталину удалось ограничить власть Троцкого, сместив его с поста председателя Реввоенсовета и назначив на его место Михаила Фрунзе. По этому поводу Троцкий позже написал: «Я уступил пост без боя… чтобы вырвать у противников орудие инсинуаций насчет моих военных замыслов». Не суть важно, почему он уступил, поскольку гораздо интереснее понять, с какой стати Сталин, едва назначив Фрунзе на ответственный пост, решил от него избавиться. Этому нет логического объяснения, хотя даже Василий Аксёнов в «Московской саге» придерживался этой версии.
Но вот прошло немало лет, стали доступны прежде закрытые архивы, и тут вдруг выяснилось, что сам Фрунзе настаивал на операции, видимо, слишком много неудобств доставляла ему эта язва. Вот что он писал жене: «Я всё ещё в больнице. В субботу будет новый консилиум. Боюсь, как бы не отказали в операции».
Поскольку версия о преднамеренном убийстве рухнула, хотелось бы понять, в чём же причина появления подобных слухов. Тут следует учесть, что Воронский и Серебряков принадлежали к «левой оппозиции», которая группировалась вокруг Троцкого. Да и сам Пильняк, хотя и был далёк от политики, испытывал благодарность к Троцкому за его поддержку. А весь этот скандал, даже намёк на причастность Сталина к убийству Фрунзе давали шанс Троцкому удержать свои позиции во власти. Как известно, и это ему не помогло – через несколько месяцев Троцкий был выведен из Политбюро.
Пильняк оказался марионеткой в сложной политической игре. После того, как повесть запретили к публикации по решению Политбюро, нужно было найти «крайнего». Дочь Александра Воронского вспоминала:
«Когда автора стали официально спрашивать… он, очевидно испугавшись, сказал, что повесть в таком плане посоветовал написать ему Воронский. А поскольку все это происходило в разгар борьбы с оппозицией, вопрос разбирался в "высших сферах", и вся тяжесть обвинения пала на моего отца».
Скорее всего, так оно и было – написать повесть посоветовал Воронский. Ему могли быть известны многие реальные обстоятельства неудачной операции от членов комиссии по похоронам, в которой он состоял и сам. Идея возникла позже, возможно, в разговоре с Троцким. Ну а когда Пильняк эту повесть написал, редактор «Красной нови», желая отвести подозрения от себя, под каким-то предлогом отказался от публикации, в результате чего автор обратился в «Новый мир». Однако до читателей повесть так и не дошла, поскольку весь тираж журнала был конфискован. Кстати, на автора идеи указывает и такой факт: Пильняк посвятил повесть именно Воронскому.
В мае 1926 года Политбюро приняло специальное постановление:
«Признавая, что "Повесть о непогашенной луне" Пильняка является злостным, контрреволюционным и клеветническим выпадом против ЦК и партии, подтвердить изъятие пятой книги "Нового мира"… Констатировать, что вся фабула и отдельные элементы рассказа Пильняка "Повесть о непогашенной луне" не могли быть созданы Пильняком иначе, как на основании клеветнических разговоров, которые велись некоторыми коммунистами вокруг смерти тов. Фрунзе, и что доля ответственности за это лежит на тов. Воронском. Объявить тов. Воронскому за это выговор».
Только после того, как запретили печататься в литературных журналах, Пильняк сообразил, в какую передрягу он попал. Срочно нужно было оправдаться, предложить властям приемлемое объяснение, покаяться в грехах. Вот что он написал председателю Совнаркома Рыкову:
«Я пишу Вам по поводу моей повести о "Непогашенной луне", получившей столь печальную для меня известность… Никак я не ожидал той судьбы, которая постигла этот рассказ, ибо все мои симпатии были на стороне героев-партийцев и злобствовал я только против врачей… Ввиду того, что в рассказе были места, дававшие повод считать, что рассказ посвящен смерти т. Фрунзе, редакцией "Нового мира" было предложено мне написать предисловие, что я и выполнил… Я вижу, что появление моего рассказа и напечатание его – суть бестактности. Но поверьте мне, что в дни написания его ни одной такой мысли у меня не было… Я прошу Вашей помощи в том, чтобы я мог быть восстановлен в правах советского писателя».
Известна резолюция Сталина на этом письме: «Пильняк жульничает и обманывает нас». До более жёстких выводов дело не дошло, поскольку, судя по всему, Сталин понимал, что Пильняк всего лишь пешка в той игре, которую вёл Троцкий.
Тем временам провинившийся писатель развил бурную активность. Одно за другим он пишет покаянные письма. Вот, например, фрагмент из письма в редакцию «Нового мира»:
«Я никак не ожидал, что эта повесть сыграет в руку контрреволюционного обывателя и будет гнуснейше им использована во вред партии, ни единым помыслом не полагал, что я пишу злостную клевету, сейчас я вижу, что мною допущены крупнейшие ошибки, не осознанные мною при написании».
Как может обыватель использовать повесть Пильняка во вред большевикам, можно лишь догадываться. Но получается так, что, написав повесть, Пильняк всего лишь совершил ошибку, а главный вред – от обывателя. Если он конечно повесть прочитал. Тут изворотливости писателя можно только позавидовать.
В письме главному редактору «Известий» Пильняк пытается отмежеваться от «левой оппозиции»:
«Мне известны разговоры о том, что повесть была инспирирована оппозиционерами. Я отрицаю это: я не знаю, была ли уже оппозиция в декабре прошлого года, когда повесть создавалась, – во всяком случае, мне о ней ничего не было известно».
Что удивительно, подробности случившегося с Фрунзе, тщательно скрываемые от широкой публики, известны писателю в деталях, а полемические статьи, которые ежедневно публикуются в газетах, ему вроде бы некогда читать.
Несколько месяцев прошли, как принято говорить, в напряжённом ожидании. Не исключено, что Пильняк пожалел, что пренебрёг профессией экономиста. Но то ли он оказался очень уж настойчивым, то ли после исключения Троцкого из Политбюро стал не опасен. В итоге Сталин смилостивился, решив, что полгода «карантина» для Пильняка вполне достаточно. Очередное постановление о Пильняке было принято в январе 1927 года:
«В связи с напечатанием в № 1 "Нового мира" за 1927 г. письма Б. Пильняка считать возможным отменить решение ПБ от 13 мая 1926 г. (пр. № 25, п. 22, подпункт "д") о снятии Пильняка со списков сотрудников журналов "Красная новь", "Новый мир" и "Звезда"».
Для Пильняка жизнь снова возвратилась в прежнее русло. Вот что через два года после цитированных мной покаянных писем сообщал Борис Пастернак в письме к своей сестре:
«Раз уж взявшись за перо, хочу рассказать тебе о Пильняке… Ты, вероятно, знаешь, что в числе четырех-пяти наших писателей у него – мировое имя, что он переведен на много языков и, может быть, даже видела или могла видеть в витрине "Das nackte Jahr"… Мы часто ездим к нему в Петровский парк, где у него чудесный небольшой коттедж, великолепный дог, привезенный из Египта, хороший подбор старинных книг, мебель красного дерева…»
Однако Сталин не забыл «клеветнического выпада» и продолжал внимательно следить за творчеством писателя. Видимо, всё ещё нуждался в литераторах-попутчиках, изредка как бы подстёгивая их своей критикой. Досталось и Пильняку в ответе Сталина коммунистам РАПП в феврале 1929 года:
«Возьмите, например, такого попутчика, как Пильняк. Известно, что этот попутчик умеет созерцать и изображать лишь заднюю нашей революции. Не странно ли, что для таких попутчиков у вас нашлись слова о "бережном" отношении, а для Б.-Белоцерковского не оказалось таких слов?»
Вождь как в воду глядел, хотя в это время он ещё не знал, что повесть Пильняка «Красное дерево» издана без ведома властей в берлинском издательстве «Петрополис». Что тут поделаешь, за всем не уследишь. Уж так случилось, что повесть популярного российского автора издали не в СССР, а почему-то за границей – да мало ли какие соображения были у писателя. Проблема в том, что в этой небольшой повести, посвящённой жизни провинциального городка, показана весьма неприглядная картина советской действительности, не оставляющая никакой надежды на лучшую жизнь в обозримом будущем. По сути, и здесь Пильняк словно бы вновь следует за мыслью Троцкого: революция пошла не тем путём, революция переродилась.
Когда информация об этом издании дошла до руководства, начался скандал. Достаточно привести лишь некоторые заголовки в газетах: «Советская общественность против пильняковщины», «Об антисоветском поступке Б. Пильняка», «Писатели осуждают пильняковщину», «Уроки пильняковщины», «Против пильняковщины и примиренчества с ней». Ильф и Петров написали на эту тему фельетон, опубликовав его в журнале «Чудак». Даже Маяковский не сдержался, выразив своё отношение к поступку коллеги по писательскому цеху:
«К сделанному литературному произведению отношусь как к оружию. Если даже это оружие надклассовое (такого нет, но, может быть, за такое считает его Пильняк), то все же сдача этого оружия в белую прессу усиливает арсенал врагов. В сегодняшние дни густеющих туч это равно фронтовой измене».
Пильняк снова попытался сыграть в опасную игру – декларируя свою лояльность большевистской революции и признавая «крупнейшие ошибки», продолжал писать совсем не то, что требовала власть. Но снова эта попытка оказалась неудачной – покаяние на диспуте «Писатель и политграмота» не помогло, и Пильняк был отстранён от руководства Всероссийским Союзом писателей.
Опять пришлось оправдываться – Пильняк пишет письмо в «Литературную газету»: