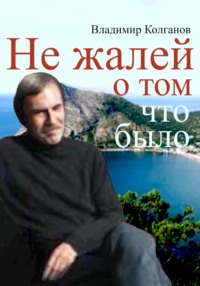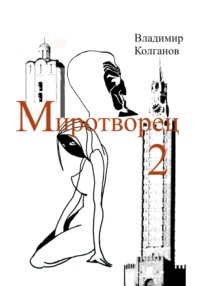Полная версия
Писатели и стукачи
Мнение партийцев было учтено, и в конце 1938 года Берггольц арестовали по обвинению «в связи с врагами народа». Вероятно, одной из причин ареста стало то, что стихи Ольги Берггольц и стихи её первого мужа, Бориса Корнилова, высоко ценил и печатал в газете «Известия» её тогдашний главный редактор Николай Бухарин. После завершения судебного процесса над «любимцем партии» репрессии обрушились на тех людей, которым он симпатизировал. Корнилов был расстрелян, ну а Берггольц больше повезло, если только можно назвать везением несколько месяцев тюремного кошмара. И всё-таки судьба над поэтессой сжалилась – через полгода она была освобождена и полностью реабилитирована. Всё бы ничего, однако из-за побоев Берггольц потеряла своего ещё не родившегося ребёнка. Такими словами она описывала своё возвращение к жизни:
«Зачем все-таки подвергали меня все той же муке?! Зачем были те дикие, полубредовые желто-красные ночи (желтый свет лампочек, красные матрасы, стук в отопительных трубах, голуби)? И это безмерное, безграничное, дикое человеческое страдание, в котором тонуло мое страдание, расширяясь до безумия, до раздавленности? Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят: "Живи"».
Находясь в заключении, Ольга Берггольц ни в чём не призналась и никого не оговорила, как ни настаивали на этом следователи. Потом было её письмо в ЦК, и в итоге повезло – разобрались, освободили, восстановили членство в партии. Считается, что освобождение стало следствием смены руководства НКВД, когда с приходом Берии были пересмотрены некоторые дела осуждённых при Ежове. Что поражает – Берггольц сохранила прежнюю веру в идеалы коммунизма. Другое дело – ненависть к карательным органам, к палачам. Причины этого вполне понятны. Впрочем, неприятие рассказов о Дзержинском не повлияло на отношении поэтессы к Герману – они так и остались близкими друзьями.
Прошло ещё несколько лет, и вот читаем такую запись в «Запретном дневнике» Берггольц:
«Я круглый лишенец. У меня отнято все, отнято самое драгоценное: доверие к Советской власти, больше, даже к идее ее… Движение идет по замкнутому кругу, и человек с его разумом бессилен… Я задыхаюсь в том всеобволакивающем, душном тумане лицемерия и лжи, который царит в нашей жизни, и это-то и называют социализмом!! Я вышла из тюрьмы со смутной, зыбкой, но страстной надеждой, что «всё объяснят», что то чудовищное преступление перед народом, которое было совершено в 35–38 гг., будет хоть как-то объяснено, хоть какие-то гарантии люди получат, что этого больше не будет, что освободят если не всех, то хоть очень многих, я жила эти полтора года в какой-то надежде на исправление этого преступления, на поворот к народу – но нет… Все темнее и страшней, и теперь я убеждаюсь, что больше ждать нечего. Вот в чем разница… В июле 39 года еще чего-то ждала, теперь чувствую, что ждать больше нечего…»
Вполне естественно, что и в стихах Берггольц повторяются всё те же мысли и чувства, которые находим в её дневнике:
И молча, только тайно плача,
зачем-то жили мы опять,
затем, что не могли иначе
ни жить, ни плакать, ни дышать…
И вот уже февраль в осаждённом фашистскими войсками Ленинграде:
«Власть в руках у обидчиков. Как их повылезало, как они распоясались во время войны, и как они мучительно отвратительны на фоне бездонной людской, всенародной, человеческой трагедии. Видимо, рассчитывая на скорое снятие блокады и награждения в связи с этим, почтенное учреждение торопится обеспечить материал для орденов, – "и мы пахали!" О, мразь, мразь!».
Вскоре по делам радиокомитета Ольга Берггольц оказывается в Москве, пытается выбить дополнительное продовольствие для работников радио северной столицы. И хотя многие из её коллег к тому времени уже находятся в эвакуации, она рвётся назад, в свой город, в голодный, блокадный Ленинград. Её там ждут. Надо сказать, что ещё осенью 1941 года у Берггольц была возможность перебраться из осаждённого Ленинграда в солнечную Алма-Ату. Вот как об этом вспоминал Евгений Шварц:
«В октябре примерно стали эвакуировать на самолетах известнейших людей Ленинграда. Шостаковича, Зощенко. Решили эвакуировать Ахматову. Она сказала, что ей нужна спутница, иначе она не доберется до места. Она хотела, чтобы ее сопровождала Берггольц… Вопросы эвакуации решались все там же, глубоко или высоко, что простым глазом не разглядеть. То, что Ахматова потребовала провожатую, упрощало вопрос. Но необходимо было согласие Берггольц».
Пришлось для сопровождения Ахматовой подыскивать другого человека, поскольку Берггольц после долгих раздумий отказалась. Можно предположить, что не простила Ахматовой безразличия к своей судьбе тогда, после ареста в 38-м. Однако, скорее всего, не сочла возможным бросить близких людей, бежать из родного Ленинграда.
После возвращения из Москвы проходит два тяжких месяца. Берггольц пишет стихи, работает на радио.
«У блокадного Ленинграда была своя богиня Сострадания и Надежды, и она разговаривала с блокадниками стихами. Стихами Ольги Берггольц».
Эти слова из «Блокадной книги» Алексея Адамовича и Даниила Гранина. А вот какие стихи Ольга Берггольц читала ленинградцам – несколько строк из её «Февральского дневника»:
Мы съели хлеб, что был отложен на день,
в один платок закутались вдвоем,
и тихо-тихо стало в Ленинграде.
Один, стуча, трудился метроном…
Здесь и в помине нет мыслей, которые преследовали её после освобождения из тюрьмы – о недоверии к власти, о палачах из НКВД. Всё стало несущественным, кроме одного – помочь ленинградцам выстоять и победить фашистов:
Мы будем драться с беззаветной силой,
Мы одолеем бешеных зверей,
Мы победим, клянусь тебе, Россия,
От имени российских матерей…
А в ответ шли письма от благодарных ленинградцев:
«Я лежу, ослабшая, дряблая, кровать моя от артстрельбы трясется, – я лежу под тряпками, а снаряды где-то рядом, и кровать трясется, так ужасно, темно, и вдруг опять – слышу ваше выступление и стихи… И чувствую, что есть жизнь».
Закончилась война, и «муза блокадного Ленинграда» вновь оказывается в опале. Стоило ей поддержать Анну Ахматову после известного постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» в 1946 году, как тут же нашлись желающие упрекнуть Берггольц в том, что присутствует пессимизм в её блокадных стихах, что есть элементы пошлости в одной из её поэм. Но к счастью, до серьёзных обвинений на сей раз не дошло.
Вернёмся к той статье Ольги Берггольц, которая была опубликована в 1932 году. Мне приходилось читать, что её гневный пафос, направленный против Хармса, это всего лишь следствие революционного романтизма юной поэтессы. Думаю, что это не совсем так – Берггольц стала убеждённой коммунисткой ещё до того, как вступила в партию, и даже несправедливый приговор, обида на мучителей, разочарование в людях, которые руководят страной, не поколебали её веры. Она работала для людей, и власть вынуждена была оценить подвижничество поэтессы – наградой стали орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени и Сталинская премия.
В отличие от Ольги Берггольц, выросшей на берегах Невы, Николай Клюев не был сторонником большевиков, хотя принимал участие в событиях 1905 года и даже получил тюремный срок за агитацию крестьян против самодержавной власти. Сложившийся поэт к 1910 году, когда Берггольц только появилась на свет, в начале 20-х годов он был близок к левоэсеровской литературной группировке «Скифы». Изданные в 1912 году сборники стихов "Сосен перезвон" и "Братские песни" сделали Клюева знаменитым. Традиционный крестьянский уклад и православная вера – вот идейная основа его поэзии. К этому следует добавить непривычное для большинства мужчин пристрастие к представителям своего пола, что нашло отражение в его поэзии.
Трагическую роль в судьбе поэта сыграла вышедшая из печати в 1930 году книга Осипа Бескина «Кулацкая художественная литература и оппортунистическая критика», направленная против творчества нескольких поэтов, в том числе и Клюева. Вслед за этим на публикацию стихов поэта наложен был запрет. Солженицын дал такую характеристику Бескину: «принципиальный, идейный критик, литературный доносчик». Одно другому не мешает, и всё же Бескина отчасти оправдывает то, что он считал себя участником борьбы с врагами коммунизма – примерно те же побудительные мотивы были у Берггольц при написании статьи о Хармсе. Надо признать, что в дискуссиях любые выражения допустимы, кроме нецензурных, но тут ситуация особая – в период «обострения классовой борьбы» столь жёсткая критика могла привести к трагическим последствиям для «провинившихся» поэтов.
Зимой 1934 года Клюев был арестован по обвинению в «составлении и распространении контрреволюционных литературных произведений» и по решению суда сослан в Нарымский край. В первоначальном приговоре значилось «пять лет лагерей», однако наказание смягчили благодаря заступничеству Горького.
В ответ на вопрос следователя, каковы его взгляды на советскую действительность и отношение к политике коммунистической партии и советской власти, Клюев, если верить протоколу допроса, заявил:
«Мои взгляды на советскую действительность и мое отношение к политике коммунистической партии и советской власти определяются моими реакционными религиозно-философскими воззрениями».
В материалах дела приведены, в частности, такие стихи:
Скрипит иудина осина
И плещет вороном зобатым,
Доволен лакомством богатым,
О ржавый череп чистя нос,
Он трубит в темь: колхоз, колхоз!
Но основной причиной ссылки Клюев посчитал свою поэму «Погорельщина», которую некоторые чиновники восприняли как язвительную сатиру на коллективизацию – так он и написал своему приятелю, что на «Погорельщине» сгорел. Впрочем, есть и другая версия ареста:
Из протокола допроса Николая Клюева в ОГПУ:
Вопрос: К какому периоду относится начало ваших связей на почве мужеложества?
Ответ: Первая моя связь на почве мужеложества относится к 1901 г…
Гомосексуальные отношения ещё в начале прошлого века стали чем-то вроде модного увлечения среди творческой элиты. Считается, что помимо Клюева грешили этим и другие известные поэты – в частности, Михаил Кузмин и даже сам Сергей Есенин, у которого в то же время отбоя не было от жаждущих любви поклонниц. Чем объясняется тяга Клюева к мужчинам, не станем выяснять. Важно лишь то, что один из его учеников, поэт Павел Васильев, как-то в разговоре со свояком Иваном Гронским обмолвился о странном увлечении Николая Клюева. Надо иметь в виду, что к этому времени уже принят был закон, по которому мужеложество наказывалось лишением свободы на срок до пяти лет. Понятно, что старый большевик, ответственный секретарь «Известий» был возмущён безнравственным поведением известного поэта и, по словам Виталия Шенталинского, обратился к одному из руководителей ОГПУ Генриху Ягоде с предложением избавить советскую поэзию от чуждого ей элемента. Что и было сделано – для начала ограничились только ссылкой, а в 1937 году поэт был снова арестован и затем расстрелян.
Судьба не пощадила и невольного соучастника расправы над Николаем Клюевым. Павла Васильева не назовёшь автором доноса, однако в те времена слова нередко оказывались опаснее нагана и самого острого ножа. Ещё в начале 30-х годов ничто не предвещало будущих несчастий, поэт радовался жизни, влюблялся и писал великолепные стихи:
Прогуляться ль выйдешь, дорогая,
Всё в тебе ценя и прославляя,
Смотрит долго умный наш народ,
Называет «прелестью» и «павой»
И шумит вослед за величавой:
«По стране красавица идёт»…
Так идёт, что ветви зеленеют,
Так идёт, что соловьи чумеют,
Так идёт, что облака стоят.
Так идёт, пшеничная от света,
Больше всех любовью разогрета,
В солнце вся от макушки до пят.
Однако не дремали и противники «крестьянской вольницы». Достаточно привести названия статей главного редактора Изогиза Осипа Бескина, написанных в это же время: «Бард кулацкой деревни», «Кулaцкaя литерaтурa». Впрочем, в одной из своих статей в конце 1933 года Бескин отдаёт должное поэтическому дару Павла Васильева:
«Бросается в глаза огромная смелость, индивидуальная образность, свободное обращение с настоящей, материально ощутимой и всегда особенной плотью вещей. Его поэзия вобрала в себя ценнейшее наследие народного творчества… Перед нами, безусловно, большой поэт».
И вместе с тем, анализируя поэму «Соляной бунт», добавляет ложку дёгтя:
«Уж больно насыщено всё произведение любованием ядрёностью, "богатырской" силой, лихой разудалостью, крепостью домовитых устоев казацкой жизни… Образно-поэтическая акцентировка такова, что это "любование" подталкивает поэта на классово враждебные нашей революции позиции».
Такие «резкие удары критики» Елена Усиевич называла средством перевоспитания поэта.
В апреле 1933 года состоялось обсуждение путей развития советской поэзии в редакции «Нового мира». Вот отрывок из критического выступления Ивана Гронского:
«Возьмите творчество Клюева, Клычкова и Павла Васильева за последние годы. Что из себя представляет это творчество? Каким социальным силам оно служило? Оно служило силам контрреволюции. Это резко, это грубо, но это правда…»
Впрочем, Гронский выразил надежду на то, что поэт ещё способен «совершить прыжок в сторону революции».
Увы, Васильев не оправдал надежд, и летом 1934 года сразу в нескольких центральных газетах появилась статья Максима Горького «О литературных забавах». В ней были и такие слова:
«Жалуются, что поэт Павел Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин. Но в то время, как одни порицают хулигана, другие восхищаются его "кондовой мужицкой силищей" и т.д. Но порицающие ничего не делают для того, чтобы обеззаразить свою среду от присутствия в ней хулигана, хотя ясно, что, если он действительно является заразным началом, его следует как-то изолировать. А те, которые восхищаются талантом П. Васильева, не делают никаких попыток, чтобы перевоспитать его. Вывод отсюда ясен и те и другие одинаково социально пассивны, и те и другие по существу своему равнодушно "взирают" на порчу литературных нравов, на отравление молодежи хулиганством, хотя от хулиганства до фашизма расстояние короче воробьиного носа».
Надо признать, что слухи о проказах и непристойном поведении молодого поэта были известны всей Москве – к его «художествам» относились снисходительно. Хотя одна из таких проказ не раз приводила к обмороку слишком чувствительных молодых дам. Всё начиналось с того, что Васильев покупал на бойне коровье вымя, запасался ножницами и, спрятав вымя под пальто, отправлялся на бульвар в поисках подходящей жертвы… Дальше не буду продолжать, дабы не спровоцировать кого-то на повторение этой «шалости». Могу лишь заметить, что наблюдавшие за Васильевым друзья были в неописуемом восторге.
Казалось бы, всё это пустяки, однако после того, как Горький не исключил возможности превращения поэта-хулигана в фашиствующего молодчика, пришлось принимать решительные меры. В январе 1935 года Васильева исключают из Союза писателей, а через несколько месяцев случился новый скандал – Васильев якобы избил поэта Алтаузена, причём в его собственной квартире. Ходили слухи, что после драки Васильев «ходил по Москве с дубинкой и хвастался всем, показывая на ней запекшуюся кровь». Можно предположить, что всё это было провокацией, организованной врагами популярного поэта, однако реакция на случившееся последовала лишь через несколько месяцев. Сначала «Правда» опубликовала письмо двадцати литераторов, которые потребовали «принять решительные меры против хулигана», а вскоре после этого Васильев был арестован. Из трёх лет в лагерях поэт не отсидел и года – видимо, Гронский, заступившись за поэта, ещё надеялся на его перевоспитание, на то, что жестокий урок заставит хулигана сделать шаг в нужном направлении, воспринять идеи революции.
После досрочного освобождения Васильев уезжает в Сибирь, но в январе 1937 года возвращается в Москву и присутствует на «бухаринском» процессе. Об этом эпизоде рассказал Роберт Конквест в своей книге «Большой террор»:
«Павел Васильев выступил в защиту Бухарина, назвав его "человеком высочайшего благородства и совестью крестьянской России". Это произошло во время суда над Пятаковым. Васильев обрушился на писателей, ставящих свои подписи под антибухаринскими выступлениями в печати. "Это порнографические каракули на полях русской литературы"».
Вскоре после этого скандал последовал арест. Васильева обвинили ни много ни мало в подготовке покушения на Сталина в составе группы террористов. Если бы в личном деле поэта упоминались поездки за границу, то можно было бы обвинить и в шпионаже, что гораздо проще. А здесь нашли не менее убийственный эквивалент.
Оказалось, что драки с коллегами и прочие шалости поэта не идут ни в какое сравнение с тем, что стало жуткой реальностью в тюрьме НКВД. Поэт очень скоро всё признал, всё подписал, оговорив ни в чём не повинных знакомых и друзей, и всё ещё надеясь на спасение, отправил письмо наркому внутренних дел товарищу Ежову. Вот отрывок из этих покаяний:
«Начиная с 1929 года, я, встав на литературный путь, с самого начала оказался среди врагов советской власти. Меня взяли под опеку и воспитывали контрреволюционные Клюев и Клычков… и прочая антисоветская компания… Семь лет я был окружен антисоветской средой… Изуродовали мне жизнь, сделали меня политически черной фигурой, пользуясь моим бескультурьем, моральной и политической неустойчивостью и пьянством… Ряд литературных критиков во главе с И. Гронским прививали мне взгляды, что я единственный замечательный национальный поэт… Враги соввласти А. Веселый, Наседкин и другие подхватывали это, прибавляя… "неоцененный, несправедливо затираемый советской общественностью, советской властью". На почве этих разговоров пышно расцветали мои шовинистические и контрреволюционные настроения… Кроме того, в бытовом отношении я стал просто нетерпим как хулиган и дебошир… Теперь я с ужасом вижу, что был на краю… Мне хочется многое сказать, но вместе с тем со стыдом ощущаю, что вследствие неоднократного обмана я не заслужил доверия, а мне сейчас больно и тяжело за загубленное политическими подлецами прошлое и все хорошее, что во мне было…»
Нетрудно догадаться, что Ежов в раскаяние поэта не поверил. Впрочем, на всякий случай показания на «политических подлецов» подшили к его делу. Эти признания поэта и вправду пригодились – уже через полтора месяц после того, как оформили обвинительное заключение на Васильева, был арестован поэт Сергей Клычков, ещё один «бард кулацкой деревни» по образному определению Осипа Бескина.
Однако хватит о грустном. Перенесёмся на много лет вперёд, в другие, более спокойные времена, когда после некоторого затишья снова развернулись баталии вокруг поэзии. На этот раз объектом критических статей стал Дмитрий Быков. Мне любопытно было бы сравнить, чем нынешняя критика отличается от той, что процветала в прошлом, и можно ли статью какого-либо обличителя назвать таким ужасным словом, как донос.
Начнём с восторженного отзыва филолога Дмитрия Бака, ко времени написания статьи о Быкове в журнале «Октябрь» занимавшего должность проректора РГГУ – университета, ставшего широко известным благодаря скандалу с ЮКОСом и приютившего не малое количество граждан, обиженных на власть. Вот что Бак написал о Быкове: «Он, без всяких оговорок, именно лирик, один из немногих в сегодняшней поэзии». Оправданием столь яркому и недвусмысленному определению может служить лишь то, что ко времени написания цитируемой статьи Быков ещё не увлёкся ни «гражданином», ни «поэтом». Возможно, отечественная поэзия и впрямь в нынешние времена не в лучшем состоянии, однако об этом не берусь судить – это дело филологов, способных весь поэтический массив переварить, то есть, прошу прощения, осмыслить. Я не берусь за недостатком времени.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.