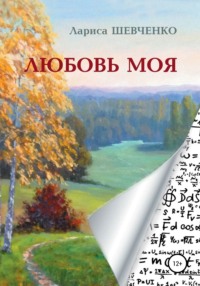полная версия
полная версияНадежда
– Принимай и люби ее такой, какая она есть, – сурово обронила Лиля в ответ на бесконечное нытье.
Я опять удивилась вдумчивости и дружескому проникновению Лили во внутреннюю жизнь каждой подруги.
Оля ушла, и я решилась задать Лиле очень сложный для меня вопрос о ее старшей сестренке. Лиля ответила спокойно и по-житейски просто:
– Что тут поделаешь? Полюбил папа нашу маму. Вика нам наполовину родная, сводная сестричка. Где пять, там и шесть детей не в тягость. Папа считает, что ей в нашей семье лучше. Этим он загладил свою вину и дал возможность маме Вики выйти замуж. Как же иначе?
– Мой отец тоже дочь Люсю к себе забрал. Он не любил ее маму. На праздник выпил много вина и совершил ошибку. А считал себя виноватым потому, что, будучи старше той девушки, обязан был отвечать за свои поступки. Он сам мне так объяснил. Лиля, знаешь, что меня беспокоит? Мне кажется, что за время проживания в селе, я совсем не поумнела, будто все та же восьмилетняя или девятилетняя девочка. Я многому научилась. Но все это касается физической работы. Как и раньше я не могу ответить на бесчисленное количество вопросов, которые возникают у меня ежеминутно.
– Например? – заинтересовалась Лиля.
– Почему у нас часто меняются председатели колхоза? Почему наш колхоз в числе отстающих? Почему взрослые люди делают глупости или гадко поступают? Если я понимаю, что это плохо, значит, они тем более должны осознавать недостойность своего поведения?
– Зачем ты торопишься разбираться во взрослых проблемах? Не лезь в их дела. Пусть они решают их сами. Нам своих забот хватает. Живи детской жизнью. Ты нормальная, толковая девочка. Не засоряй голову ерундой. Каждому овощу свой час. Придет время, и ты найдешь ответы на все сложные вопросы. Папа говорил, что твое эмоциональное развитие опережает физическое.
– Это плохо? – мгновенно встревожилась я.
– Папа считает, что хорошо, – улыбнулась Лиля.
На сердце сразу отлегло, и я заторопилась домой.
– Приходи завтра, мы будем дописывать сценарий и готовить костюмы к спектаклю, – пригласила Лиля.
– Если отпустят, – ответила я хмуро. – Вчера Зинаиде Ивановне пообещала прийти в школу и не смогла. А она мне: «Ты не хозяйка своему слову». Юлия Николаевна услышала наш разговор и засмеялась: «Напротив, она хозяйка – захочет, даст слово, захочет возьмет назад».
Я разозлилась и ответила резко: «Вы же знаете, что моему слову хозяйка – мать, с нее и спрос!» Юлия Николаевна понимающе глянула на меня. «Извини, – говорит, – неудачно пошутила». Я потом жалела, что нагрубила ей.
Иду от Лили и грущу. У них так здорово! А у меня все самое интересное в голове. Вожусь одна во дворе, никто не мешает мечтать о том, что в доме Лили происходит на самом деле. Хорошо, хоть праздники есть и я имею право на кружках готовиться к ним. Только их так мало! Коля постоянно ходит к троюродному брату Вовке и другу Ленчику. Он всегда маленький, а я всегда большая.
Последние годы в своих мыслях я, в основном, жила памятью о Витьке, Иване, Толяне, о взрослой Лиле, больше понимала и жалела несчастных, болела их горестями и печалями. Лучшие друзья для меня были в прошлом. До Лили я жила одиноко и печально. Лиля повернулась ко мне доброй душой, показала, что можно дружить светло и радостно. Она одарила меня спокойствием и уверенностью. Два сердца в одно мгновение поняли друг друга. Это было как озарение. Не представляю причины, которая могла бы когда-либо разъединить нас.
В этой семье я не могу, как раньше, бродить по лесу, мечтать, чувствовать себя лучиком солнца в поле, стрекозой у реки. В любую минуту надо мной довлеет строгое «надо». Все реже и реже возникают во мне желания. Я отвыкаю думать. За меня решают. Мне приказывают, я выполняю… Я разучилась вне школы общаться с детьми, жить их заботами. И вот появилась Лиля, мой светлый лучик одиноких грустных дней. Теперь хоть редко, и зимой я могу устраивать себе праздники души.
ЛЕКТОР
Сегодня после уроков у нас лекция местного художника. На сцене появился седой длинноволосый тощий мужчина в широком помятом костюме. Когда он заговорил, размахивая руками, то его сходство с огородным пугалом еще больше усилилось. Ребята пригнули головы, пряча красные от сдерживаемого смеха лица. Рая толкнула меня в бок:
– Гляди, тот самый, что предлагал нарисовать мою старшую сестру нагою.
– Она согласилась?
– Да. Они договорились встретиться на берегу реки за мостом. И тут он ей говорит: «Раздевайся». Она осталась в купальнике. Он берет кисточку в руки и опять предлагает снять одежду. До Ольги дошло, что не нагой художник собирается ее рисовать, а голой. Схватила платье и давай хлестать старика, приговаривая:
– Ах ты, развратник! Как ты мог предложить мне такое! Я порядочная девушка!
Разобиделась она очень, оскорбилась. И такого твой отец прислал к нам читать лекцию?
– Моя городская подружка Ирина училась в художественной школе и объясняла, что великие художники писали людей без одежды, потому что хотели показать красоту человека. У меня раньше была книга «Эрмитаж». В этом музее собраны картины самых знаменитых художников со всего мира. Ты думаешь, почему этот старик твою сестру попросил позировать? Почему хотел запечатлеть на полотне, «оставить в вечности»? Она похожа на богиню плодородия из эпохи Возрождения. Для него твоя Люба – писаная красавица. Гордись сестренкой. Только я сомневаюсь, что он достоин того, чтобы перед ним раздевались. Я видела его картины в клубе, на станции. Отчетливо помню: не понравились. Примитивная мазня. Не получилось у него разгадать тайну женской красоты, и не под силу ему изобразить на холсте очарование юности. Не прочувствовал он великого мгновения. «Девушка на холме» у него похожа на акулу. И туман вокруг нее не помог усилить восприятие и скрыть отсутствие таланта. Кого он хочет удовлетворить своей безвкусицей? – усмехнулась я неодобрительно. И все же смягчила жесткую критику легким отступлением: – Может, конечно, ошибаюсь? Я люблю творения великих художников эпохи Возрождения. Рядом с ними трудно поставить кого-то из современных авторов.
Лектор суетился, раскладывая репродукции перед проекционным аппаратом. Сгорая от нетерпения, ребята притихли. Казалось: они надеялись увидеть и услышать что-то особенное, исключительное, способное поразить их ум и сердце. Еще ни разу им не читал лекций художник, специалист в области искусства.
Старик довольно складно говорил о Репине, Васнецове и картинки, вырванные из журналов, подобрал хорошие. После лекции мы поблагодарили художника. А Рая сказала ребятам: «Внутри он лучше, чем снаружи». Все рассмеялись.
Вечером я попросила отца еще раз пригласить искусствоведа для моих одноклассников. Но он сердито ответил: «Дешевле книгу о художниках купить, чем оплачивать ему лекции». А я-то думала, что он от чистого сердца на старости лет захотел школьникам передать свои знания!
Перед сном на меня напала хандра. «Ничего нового я не узнала от лектора, ничем он меня не порадовал. Жизнь моя проходит однообразно, бесцветно. Усыхаю без яркого, умного, интересного. В деревне я тупею. Нет в жизни счастья», – скулила я.
Вскоре отец на самом деле купил великолепное издание «Эрмитаж». Большие деньги заплатил! Я была безмерно благодарна ему. Не ожидала от него такой щедрости! Отец очень дорожил книгой, с какой-то особой нежностью брал в руки. Но судьба книги сложилась неудачно. Недолго мы наслаждались ею. Отец обычно давал ее под расписку учителям на уроки, на классные часы и просил быть очень аккуратными. Каким-то образом она попала в руки молодому художнику со станции, и он не захотел ее возвращать. Наконец отец жестко потребовал вернуть книгу, и тот все-таки принес ее. Мы развернули газету, и мне чуть плохо не сделалось, а отец побелел и заскрипел зубами. В книге осталось листов тридцать черно-белых репродукций и несколько цветных, – разлинованных на клеточки. Оказывается, художник подрабатывал копированием всемирно известных картин. Мы долго молча стояли над книгой, как над могилой. Я тихо спросила:
– И сделать ничего нельзя?
– У нас нет законов, чтобы наказывать людей за непорядочность и подлость, – ответил отец раздраженно.
Зато после завтрака меня с Колей ожидал приятный сюрприз. Отец привез из города фотоаппарат «Любитель». Он так аккуратно распаковывал коробку, что мы дыхание затаили от волнения. Черный ящичек не произвел впечатления, но все равно отец даже пальцем не дал его потрогать. Вдруг верхняя часть аппарата раскрылась. Затем медленно выплыл объектив. Я заерзала от нетерпения. Но отец предупредил:
– Фотографировать буду сам. Вещь дорогая и хрупкая.
В тот же день он выпилил лобзиком в листе фанеры окошко для красного стекла, и вместе с Колей закрыл им окно на кухне. Потом строго по инструкции приготовил проявитель и закрепитель. Таинственное незнакомое занятие интриговало еще и потому, что отец не доверял нам. Любое дело доверял, а это – нет! Обидно было. Но ведь оно особенное! Это тебе не сено ворошить или бревна тесать!
В темной комнате под одеялом отец зарядил пленку и принялся фотографировать всех по одному и компанией, а когда проявил пленку и повесил сушить на бельевую веревку, нам даже дышать на нее не разрешил. После обеда первым делом все направились смотреть изображения. Пленка была черная, а фигуры светлые. Но мы сразу разглядели себя и пришли в неописуемый восторг. Мы с братом были очень послушны, боясь не попасть на первое изготовление фотографий. Отец не хотел меня пускать, сказал, что тесно будет втроем, но я принесла два ведра холодной воды для промывания снимков и не ушла из кухни. Коля постелил на столе белую бумагу, расставил ребристые ванночки и потушил лампу. Кухня осветилась слабым красным светом. Когда глаза привыкли к темноте, я заметила, что лица и губы наши побледнели, а моя красная кофточка превратилась в розовую.
– Смотри, Коля, в красном свете цвета меняются! – обрадовалась я новому открытию.
– Без тебя заметил, – ответил брат сердитым шепотом.
– Не отвлекай, – строго сказал отец, – а то выгоню.
Я присмирела. Отец положил первый кадр пленки на фотобумагу, прижал железными пластинками, осветил на раз, два, три специальным фонарем с выключателем и быстро окунул бумагу в проявитель. Мы уставились на спокойную гладь воды. В ней медленно появлялись очертания лица.
– Мама! – закричал брат.
Фотография стала чернеть, и отец быстро перебросил ее в ведро с водой. Я вымыла ее и положила в закрепитель. Удовольствие, конечно, поразительное! Мы возились в растворах до тех пор, пока уличный свет, проходя сквозь красное оконце, позволял нам не спотыкаться друг о друга. Легли спать счастливые.
Глава Вторая
ВЕЧЕРНИЕ ЧИТКИ
Иногда зимними вечерами после ужина бабушка остается на кухне убирать посуду, а мы торопимся в комнату родителей. Отец садится читать за стол, а мы втроем удобно устраиваемся на диване. Керосиновая лампа освещает только книгу и лицо отца. В тишине комнаты, где в полумраке вместе с язычком пламени на стенах дрожат наши тени, услышанные события представляются таинственными, загадочными, пришедшими из древности.
Сегодня отец взял с полки пьесы Островского. Я несколько раз начинала читать эту огромную тяжелую книгу в сером замусоленном переплете с пожелтевшими от времени страницами. Но истории о купцах казались мне неинтересными, и я оставляла скучное занятие.
Отец читает негромко, но выразительно, соблюдая все паузы на месте знаков препинания, выделяя голосом тонкости поведения и взаимоотношения между людьми. Я жалела маленьких несчастных людишек, живущих безрадостной жизнью, полной мелких бед и забот, без высоких идей и восхищения. И все же не понимала, почему отец с удовольствием читает о «мышиной возне» вокруг денег, о суетной жизни? Другое дело – «И один в поле воин»! Героические будни разведчика захватывали всю нашу семью. И когда приходила моя очередь бежать в сарай, чтобы узнать, не появился ли у нашей коровы теленок, я умоляла не читать без меня ни единой строчки.

Но потом, вникая в содержание пьес, я стала находить некоторое сходство характеров героев с людьми, живущими рядом. Вот эта религиозная до глупости женщина – наша соседка, а вот эта, неприветливая, всегда смотрящая исподлобья – медсестра, которая живет через выгон от нас. Желчная, завистливая, злобная. Даже не верится, что войну прошла. «Век другой, а люди такие же?» – удивлялась я.
Я видела, что отец читает с упоением. Ему нравился сам процесс! А прежде чем вслух читать стихи, он изучал их, тренировался в уме и только потом декламировал их нам.
– Папа, вы как артист, – сказала я ему как-то после «посиделок».
Он задумчиво ответил:
– Этим семью не прокормишь. Да и куда нам, деревенским, в высокие материи? Я в детстве еще математику очень любил, а ближе всего к дому находилось педагогическое училище. Вот и стал историком.
Мне хотелось выразить отцу сочувствие, но я не решилась.
ЛЮДМИЛКА
Легкая поземка шуршит по изломанному насту. Спит парк под белым одеялом облаков. Грустит размытый лик солнца. Воздели руки к небесам могучие тополя. После уроков я бегу домой напрямик по замерзшим лужам, катаюсь на галошах и размышляю.
Нравится мне Людмилка из параллельного класса. Крепкая, задорная, постоять за себя может. Ребятам уроки объясняет на переменах, как и я. Активистка. И почему ее папа как зверь? В школе на собраниях красиво говорит о необходимости строгого трудового воспитания, об уважении к старшим, а родная дочь его боится и ненавидит. Ну, подралась она с Вовкой. Так и мне случается «размяться». Что тут такого? Правда, Вовка матери пожаловался, и Людмилкин отец «изметелил» дочку железным протезом ноги перед всей улицей. Будто мяч гонял по дороге, в пыли валял. Тонко взвизгивала Люда. В черных глазах мелькали и злость, и страх. С ужасом смотрел Вовка, как металась Люда. В ушах звучали тупые удары протеза по ногам и спине. А на следующий день пришел он просить прощения. Лицо осунулось, посерело. Уголки губ и глаз опустились. Даже нос будто длиннее и тоньше стал. «Ни в жизнь не сделаю такого больше ни с кем», – боясь разжать зубы, бормотал он, опустив голову.
Хоть и перед всем классом, а не смог слез сдержать.
А когда у них был классный час на тему «Чему научились дома за год», оказалось, что Людмилка умеет больше всех: и обувь чинить, и в мотоцикле с пользой покопаться, и девчачьи дела, пожалуйста, тебе – любые.
– Кто тебя научил всему? – приветливо спросила учительница.
– Отец, – понуро ответила Люда.
Учительница больше не решилась задавать вопросы, только похвалила ее перед всем классом за первое место. Лицо Люды сразу просветлело.
Подружки мне про это рассказывали.
А еще за каждую четверку отец ее в угол на соль и кукурузу ставит. А на прошлой неделе Максим на уроке русского языка записку-самолетик послал Людмилке. Но не долетел он, перехватил Иван Стефанович. Прочитал и такой довольный говорит Люде:
– Передам отцу. Посмотрим, как ты после этого на уроках сидеть будешь.
По классу прошел гул неодобрения. Люда знала, как Максим к ней относится, догадалась о содержании послания и разволновалась, представив реакцию отца на их детскую любовь, поэтому ответила резко:
– Помирать, так с музыкой.
Вечером отец измолотил дочку широким солдатским ремнем с железной пряжкой. На следующий день весь класс урок литературы начал с «приветствия» учителю. Минут пять гудели с закрытыми ртами.
А недавно Людмилка получила двойку за подсказку и за то, что на уроке читала книжку про занимательные явления в природе. Не пошла она домой. За хату, где глухая стена, спряталась в снегу, сосульки есть и думает: «Вот замерзну и умру, тогда отец поймет, что нельзя так с детьми обращаться». Жалко ей себя стало. И вдруг как закричит: «Ненавижу! Ненавижу!..» В стену начала ногами стучать… Потом вскинулась: «Из-за какой-то двойки умирать!? Может, кому-то еще хуже, чем мне бывает? Выдержу, вырасту назло ему. Бей, плакать не буду! И мать ненавижу за то, что не может меня защитить и заставляет просить прощения у отца, даже когда не виновата. Не буду больше извиняться, хоть убей!»
И пошла в хату. Отец, как всегда с порога, потребовал отчет. Даже раздеться не позволил. Когда узнал, что двойка за подсказку, наказывать не стал.
Раз я увидела старшую сестру Люды и спросила, почему она не защищает младшую? Она грустно посмотрела на меня и ответила:
– Не бить же мне отца-инвалида? А слов он не понимает.
И вдруг завелась:
– Ненавижу его за праведную жестокость! Слова доброго от него никогда не слышала, только побои получала за всякую малую провинность. Ненавижу за то, что верует он в свою правоту и безнаказанность! Любви, защиты хотела от него! Никакой радости в детстве не видела. Я трудолюбивая, многое могу, но все это со злостью, с остервенением. Я часто ловлю себя на мысли, что готова ударить сына. Руку заношу и вспоминаю о своем детстве. Грубость и несдержанность у меня от него. Стараюсь себя пересилить, а это отцовское так и вылезает из меня! Знаю за собой грех – жесткая, не очень ласковая. Видать, потому, что сама ласки не знала. И к матери с нежностью не подхожу. В душе хочу, а приблизиться не могу. «Здравствуйте», – и за дела берусь. Не умею, как дети в других семьях голову приклонить к ее плечу. И сынка своего приголубить не могу…
На день рождения Максимка Людмилке целую горсть брошек подарил. Его бабушка их сама делает и на рынке продает. Что случилось, не пойму? Людмилка вдруг швырнула их на пол, и давай топтать. Максим с глазами полными слез смотрел на Люду, не в состоянии вымолвить ни слова, Потом долго сидел на грязном полу, машинально теребил в руках жучков и бабочек, расправлял им крылышки и смотрел куда-то далеко-далеко. Он никого не замечал вокруг. Мы боялись его трогать.
Людмилка ничего этого не видела. Домой убежала.
УРОДИНА
Сегодня утренник. После уроков мать послала меня домой за новогодним костюмом и масками, которые она купила для учеников своего класса. Бегу через любимую аллею. Утром деревья были нарядные, а к обеду ветер отряхнул пушистый иней, и они опять осиротели. Чернеет парк. Тлеют угли рябины. У дороги навытяжку стоит караул пирамидальных тополей. Чуть колышется темно-зеленая топь старых елей. Мне взгрустнулось. Увидела в глубине парка ярко-желтый, солнечный домик. Он порадовал меня. Почему раньше не замечала? Может, его недавно покрасили? Наверное, его обитатели живут счастливо. От такой мысли повеселела.
Вдруг засияло солнце, и я попала в другой мир. Заискрился снег. Заиндевелые корзиночки ягод рябин теперь казались мне рубиновым украшением в брильянтовой оправе. На снегу появились четкие картины теней, замелькали невидимые ранее снежинки. Свет берез как всегда белолиц. Я попала в мир красоты и мечты. «Наверное, снежинки – звездочки надежд», – подумалось мне. Надо же! Перекликаются невидимые птички! Каждый день хожу по этой аллее, а птичий концерт первый раз за зиму слышу! Может, у них тоже сегодня праздник?
На Новый год мне хотелось порхать снежинкой вокруг елки, но мать предложила быть Снегурочкой, потому что костюм простой и ткань потом в хозяйстве можно использовать. Возражать не посмела. Одела обшитые марлей пальто и шапку и давай маски перед зеркалом примерять, рожицы строить. Весело!
Входит отец, а я в клоунской маске «нос Буратино» делаю. Сдернула маску с лица и стою довольная собой.
– Рот до ушей, хоть завязочки пришей. Что в маске, что без нее. Уродина, – процедил сквозь зубы отец.
Я сравнила маску со своим отражением и задумалась: «Он считает мое лицо глупым или гадким?» Взгляд упал на фотографию, что стояла на комоде. На ней выпускной курс отца. Я спросила:
– Почему на вашем курсе студентки не очень красивые, слишком взрослые и строгие?
– Красивые в институтах не учатся, они рано замуж выходят, – криво ухмыльнулся он.
Мне сделалось обидно за мать, и я пробурчала:
– Зачем же вы на образованной женились?
Отец не нашелся, что сказать, и ушел на кухню. А я размышляла: «В каком случае он солгал? Сегодня, когда сделал намек, что мать некрасивая, или летом, когда рассказывал другу о том, как все солдаты и офицеры целый год оглядывались на его жену во время службы в Мурманске? А про меня он правду сказал? Ну и пусть я уродина, главное, что не глупая».
И все же грусть коснулась моего сердца. Я собрала маски и пошла на утренник.
Но как-то не удался праздник. Я как снежный ком бродила по залу. У меня не было роли. На меня никто не обращал внимания. К тому же в пальто было даже сидеть жарко, какие уж тут танцы вместе со снежинками! Дед Мороз вручал детям подарки за выступления, а меня не позвал с собой. Потом награждали за активное участие и костюмы. Снежинки все получили, а обо мне не вспомнили. Я же не была активной. И все же грустно. Хоть бы шоколадную конфетку дали. Праздник ведь.
Вернулась домой скучная. На кухне встретила бабушка:
– Детка, я пирожки с картошкой, как ты любишь, сделала.
Я обрадовалась. Настроение улучшилось.
– Бабуля, что бы я без вас делала! – улыбнулась я, глядя в лучистые добрые глаза.
НА ФЕРМЕ
Сегодня моя очередь дежурить на свиноферме. Попросила бабушку разбудить в шесть часов. На улице темно хоть глаз выколи. Шуршит мелкий колючий снег. Ферма занесена в поле, и дорога к ней не расчищена. Иду по колено в снегу, пытаясь попасть в следы от чужих, больших валенок. Их цепочки с разных сторон ведут к длинным сараям фермы. Сначала направилась к избушке, по окошки занесенной снегом. Из трубы шел темный, противный дым. «И чем только топят? Кизяками (сухим навозом), что ли?» – подумала я. Добралась. Прислушалась. Сквозь дверь доносятся смех и восклицания. Приоткрыла дверь. В нос ударили запах гнили и зловоние махорки. Серый сумрак вперемешку с табачным дымом клубился над столом. С трудом разглядела четырех мужчин. Работники меня не видели и продолжали развязно говорить, через слово употребляя мат. «От пьяных мужиков всего можно ожидать. А потом не докажешь, кто прав, кто виноват», – рассудила я и тихонько прикрыла дверь.
Ветер завывает и скребет снегом о стены. Замерзла. Надвинула на лоб шапку-милицейку, которую давным-давно подарил мне дед Яша, и присела на корточки, прижавшись к двери. Так теплей.
Вспомнила снежную бурю на прошлой неделе. Долго ворота откапывала. Бабушка уговорила надеть шальку, но через двадцать минут я влетела на кухню, растирая замерзшую голову, и опять натянула ушанку. А на следующий день ребята встречали закутанных в шали девчонок дружным смехом: «Кулемы, зимы испугались». Я возмутилась и объяснила подругам, что в шапках намного теплее, чем в платках, и что мерзляки они, мальчишки. Вспомнила осень, свою фетровую шляпку. Я единственная в школе хожу как городская. Не удалось матери заставить меня ходить в платке, только летом в поле и на огороде я надеваю белый, спасаясь от солнечного удара, и то потому, что не покупают мне соломенную шляпу…
Наконец, пришли еще две девочки из нашего класса.
– Чего так поздно? Я совсем околела, – недовольно буркнула я.
– А ты бы еще в пять появилась. Ума нет.
– Так ведь сказано к семи.
– Если все, что говорится, да еще и выполнялось бы, так давно бы коммунизм был, – засмеялась Валя.
– Вот и надо стараться.
– Не будь занудой. Мамаша погнала?
– Нет, сама.
– Это же колхоз, а не школа, где все по звонку.
Я промолчала.
Зашли на «кухню». Подвыпившие мужики встретили нас пошлыми шутками. Нина из шоферской семьи, поэтому грубо оборвала рабочих:
– Мы помогать пришли, а не вас выслушивать! Нам еще уроки делать.
– Девочка, сбегай за самогоном к Даниловне, – протянул мне грязную бутылку беззубый старичок с венчиком сивых волос на костлявой лысой голове и мутными глазами.
– Не пойду, – осмелела я.
– Нехорошо. Старый человек просит.
– А если попросите своровать, я тоже должна буду вас послушать?
– Ну, то воровать.
– Пить тоже не хорошо, – сказала я как можно вежливее.
– Лекцию пришла читать, вздорная девчонка, – сделал обиженное лицо плюгавый старичок.
– Нет. Где картошка?
– В углу. Котел на печи, дрова у окна, – рявкнул тот, что моложе, не отрываясь от карт.
– В чем картошку мыть? – обратилась я к упитанному старику.
Тот тупо глянул перед собой, а потом, брызгая слюной, расхохотался мне в лицо:
– Ха! Умереть, не встать! На… ее мыть? Свинья потому и свинья, что грязь любит.
Я брезгливо отвернулась. Валя занялась печкой. Нина пошла в колодец по воду, а я принялась перебирать картофель, счищала липкую холодную грязь. Набрала уже два ведра гнили, а целых картофелин так и не обнаружила.
– Скажите, пожалуйста, что мне варить поросятам? Здесь только гнилая картошка, – спросила я четвертого, самого молодого колхозника.