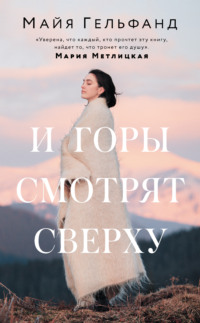Полная версия
Субботние беседы. Истории о людях, которые делают жизнь интереснее
– Что вы имеете в виду?
– То, что идет вопреки логики и соображениям о так называемом благополучии. К черту это благополучие, потому что есть что-то важнее, что-то больше, что-то, что сидит внутри и горит, и требует от тебя немедленных действий. Своеволие – это доказательство себя как личности. Те, у кого оно не проявляется, представляют из себя не людей, а толпу.
– Вы не хотели быть частью толпы.
– Нет, не хотел. Меня с ранней юности толкал какой-то инстинкт.
– Инстинкт идти против толпы?
– Да.
– Даже если это опасно?
– Да.
– То есть вы нарывались, провоцировали власти?
– В известном смысле, да.
– Вы понимали, что вас посадят?
– Конечно. Но тут еще был элемент жертвенности. Я понимал, что если я выбрал этот путь, то арест неизбежен.
– Вы не боялись, что вас там просто убьют?
– Просто убить могли и на воле.
– Ну в лагере больше шансов.
– Это правда. Но не все же можно предусмотреть. Я вступил в это сообщество людей, а дальше жизнь потекла по инерции. Надо журнал издавать – я его стал издавать. Произошел мятеж в Муроме – я поехал его освещать. Надо связаться с иностранными журналистами и передать тексты – я связываюсь. Нам, кстати, приписали еще подготовку покушения на Хрущева. Но этого не было, конечно. Это была подстава КГБ. Но нам повезло, в тот момент велись чистки в рядах КГБ, и на суде нам решили не пришивать это дело.
– В двадцать два года вас посадили. За вами лязгнула железная дверь, вы оказались на зоне. Как вы там выживали?
– Первые семь лет с одной стороны я сидел очень легко, а с другой – очень тяжело. Сначала меня определи в лагерь строгого режима, и это было относительно легко. Я ничего не понимал, я должен был вжиться, обосноваться, утвердиться, это было очень важно. Первые года три-четыре были послабления в лагерях. Мы ходили в цивильной одежде, читали книги, у нас была интересная публика, мы там собирались, стихи читали. Потом вдруг меня вырвали и перевели в лагерь особо строго режима.
– Чем он отличается?
– О, это страшный лагерь. Во-первых, полосатая одежда. Во-вторых, дикий голод. И расстрелы на каждом шагу. За один год у нас расстреляли девятнадцать человек по статье 77 прим. За наколки на лице или на ушах отрезанных, за то, что стукача назвал стукачом, это называлось «преследование заключенных, ставших на путь исправления».
– Это концлагерь?
– Какой концлагерь! Это хуже намного. И голод, дикий голод. Тогда я впервые съел собаку.
– Голод был способом давления?
– Да пойди их пойми! Сидело там очень много интересных людей. Например, кардинал Слипый, его арестовали, как главу униатской церкви на Украине. Его посадили в 45-м, а в 63-м по просьбе Папы освободили.

А потом маманя моя нашла адвоката, заплатила ему последние деньги, и он доказал, что меня перевели незаконно, видимо, из-за записи о покушении на Хрущева. И через год меня вернули обратно.
– А вас били? Пытали?
– Никогда. ГБ не знало, как себя вести. Там шли чистки, бериевские люди сменялись на новых, поэтому они боялись лишний раз вляпаться в какую-то историю. Кроме того, у них есть масса других возможностей давления. Собирают сведения, ищут слабое ребро, за которое можно подвесить. Зачем им бить?
– То, что в фильмах показывают, – неправда?
– Сейчас бьют, а тогда нет. Им это не нужно было. Они пытались по-всякому меня расколоть. Однажды даже подсадили ко мне в камеру уголовника, который пытался меня «соблазнить». Проверяли, может, я пидарас. Но не получилось у них. Эти методы отчасти смешные, потому что топорные. Вообще, КГБ плохо работает, очень грубо. Да и все спецслужбы халтурщики.
– Второй раз было легче?
– Да о чем вы говорите! Даже сравнения никакого быть не может! Надзиратели меня уважали, не трогали. Знали, что со мной можно иметь дело, я не стучу и никогда не попадусь. Иногда ночью надзиратель открывает дверь: «Кузнецов! Мотоцикл разбил, дай сто рублей!» Ну ладно, говорю, только дверь закрой. Это специально, чтобы он не знал, где я деньги храню. Естественно, я знаю, что он не может вернуть, у него просто денег нет. Но зато послабления всякие даст, продукты принесет, кусок сала, например, или сквозь пальцы посмотрит на какие-то нарушения. Вот у нас хлеб был мокрый. В лагере были две пекарни, одна для заключенных, а другая для надзирателей. Мы голодовку объявили, сняли директора пекарни и где-то в течение полугода нам приличный хлеб, пропеченный, давали. Ну что ты, мать, это совсем другое дело было! Меня не трогали, после обеда даже давали поспать.
– Вот вы отсидели свой срок, вышли на свободу. Вы молодой еще человек, вам двадцать девять лет. У вас нет образования, вам запрещено селиться в Москве. Как вы устраивались в жизни?
– Сначала я работал на текстильном комбинате в ста километрах от Москвы грузчиком. А потом я женился, уехал в Ригу и стал там работать в больнице переводчиком с английского языка.
– А когда вы успели выучить английский?
– Как когда? В лагере. Мы получали книги, книг было много. И время было. Поэтому я учил английский. Я переводил медицинскую литературу по теме самоубийства. Тогда впервые в Советском Союзе разрешили исследовать эту тему.
– И вот, жизнь начала устраиваться…
– Ну нет, конечно. Я же добивался выезда в Израиль, а мне четко объяснили, что разрешение не дадут.
– Эдуард Самойлович, объясните мне такую вещь. Ведь вы не росли в еврейской семье, еврейской традиции. Ведь ваше окружение было русским. Откуда такая тяга к сионизму? Откуда любовь к Израилю?
– Вы Шульгина читали?
– Нет.
– Это член Государственной Думы дореволюционной, антисемит, один из тех, кто принимал отставку императора Николая второго. Очень умный человек, который написал книгу «Почему мы их не любим?»1. Любопытнейшая книга. И он, в частности, говорит, что он против смешанных браков евреев с русскими, потому что в таких браках рождаются не русские, а евреи, кровь евреев намного сильнее. Это люди более талантливые и пассионарные.
– Вы отказались ехать в Америку, Канаду?
– Да. Я всегда делаю то, что говорит моя совесть.
– А ваша совесть говорит, что ваше место здесь?
– Да, абсолютно.
– А вы всерьез рассчитывали угнать самолет?
– А почему нет? Самолет – штука хорошая.
– Но вы же понимали, что вас подстрелят.
– А мы написали, что, если нас попытаются приземлить против нашей воли, мы на это не согласимся. Стреляйте, гады!
– Вы же несли ответственность за всех остальных людей.
– Ну куда деваться, мать, ты странные вопросы задаешь! Ведь все взрослые люди, понимали, что они делали. Мы же со многими это обсуждали. Я им объяснял: ребята, вас все равно посадят. За то, что вы просто обсуждали эту тему, вас посадят. Дадут вам по десять лет ни за что. Вам будет противно сидеть. А мы -то за дело сидели!
– И вам было не противно?
– Конечно. Когда сидишь за дело – это совсем другое дело!
– То есть вы понимали, что в любом случае вас ждет расстрел?
– В каком-то смысле да.
– Это противоестественная ситуация, это противоречит инстинкту самосохранения!
– Да, человеку иногда хочется послать в задницу все соображения о благополучии, о спасении, и сделать так, как он считает нужным.
– Даже несмотря на то, что вы рискуете жизнью.
– Да. Мы накануне видели, что нас пасут, гэбисты даже не скрывались. Я ребятам сказал: еще не поздно, можете отказаться. Но никто не отказался.
– А как на вас вышли сотрудники КГБ? Вас предали?
– Нет. Просто за нами была слежка, наш план было невозможно утаить. КГБ все время следили за активными сионистами, даже периодически выявляли группы злобных сионистов-подпольщиков. Так что это невозможно было утаить.
– Вы понимали, что вам не дадут угнать самолет?
– Мы понимали, что это маловероятно. Хотя мы летели под предлогом сионистского съезда и, зная, как топорно работают спецслужбы, мы могли надеяться на то, что они не поверят в наш замысел и дадут нам улететь. Я рассчитывал на идиотизм ГБ.
– Куда вы собирались лететь?
– В Швецию.
– А там что?
– А там мы бы попросили политического убежища, и дальше разлетелись бы кто куда.
– У вас не было оружия?
– Были дубинки.
– Вы были против кровопролития?
– Да, мы должны были высадить двух пилотов. Специально для этого приготовили спальные мешки, чтобы они ночью, связанные, не замерзли. Это была принципиальная позиция – никакой крови.
– Ваша попытка угона самолета – это был акт отчаяния?
– Нельзя загонять людей в угол. Нельзя этого делать. Мы были вынуждены сделать что-то, чтобы привлечь к себе внимание. Мы были доведены до предела. Мы должны были показать им зубы: не надо загонять нас в угол, вам будет от этого хуже.
– Ну хорошо, вы от природы борец и бунтарь. Но подавляющее большинство евреев Советского Союза решило приспособиться, строить карьеру, идти по партийной линии.
– Я даже не здоровался с теми, кто пошел по партийной линии.
– Вы их презирали?
– Конечно. Это конформисты. Им только презрение полагается. Странный вы человек, а как иначе? Человек только тогда состоится как личность, когда он противостоит окружающей среде. В нацистской Германии человек обязан был быть против нацизма, а в коммунистической России – против коммунизма.
– А если бы вы родились палестинским арабом, вы бы что сделали?
– Во-первых, я бы покончил собой.
– А во-вторых?
– А во-вторых, служил бы Израилю.
– То есть стали бы предателем родины?
– Да. Я и так предатель родины, ну что поделаешь.
– А предатель родины в ваших глазах – это не презренный человек?
– Смотря какая родина. Ответ перед Богом важнее, чем ответ перед земными властями.
– Итак, угон самолета не состоялся и вас приговорили к смертной казни. Что чувствует человек, когда сидит в камере смертников?
– Трудно сказать… Ждет смерти. Я себя утешал тем, что до меня расстреляли миллионы, а теперь пришла моя очередь.
– А как вам объявили о помиловании?
– Это было под новый год. 31-го декабря меня заковали в наручники и ночью повезли куда-то четыре надзирателя. Я был уверен, что меня ведут на расстрел. Единственная мысль была: не показать, что я боюсь.
– А вы боялись?
– Естественно. Но я должен был достойно встретить свою смерть. Ну, а там мне объявили о замене смертной казни на пятнадцать лет заключения.
– Вы испытали облегчение?
– Я не поверил. Потому что никто ведь не знал, как приводят в силу смертный приговор. Одна из легенд гласила, что смертникам специально сообщают о помиловании, чтобы они расслабились и не сопротивлялись. Потом, правда, я получил телеграмму от Сахарова и Боннэр, мол, поздравляем. Но я все равно не верил. И только недели через две, когда меня из камеры смертников перевели в обычную камеру, я поверил.
– Как вы не сошли с ума?
– Наверное, ума мало было.
– Ну а если серьезно. Что вас держало?
– Ненависть.
– А кроме?
– Я писал дневники.
– У вас была бумага, карандаш?
– О, это целая история. Сейчас я вам покажу.
Он уходит и возвращается с конвертом, из которого вываливаются прозрачные длинные отрезы бумаги, исписанные крохотным, миллиметровым почерком.

– Это те самые знаменитые «Дневники», которые вы писали в лагере?
– Да, они самые.
– Обалдеть! А что это за бумага?
– Ха, такой бумаги нет на свете, кроме как в лагерях. В соседнем уголовном лагере делали радиодетали и заворачивали их в эту бумагу. А извозчик был у нас один на два лагеря. Он за пачку чая доставал мне эту бумагу. Я скатывал эти записи в тонкий рулон и ждал иногда месяцами, пока ко мне приедет на свидание кто-нибудь из друзей, кому можно доверять, и можно будет эти дневники передать на Запад.
– Скажите, а после того, как вам объявили о помиловании, вы поверили в Бога?
– Тогда – нет.
– А когда?
– Уже здесь, в Израиле. Здесь слишком много чудес, мать. Надо быть слепым и глухим, чтобы этого не видеть и не слышать. Ведь мы находимся в сердце истории, этого невозможно не заметить. И Бог здесь все время присутствует.
– А когда вы приехали в Израиль, вы не испытали разочарования?
– С какой стати? Никаких особых иллюзий у меня не было. Я знал, что это маленькая, провинциальная, нищая и воюющая страна. И я знал, что мы приехали сюда, чтобы строить ее. Я определил для себя так: Израиль – это нормально плохо.
– В отличие от Советского Союза, в котором было ужасно плохо?
– Да. Здесь было нормально плохо, а там было совсем плохо.
– Приехав в Израиль, вы перестали бороться с режимом?
– Конечно, я же не параноик, чтобы все время бороться. Было уже не до этого. Надо было жизнь устраивать.
– Я читала, что вас приговорили к расстрелу без конфискации имущества за отсутствием оного. То есть у вас ничего не было?
– Абсолютно. Я ехал голый. У меня даже чемодана не было.
– И вот, в Израиле начался новый период вашей жизни. Вы создали газету.
– Да, я создал газету «Вести», тираж которой на пике превышал тираж «Хаарец».
– Но у вас же не было журналистского опыта?
– Никакого. Я даже газеты тогда не читал. Я купил лучшие англоязычные газеты на то время, взял оттуда разные идеи, выработал некий приблизительный образ идеальной газеты, набрал сотрудников, сформулировал принципы и начал трудиться.
– Эдуард Самойлович, интеллигенция исторически всегда выступала против власти. Так было и в Советском союзе, и израильская интеллигенция не исключение…
– Я понял, можете не продолжать. Менахем Бегин сказал: «Арабы – наша беда, левые – наше проклятие».
– И вы согласны с этим?
– Да. Левизна – это разновидность душевной болезни.
– Но ведь они тоже борцы с режимом.
– Ну и что? В дурдоме тоже полно борцов.
– Тогда и про вас можно было сказать то же самое…
– Мы боролись за справедливое дело, а они – нет. В этом разница. Они исходят из ложных посылов, социалистических. А это идиотизм.
– С точки зрения Советского Союза вы были предателем родины. С точки зрения многих граждан современного Израиля левые радикалы предатели родины. Вы не видите сходства?
– Нет. Я же говорю, они исходят из ложных, абстрактных, посылов, поэтому вся эта левая конструкция ложная и нежизнеспособная. Вообще, работать должны оба полушария мозга, и левое, которое отвечает за абстрактное мышление, и правое, которое отвечает за конкретное.
– Но вы же сами говорили, что были времена, когда вы находились на грани срыва, когда вы не думали о своем благе, а исходили только из своих убеждений и верований?
– Да, было. И это было неправильно, но необходимо на тот момент.
– Вы сейчас пришли к гармонии?
– Да, абсолютно.
– А если бы была возможность изменить что-то в вашей судьбе, вы бы ей воспользовались?
– Нет, я вполне доволен. Учитывая конечный результат, выяснилось, что все было правильно. Я ведь не сломался, не предал никого. Я достойно вынес все испытания. А сейчас, наконец, занимаюсь тем, что я люблю.
– Чем?
– Читаю те книги, которые мне по сердцу, думаю, занимаюсь спортом.
– Я хочу завершить это интервью рассказом о вашей дочери, Анат. Она сняла о вас фильм.
– Да, и получила четырнадцать международных премий.
– На нее не давит груз вашей известности?
– Нет, она вполне самостоятельный человек. Очень толковая девушка, все правильно понимает, умеет сформулировать, организовать людей.
– Вы гордитесь ей?
– Да, очень даже. Хотя бы для того, чтобы она родилась здесь, нужно было пережить то, что мы пережили.
Мы встречались с Эдуардом в большом доме под Иерусалимом, где он живет вместе со своей женой, поэтом и певицей Ларисой Герштейн. В саду стоят вековые тутовники, вокруг, в сосновых лесах растут грибы и дикая вишня. Мы сидели на балконе, с которого открывается вид на столицу, пили кофе и ели нежный сливочный десерт с белым шоколадом и ананасом.

Шоколадно-сливочный десерт с ананасом
Ингредиенты:
Для насыпной основы:
– 100 гр. масла
– 200 гр. муки
– 50 гр. сахара
Способ приготовления:
Растереть масло с сахаром и мукой до получения крошки. Запечь крошку в духовке до готовности (10—15 минут).
Для шоколадно-сливочного наполнителя:
– 200 гр. белого шоколада
– 100 мл. сливок
– 10 гр. сливочного масла
Способ приготовления:
Довести до кипения сливки, добавить шоколад и снять с огня. Когда шоколад начнет топиться, добавить сливочное масло разбить его блендером. Отправить в холодильник до застывания.
Способ формирования десерта:
Выкладываем основу в десертный стаканчик, сверху добавляем сливочный наполнитель. Украшаем кусочками свежего ананаса.
Саша Галицкий. История о старости
Под мягким нажимом хорошо заточенной стамески закручивается тонкая кудрявая стружка. Следом появляется запах – запах свежего дерева. Еще несколько движений, и появится контур. За ним – очертание фигуры. Потом, много позже, – готовая работа, вырезанная из дерева. Сделают ее старческие руки, измученные болью и скрюченные артритом, но все еще чувствующие под своими пальцами и нежное податливое дерево, и острое лезвие инструмента. Художник Саша Галицкий – человек удивительный. Пятнадцать лет назад он бросил свою обычную и вполне успешную работу ради того, чтобы учить стариков резьбе по дереву. Сегодня этот человек с широкой улыбкой и печальными глазами – мой собеседник.

– Саша, в последнее время вы стали главным специалистом по старикам. Вы пишете книги, о вас снимают фильмы, вас цитируют. Скажите, а старость – это страшно?
– Мы честно говорим?
– Конечно.
– Тогда, конечно, страшно.
– Страшно – потому, что близка смерть?
– Нет, смерть сама по себе не страшна. Страшно быть старым: когда отключаются органы, когда тело постоянно болит. За длинную жизнь мы платим болью и неудобствами.
– А почему вы считаете, что смерть не страшна?
– Потому что человек уходит и все, перестает существовать. Страшен сам процесс ухода. Все люди, немного пожившие и подумавшие о жизни, ждут перехода легкого и надеются на него. Но это мы говорим о тех людях, которых минули страшные болезни и деменция. Они умирают от старости.
– Какой средний возраст ваших учеников?
– Средний возраст от 75 до 97, а самому старшему в этом году будет 105 лет. Правда, он пару лет назад перестал ходить.
– Такая длинная жизнь – это благословение или проклятие?
– Я думаю, что это благословение. Как сказала одна из моих подопечных, юная девушка: «Тот, кто стыдится своей старости, не достоин ее». И, мне кажется, это очень правильная фраза. Ведь люди, которые так долго живут, готовы к смерти. Они видят ее постоянно. И когда количество тех, кто уже «там» становится больше, чем тех, кто еще «здесь», то понятно, что скоро и твоя очередь наступит.
– А вы привыкли к этому процессу? Ведь вы тоже очень часто сталкиваетесь со смертью.
– И да, и нет. Очень трудно, как это случается неожиданно. Когда ты приходишь на урок, и вдруг говорят, что человек умер. Это очень тяжело. Это как вдруг в душе разверзлась дыра. Ведь вот он, только что был, я с ним беседовал, он вырезал условно своего козлика. И теперь его нет. Я, когда прихожу на уроки, действую как электрический прибор, который выдает энергию. А когда такие вещи происходят, то эту энергию просто неоткуда взять. Создается вакуум. Мне нечего дать, а им нечего получить.
– Тяжелая у вас работа.
– На самом деле, мне повезло. Мне удалось придумать, как сделать из моей работы арт-проекты. Вот один из самых известных проектов «Ван Гоги». Это когда мы вырезали портреты Ван Гога. Получилась целая выставка.
Или проект «Неуспевающие». Я придумал, что это как будто школа, где некоторые ученики «не успевают». Вообще это очень специфическая школа, куда приходят, условно, в десятом классе, а уходят в первом.
– Этот процесс происходит на ваших глазах?
– Ну конечно. Это обратный процесс, когда у человека выпадают первые зубы, потом он начинает ползать, а потом превращается в ничто. Я себя ощущаю рыжим клоуном. Я не могу избавить их от болезни и смерти, но я могу сделать так, что человек встанет через три часа и скажет: «Я не заметил, как пролетело время».
– Где вы берете на это силы?
– Пока вырабатываю сам. Но это правда сложно. Я раньше не верил в эти энергетические вещи. А сейчас понимаю, что такое энергетическое истощение. Мне всегда после работы нужно время, чтобы восстановиться.

— Коучеры и психологи любят рассказывать мотивирующую историю о том, что однажды в доме престарелых проводили опрос. И спрашивали пожилых людей, о чем они жалеют в жизни. И все отвечали: «О том, что не успели сделать». А вы, как человек, который каждый день видит стариков, можете сказать, о чем они жалеют?
– Я не буду спорить с психологами. Но я думаю, что каждый жалеет о своем. Но вот сегодня я спросил одного деда: «Ты хочешь сбросить пятьдесят лет?» И он сказал: «Конечно!». А другие не хотят возвращаться назад. Они считают, что прожили свою жизнь, и этого достаточно. Но старым быть тяжело, я все время возвращаюсь к этой мысли. Ведь старость – это возраст хрупкости. Когда любая поломка может привести к смерти. И это происходит моментально. И я это вижу каждый день. Сегодня он прекрасно выглядит, ходит, работает. В общем, огурец. А завтра… Не хочу пугать.
– Эти люди, с которым вы работаете, прожили страшный двадцатый век. Может быть, самый страшный в истории человечества. Чему вы у них учитесь?
– Я учусь видеть в них себя, мне интересно, что будет со мной. Я вижу, что каждый день – это подарок. А еще я учусь у них свободе. Я учусь не играть в те игры, которые навязываются мне извне. А вообще-то я работаю с разными людьми. И с теми, кто прошел через концлагеря, и с создателями космических проектов, и с бывшими мясниками.
– И вы чувствуете разницу?
– Разница потрясающая. Люди менее успешные в жизни – они более благодарные, нежели те, кто поднялись очень высоко по жизненной лестнице. «Принеси-подай-поди вон!» – это, конечно, больше относится к тем, кто был очень успешен в своей прошлой жизни. Они более целеустремленные, сконцентрированные на своей работе. Они понимают, чего они хотят и приходят на кружок, чтобы я им это дал. А те ребята, попроще, они более теплые. Они могут прижаться ко мне щекой, обнять. Это очень трогательно.
– А вы всех помните? Их имена, истории?
– Я не понимаю вопрос. Ну как я могу их не знать? Ну, конечно, я их помню. Я помню всех людей, которые ушли. Причем иногда люди перестают ко мне ходить, а потом через какое-то время возвращаются. Я в какой-то момент понял, что я для них важнее, чем они для меня. Это люди, у которых есть цель – сделать проект. Мне с ними комфортнее, понятнее, чем с детьми, например. Потому что дети могут поменять решение, им может наскучить. А они люди усидчивые. Они работают до конца.