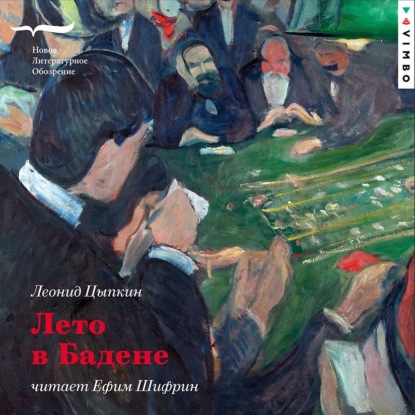Полная версия
Показания поэтов. Повести, рассказы, эссе, заметки
Суждения Кузмина 1920‐х годов, в отличие от более раннего времени (в частности, написания статьи «О прекрасной ясности», 1910 г.), имеют по преимуществу стилистическое50 направление; его интерес как критика принадлежит в первую очередь материалу, нежели форме в чистом виде. Кроме этого, их отличает чёткое разделение «литературных» и «человеческих» истоков творчества, и предпочтение отдаётся «эмоциональной восприимчивости» автора в работе с живым словом, нежели механическому заимствованию готовых литературных форм. В данном случае понятие поэзии совпадает для Кузмина с её предметом – скорее, чем с тем, каким образом она выражается. Подчёркнуто утверждая в своей «Декларации» о «ширящемся» новом поэтическом настроении, изжившем и переварившем «все чувства, мысли старого Запада <…> страдающего духовным запором», Кузмин, более по предположению, смог угадать действительное направление художественных поисков времени. Однако стилевое наполнение его собственной работы существенно отличается от эстетической направленности западных модернистов, определявшейся в реакции на вкусы «конца века», а поэтому демонстративным обращением к исключительно современному материалу. Здесь он – опять – как бы предвосхитил позднейшее обращение авангарда к полистилистике и переосмыслению наследия мировой культуры в утверждении её неразрывной связи с повседневной современностью. По словам Дж. Мальмстада и Г. Шмакова, в рамках одного лирического цикла «Кузмин использует Плотина и гностиков, как и Гофмана, Мериме, Теннисона, Пушкина, Шуберта, Вагнера и фильмы немецких экспрессионистов»51. Как поэт «живой культуры» он придаёт привычно «литературным» темам свежесть и своевременность выражения, эмоциональное напряжение насыщенности. Он поражает свободой и прямотой лирической интонации, и если в стихотворениях критиком замечены «разнообразие строфики в сочетании с многообразием размеров и оригинальностью ритмических ходов, свободные переливы от размера к размеру <…> интонация гибкая, „разговорная“ <…> на пределе допустимой в поэзии живой речи»52, то масштабные композиции построены ещё более смело и существенно раздвигают границы вышеупомянутой допустимой. Дальнейшее расширение таких пределов можно проследить на пути развития ленинградской поэзии, от Введенского и Хармса до сегодняшнего круга «Поэтической функции» (А. Драгомощенко, В. Кучерявкин, С. Завьялов, С. Магид и др.).
На рубеже 1950‐х годов определённые итоги формального развития «новой поэзии» были подведены американским поэтом Ч. Олсоном – наряду с Э. Паундом и У. К. Уильямсом, признанным сейчас одним из лидеров «революции слова» в англоязычной поэзии, – создавшим теорию «проецирующей» (разъятой, разомкнутой)53 стихотворной формы и наиболее полно выразившим её в программной статье «Разъятый стих» (1950). У Олсона существует широкое понятие свободной формы как присущей поэтическим работам, созданным вне твёрдых литературных законов в пользу непосредственного, эмоционального восприятия и такого же его воспроизведения. Новое отношение к форме взаимосвязано с новым отношением к реальности. «Проблема, – пишет Олсон, – наделить своё творчество серьёзностью <…> достаточной, чтобы заставить рукотворную вещь занять подобающее место рядом с творениями природы»54. С этим связано понятие «объективизма», которое вводится для метафизического переосмысления «неисчерпаемого мира предметов» и действия художника, направленного на его избавление от «лирического вмешательства индивидуального „Я“, – это приводит к поэтическому произведению, сущностью которого будет не описание, а воссоздание неповторимого эмоционального восприятия путём «проецирующего» перенесения в «открытое пространство» собственно вербальных, ассоциативных возможностей поэзии. Основной принцип Олсона: «Форма – никогда не больше, чем продолжение содержания», тогда «стихотворение» – энергия, передаваемая оттуда, где поэт её получил <…> путём самого стихотворения, и именно так, читателю»55. Соответственно, организующим принципом стихотворного организма становится «дыхание» пишущего, речевая сила языка («речь плотна стихом», по Олсону), слог, задающий ритм и строку – в противовес ориентации на традиционные строфику и ритмику, определяемые как старая основа «замкнутого» и «непроецирующего».
В настоящее время «проецирующий» принцип сочинения является основным средством выражения новой американской и европейской поэзии (школа «Аксьон поэтик» во Франции, «Лэнгвидж скул» в США и т. д.), хотя в обиходе традиционалистически настроенной литературной критики существует термин «постмодернистское стихосложение». Пристальность современного интереса к русской художественной жизни 1920‐х годов и её соотнесение с общей картиной мировой культуры ХХ века позволят, вероятно, полностью оценить не только значение М. А. Кузмина в развитии ленинградского, условно называемого поэтического авангарда, но и выдвинутое им понятие «эмоционализма» шире, нежели несвойственную его принципам попытку создать очередное направление, увидев в этом скорее попытку определения возможных путей для русской поэзии.
<1990><От составителя («Шоковая терапия»)>
«Я хорошо знаю, что моя работа – причинять страх», – так прощается с читателем Альфред Хичкок, пожелав ему «белой ночи» наедине с одним из придуманных, составленных и отредактированных им сборников. Альфред Хичкок представляет рассказы самых разных писателей: ужасы, приключения и детектив – истории, от которых холодок бежит по спине. Сказки бессонницы. Рассказы, от которых схватывает дыхание.
Впервые на русском языке мы представляем вам антологию, собравшую характерные рассказы серии, каждый выпуск которой с замирающим сердцем читают и переводят во всех странах мира, кроме, пожалуй что, Монголии и Вьетнама.
Доктор Альфред Хичкок. Зловещий коротышка с брезгливым лицом, осенённый реющей стаей чёрных ворон. В бокале, который он поднимает за вас, вместо льда плавает человеческий глаз. Его компания – убийцы и отравители, всяческая нечисть и чертовщина, и с ними – случайные жертвы разгулявшейся фантазии человека. Его лицо на глянцевых обложках собранных им книг.
Таким его представляют миллионы, в испарине смотревшие его фильмы (у нас популярны «Птицы»), из года в год подписчики «Журнала жутких историй Альфреда Хичкока», непременные члены его «Гильдии тайн». В этой гильдии знаменитые писатели: Эллери Куин (сам «отец» серии антологий), Стивен Кинг, Эд Макбейн, Иан Флеминг и… даже Агата Кристи. Знаете ли вы, что и сэр Артур Конан Дойл собрал сборник ужасающих и загадочных историй? А Джозеф Конрад? Но что иностранцы? Первый народный гений, солнце русской поэзии… С каким удовольствием доктор Хичкок включил бы в сборник своей серии знаменитого «Гробовщика» или «Уединенный домик на Васильевском»…
Итак, начиная со странных и холодящих историй Альфреда Хичкока, мы намерены представить вам лучшие и прежде запретные книги зарубежных писателей, мастеров ужаса и загадки, а также забытые и неизвестные фантазии русских авторов.
Смысл не в пропаганде жестокости, в какой бы форме это ни подавалось, а в свободном наслаждении причудливыми изгибами воображения и исследовании таинственной природы человеческих желаний и поступков. То, что вы прочтёте здесь, бывает, но пусть не повторяется иначе чем на страницах книги.
<1990>Сабаста
(Избранные главы)
Белле Матвеевой
Когда из-под кромки льда сгорает спирт, видишь пастбища и города, купола и реки, людей или статуи – но картина такая же невнятная, как неподвластные им речи, ни вообще именам.
5…
Встреча, какой быть, угадана. Что увидишь, то и сбывается
в случай, где я или нет, неизвестно,
ещё слепая до времени. Вид бухты зноя и страстных лиц,
и странных, на склоне солнца, благо-
приятный прогулкам о воскресении, о скрытой гибели в свиданиях со
спутницей трепещущего тела, при свете мнимых отпечатлений памяти
звезда, истлевшая в горизонте
белёсой, как лень, накипи. Катер, рассекающий волны, безвольно
любезный сердцу мотор?
Сначала, я и бледная женщина на постели были одно лицо. Помню, я и <она> по вечерам замирала и брала меня под руку, а потом исчезала за поворотом. Прикосновение, о котором я думаю, ни истома, ни по привычке что-то мешало её рассмотреть, будто моё лицо было труп. Я клялась ей в любви к себе. Но после нахожу её на постели и удивляюсь: как это? значит, я забуду своё тело, только узнав её
возвращенное быть мной (ты помнишь, мы шли по проспекту, разглядывая базар? Я подобрала перчатку, и мне подошла. Ты раскрываешь книжку, я вижу карту в изображении: лицо, скрытое сетью улиц. Я обернулась и вспомнила, что брожу, одна, по блошивнику, всматриваясь в прохожих). Звезда, тлеющая в горизонте.
Так,
Обожаемый Ангел случается символом
при удачной картине домов и парка. Корейская принцесса кофе
играла марш пустыни Гоби, хрусталь по воздуху
медовых чашечек благоухание. Слепой,
идёшь, пока, на побережье среди голоса…
Я прохожу по парку, вглядываясь.
Дети будут смеяться, как я влюбилась в себя.
Однако в памяти я представляю всё, и даже твою слабую жилку в излучине у груди. Ты совсем не похожа, но потому моего слабого тела и не было бы, не вспоминай я о нашей встрече.
6Где я? твой след вокруг
восковой шёпот окна, ширма шёлка – пара покинутых туфель. Круг комнаты. То, что исчезло в теле, останется. Вместо лица (вороний шорох огня, твои скулы сквозили песком наречия) ты не скажешь меня. Кто я
(скажи меня, повтори, как сказала ему
—
Луна стоит сильно и высоко. Жабы из камня
сурьма в плеске: прелестный лик омута
взгляд луны, летучей по зеркалу озера (это было прикосновение. Природа не больше, чем ты есть. Мы, казалось, в одном теле: найди отражение и соответствие. Мыши, жаворонки на закате воды, в паутине. Часовой луч пруда. Чёрная, когда я ныряю, морока рукам тлеет в холоде
скользкая тишина лангуста. Не рак, женщина чешуёй многих сосцов, узкий зрак совиного глаза. Дерево. Гладкий, белый и бородатый, прыгал с саблей по берегу. Из-за дуба другой с воплем всадил ему редьку в задницу. Тот упал.
Как истошные псы, выли, уставив косматые морды.
Игорный круг стола поднял ладони.
И гаер, размалёванный под тебя, крался в пляс. Зал, до люстры, был разрисован, по-индийски, змеиным орнаментом совокупления: север и юг, части света, аллегории и двенадцать созвездий для порядка системы. Соответственно, публика. Дюжий мужик, негр, и накрашенный юноша, обнявшись, квакали, шагая «лошадкой». Сова сорвалась и летела
в чёрной глади воды узнала её: это
—
я? голос был так отчётлив:
«Я, марка и дыхание Петербурга, карта соответствия судеб, чудесных и неизменных: и самоубийство, и странная, сумеречная любовь. Нет ни меня, ни тебя – не то, что избегает внимания, сгорая пожаром в чаду дивного, нового соединения».
—
Ты вышла, а я, с зеркальцем, жду тебя на диване в папиросном дыму.
9Кому не спалось от пустующих стен: за ними другие пристрастия; «вчера» ушло дальше того столетия. Любовь стала памятью лучших дней, когда всё было цвет, вкус, запах. Где мы, где они? Жизнь была нужна, чтобы пустое зрение наполнить призраком: так и картина в зале, летучей вчерашней дымкой. Разные панели, цветы и золото: атлас и бархат, светло и ветер. Никого нет, и всё на своих местах; тихо и звонко. Золото волос, танец в теле: хрусталь бьётся, за ней паркет, дальше – ветер и горизонты. Любовь была только воспоминание лучших, неведомых дней. Или минут? Ни стен, ни пейзажа: одна девушка среди криков далёких вещей. Вот и всё
<1990>Островитянин
Кинг Фишер
Кинг Фишер (р. 1946) живёт в Бостоне. Американский прозаик и славист. В прошлом году посетил Советский Союз.
В биографическом словаре «Новейший Плутарх» под редакцией Льва Львовича Ракова остался неуказанным Георгий Лаврович Бремель, петербургский механик и автодидакт. Причины этого политические: Бремель, неизвестно куда исчезнувший в годы Гражданской войны, был настоящим убийцей Моисея Урицкого. Хотя бы поэтому задерживаешься на его необычной жизни, тем более что даже ко времени создания «Плутарха» её следов практически не осталось.
Георгий Лаврович был сыном Лавра (Лоуренса) Карловича Бремеля, обрусевшего англичанина на имперской службе. Его родней были, конечно, военные.
Васильевский остров, в немецком квартале которого он провёл детство и юность, – вообще издавна место загадочное и романтическое. Когда-то за академическим фасадом, за промышленной частью шли тишина, неизвестность и уединение. Малые острова славились ведьмачеством, Гавань – разбоем и авантюрами. На одном, православном, Смоленском кладбище – чудодейственная часовня Ксении, на другом, лютеранском, лежит Фридрих Максимилиан Клингер, друг и старший соратник Гёте, в чине русского генерала и кавалера. Видимо, эта natura loci заставила Георгия Лавровича, оставив курс, выйти на вольные хлеба поэта и журналиста.
Его стихи, точнее, несколько поэм в прозе не замечены и забыты. В них виден человек символистского настроения, не без влияния Раббе и Алоизия Бертрана, младших французских символистов.
Журналистика, напротив, была успешной: как очеркист и хроникёр столичных изданий, автор «Всемирной иллюстрации» Георгий Лаврович обрёл независимость, вслед за духовной, материальную. Его удачами были очерки нравов реликтовых народностей, научно-техническая хроника; для нас здесь важно его устремление, во-первых, к открывательству и, во-вторых, к методике: это объясняет его первые заметки в журнале «Врач», начавшиеся как случайный заработок, но вскоре вполне определившие дело его жизни.
Снова нужно вспомнить особенности среды, которая в то время его окружала. Близость музеев, как Кунсткамера и зоологический, академических лабораторий, где, как известно, у него были приятели и соседи, неиссякаемые в Петербурге изобретатели и энтузиасты, не могла не направить область знаний и интересов к обманчивой в восхитительной простоте механике, к экстравагантности физиологии.
Его увлечением стало изготовление анатомических препаратов; причём патология, которая обычно задерживает человека ещё до рождения, первой заинтересовала его как стремление всякой природы к изысканию и совершенству.
Несмотря на огромные сложности, связанные для дилетанта с такой деятельностью, он начал. Мы можем понять его как современника великих эстетических помыслов времени: в изобретении, где польза подчинена образу, стремлению, он видел настоящий предмет бескорыстного и совершенного искусства. К сожалению, богатый музей Медицинской академии никогда не имел его лучших опытов: в основном это были фантазии на тему андрогенеза и сиамских аномалий. Сохранились упоминания об одной из его работ: это был препарат, изображавший человека, остановившегося и развивавшегося дальше на стадии различения и пола, и моторных рычагов организма; автор назвал его «Уриан», очевидно в честь греческого Урана. Второе издание каталога Музея редкостей Винтера содержит изображения экспонатов, проданных туда Бремелем; в их числе сиамские близнецы, сросшиеся замкнутым кругом. Всё это, к сожалению, одни скелеты.
В то время он занимал, недалеко от Среднего проспекта, квартиру пополам с Эмилием Христофоровичем Хазе, универсантом-физиком и также человеком, достойным отдельного рассказа. Здесь произошла драма. Адъюнкт Хазе принадлежал к изыскателям вечного двигателя: когда его исследования подошли решительно и построенный мобиль был запущен, последовал сильный взрыв, лишивший Георгия Лавровича квартиры и имущества, адъюнкта – жизни, а Васильевский остров – незаурядного дома рядовой застройки.
В скором, однако, времени скончался отец Георгия Лавровича, оставив ему дом, садик и неплохую ренту. Теперь он мог забыть обязанности и целиком отдаться изобретению.
Он оставил труднодоступное препараторство и перешёл от статических, жизнеподобных моделей к более общим и динамическим. Все его следующие труды были посвящены движению и энергии.
Трудно сказать, как на него повлияли опыты адъюнкта Хазе; известно, что большое значение имели его увлечения народной богородской игрушкой. Сегодня этнографы, а не дети знают этих деревянных птичек, клюющих зерно и бьющих хвостами, молодых на качелях, медведей, бьющих по наковальне. А некогда этот промысел кроме детских доставлял и взрослые развлечения: в коллекции у Георгия Лавровича были «Послушник», «Мужик с бабой в бане», «Конокрад» и много других образных персонажей. Он не чуждался и собирательства забавок, надувных и кинематических, которые распространялись по всей России задолго до изобретения массажёра. Понятно, что трагический взрыв перпетуума мобиле не мог не дать мысли Георгия Лавровича нового энергического импульса. Последние тихие десять лет его жизни были упрямым художеством.
Скромному островитянину принадлежит, пожалуй, величайшая догадка в истории физических наук. Как чистый ум, он верно подозревал о первопричинах и итоговых следствиях любого энергетического толчка материи; нужна была многолетняя практика и завидная свобода, чтобы прийти к поворотному, стремительному штриху мастера.
В письме, наспех составленном другу в Литейную часть (телефоническое сообщение тогда ещё не вошло), можно прочесть:
«…что любое движение безотносительно, бесполезно и поступательно лишь в отношении эротического взаимовзаимодействия (sic!) сил природы…»
Такие были его выводы. Его мобили, сохранившиеся в воспоминаниях, следующие:
«Элоиза», паровой двигатель замкнутого цикла на пирите («горящих камнях»), испарительный. Машина, названная по-женски в честь первых американских паровозов, была создана на основе многоведёрного тульского самовара и, по свидетельствам, всегда была влажная и горячая.
«Содом», пружинный, и «Гоморра», ленточный, механизмы, взаимосвязанные и приводимые в скорость набором флюгеров. Георгий Лаврович, человек по-германски сентиментальный, украсил их кружевами и надписями по-латыни.
Наконец, венцом был «Гермафродит», сложнейшая конструкция из колёс, шестерён, молотков и спиралей, работавший в сложном ритме толчков, рычага, ударов и возвратных движений. Это стройное, в чёрный цвет, сооружение разместилось в саду.
Ему хотелось найти место для собравшихся за годы изделий; в одном из переулков за Андреевским рынком он нашёл помещение, где разместил свой «Салон предметов внаём», куда мог зайти любой и взять на бесплатный прокат абсолютно бесполезную для себя вещь. Там стояли в стеклянных шкафах его механики и препараты, панели были украшены резьбой и лубочной гравюрой откровенного и привозного характера, а на полках в витринах лежали разности.
Это были ручки лорнетов, шары, фишки, номера извозчиков, перчатки без пары, аптечные склянки с рецептами, подзорные трубы без стёкол, таблички из ботанического сада и так далее.
Простейшие гаджеты, мячики на колёсах, палка с дыркой, щелкунчик, ёжик с резинкой, набор рож, которые можно было одна на другую накладывать…
Игрушки действительно были чудо. Что до салона, то он все пять лет своего существования ни разу не открывался.
Обе революции Георгий Лаврович, человек порядочный и педантичный, принял без симпатии. В первую послеоктябрьскую зиму он не без влияния молодёжи предпринял «Музей человеческих наук, или паноптикум технологии», но категорически отказался сопровождать своё мероприятие политической экспликацией. Это и то, что его последние исследования были посвящены кинематехнике кокаина, повлекли разгром и музея, и всех коллекций чекистами. Драматический импульс этих первых репрессий и совершенное оскудение в разрушенном Петрограде дали Георгию Лавровичу мысль разработать новую и впечатляющую, но на этот раз беспредметнейшую комбинацию.
Неочевидные обстоятельства убийства председателя Петрочека не позволяют полностью представить себе предмет, дотошно исследовать всю механику, принадлежавшую здесь Бремелю: например, непонятно, насколько удачен был выстрел того неизвестного, которого потеряли в погоне чекисты, в какой степени его можно принять за арестованного Леонида Канегиссера и какое место занимает этот единственно сохранившийся эпизод в том грандиозном раскладе, который был осуществлён вполне с размахом «личных действий» той поры. Остаётся картина умертвления красного Марата тираноубийцей, молодым поэтом. Известно, что следы Георгия Лавровича с этих пор, конечно, теряются. Л. Л. Раков, знакомый (без сомнения) с фактами большинства самобытных изыскателей нашего времени, не мог не знать чрезвычайных трудов Бремеля – так же как не мог не быть посвящённым в определённые детали «дела Урицкого»: он был вполне дружен с Юрием Ивановичем Юркуном, близким приятелем Канегиссера (допустим и то, что неопределённые слухи, предания, позже существовавшие по поводу в Ленинграде, много послужили самой идее книги «Новейший Плутарх»). Разрозненные наброски и материалы, предположительно его руки, были по драматическому стечению обстоятельств открыты (и любезно предоставлены нам) известным историком русской физики Игорем Вишневецким. Эти драгоценные фрагменты, а также архивные исследования и сопоставления, предпринятые доктором Моревым, позволили наметить те контуры, за которыми предполагаются ещё новые поколения изыскателей и комментаторов.
<1991>[Эдуард Родити]
Я полагаю, что и сегодня Эдуард Родити согласен с тем, что – как он сам написал 50 лет назад в своём «Предисловии к автобиографии» – «вышеупомянутый автор, Р., никогда не существовал»: по крайней мере, заглавие «Новые иероглифические истории» предполагает, что они, как и «Старые» Горация Уолпола, сложены «незадолго до создания мира» и сохраняются на необитаемом, ещё не открытом острове Крампокраггири. Иначе мне трудно объяснить себе, какой симпатической связью они вдруг обнаружились здесь, в Петербурге, среди книг, привезённых из Америки Аркадием Драгомощенко, как раз тогда, когда я раздумывал, что же идёт за пустыней, описанной Полом Фредериком Боулзом. Нужно сказать, что образ Эдуарда Родити внушает мне глубокие личные подозрения.
Однако по общественным, документальным свидетельствам можно проследить, что некто Эдуард Родити родился (и живёт теперь) в Париже, в семье американского бизнесмена, учился в Оксфорде, Чикаго и Беркли, служил переводчиком (в том числе после войны на Нюрнбергском процессе, потом для ЮНЕСКО, ЕЭС и других), читал лекции по истории искусства и литературы в американских университетах. Своей литературной судьбой он напоминает друга его юности Пола Боулза; ему долгие годы не удавалось издать книги своих стихов или поэм в прозе, он печатался изредка и в редких журналах, его грядущий читатель всё ещё ждёт своего итальянского режиссера. В 1928 году Родити написал первый англо-американский манифест сюрреализма, который уже тогда определил его расхождение с тем, что впоследствии определило настроения англоязычной словесности. Его искусство, действительно, резко противоречит сложившемуся за этот век американскому модернизму с его уверенным, по-своему утверждающим и даже патриотическим пафосом и формотворчеством, так же как претит традиционной лирике: оно опирается на много старшие, не всегда чётко уловимые, но неизбывные романтические традиции. Эдуард Родити – не случайно автор как самого, пожалуй, глубокого исследования творчества Оскара Уайльда, так и книги проницательных, элегантных бесед о новом искусстве (интересно, что он был близко дружен с нашим нелепо малоизвестным у нас соотечественником, Павлом Челищевым). Его работы, в чём бы это ни проявлялось, прежде всего – в способе чувства и жизни, в изобретении неповторимого самого по себе опыта.
В. К. <1991>Весной этого года читатели «Митиного журнала» впервые прочли на русском языке рассказы из «Новых иероглифических историй» Эдуарда Родити. К немноголюдному обществу, приветствовавшему этого поэта (со времён журналов Стайн и Бретона круг остался узок), мы присоединились последними: в мае Эдуард Д’Израэли Родити скончался в Париже, 82 лет.
Поэзию часто уподобляют странствию. Когда сами происхождение и личная судьба поэта делают его «чужим здесь и везде» среди руин потерянного мира, для нас он живое воплощение существа этого чудесного испытания, опровергающего иллюзии. Потомок константинопольской ветви знаменитого сефардского рода (его отец стал гражданином США), усвоивший с рождения, как потом писал, «два языка и более», Родити вырос между Европой и Америкой и провёл жизнь в международном артистическом кругу за службой в разъездах. Писатель, историк искусства, лингвист и переводчик с пяти языков, он наследовал романтическую традицию в искусстве, осмыслил и развил её глубоко и сильно – с подлинностью уединённой мысли, которая здесь, в Петербурге, встретилась нам особенно близко и печально.